В. Астафьев. Ягодка
(1)Куда только не занесут охотника ноги!
(2)Меня затащили они в скалистый распадок, где вдруг увидел я во мшистых камнях, среди горной репы и колючек, землянику в цвету. (3)Октябрь месяц, глухая осень, лист почти весь упал, иней и утренник звонкий не один уж выдавался, а земляника цветет!
(4)Я наклонился к ней. (5)На тощеньком стебельке в багровых листьях жил и растерянно глядел на осенний мир беленький цветок. (6)Холодом подпалило округлые лепестки его. (7)Ягодка, только еще зародившаяся, черной точкой светилась в цветке, и умерла уже ягодка, цветку оставалось жить день, от силы два…
(8)И тут в моей памяти неожиданно всплыла сцена, увиденная на станции Комарихинская.
(9)Толпа рыбаков и пассажиров, ждущая поезд, как по команде повернула головы в одну сторону.
(10)От пакгауза двигалась безногая девушка. (11)Она опиралась взятыми в руки деревянными колодками и бросала вперед свое коротенькое тело в кожаной корзине. (12)И была она не в тряпье, не грязная и не пьяная. (13)Непривычная она была, и оттого все смолкли и загляделись на нее: в зеленом ярком берете, из-под которого выбивались льняные кудряшки, голубоглазая, в модной блузке.
(14)Рядом с девушкой шла пожилая женщина, должно быть, мать. (15)Они о чем-то разговаривали, и нарядная девушка делала вид, что не замечает оторопелых лиц и очень она занята разговором.
(16)Так они миновали перрон, людей, и такой бы она и осталась, независимой, гордой, но перрон кончился, и нужно было девушке с женщиной переходить пути.
(17)Она перебросила легкое тело через один рельс, через другой, и внезапно корзинкою задела за третий. (18)Корзинка легко отделилась от девушки, выпало из нее короткое тело.
(19)Девушка упала на бок. (20)Берет зеленый тоже упал, и кудряшки рассыпались, завалили щеку и глаза девушки.
(21)И кто-то уже загоготал в толпе по-жеребячьи, и кто-то уже облаял загоготавшего…
(22)Женщина подняла девушку, усадила в корзинку, отряхнула берет, надела на голову девушки, да еще и поправила его, чтобы сидел на кудрях ладом. (23)И они последовали дальше.
(24)Но перед тем как перебросить свое тело через рельс, девушка обернулась, глянула на нас и…
(25)И с тех пор я ношу тот взгляд в себе. (26)Он пробил меня до самого сердца.
(27)Он был презрителен, надменен, этот взгляд, и будь у девушки глаза взрослые, так бы оно и осталось — презрение и надменность. (28)Но голубые детские глаза читаются. (29)За вызовом и надменностью глубоко-глубоко билась растерянная беспомощность: «Что я вам сделала плохого?..»
(30)И знаю ведь, ничего банальнее нет, чем сравнение этой девушки с земляникой, не к месту и не ко времени расцветшей на речном скалистом обрыве. (31)Но ничего не поделаешь — так они и живут в памяти рядом: цветок, что никогда не станет ягодой, и девушка, которой не видеть счастья…
(По В. Астафьеву)
(1)Мне не раз доводилось бывать в покинутых русских деревнях. (2)Ох, какое это зрелище! (3)К нему не притерпеться, не привыкнуть. (4)Я, во всяком разе, не смог. (5)Ведь некоторым сёлам, которые так поспешно, охотно, вроде бы с облегчением списывали со счёта, — тыща лет! (6)А может, и более. (7)И самое печальное зрелище — это оставленная, заброшенная русская изба, человеческое прибежище.
(8)Я заглянул в окно покинутой избы. (9)В ней ещё не побывали городские браконьеры, и три старенькие иконы тускло отсвечивали святыми ликами в переднем углу. (10)Крашеные полы в горнице, в середней и в кути были чисто вымыты, русская печь закрыта заслонкой, верх печи был задёрнут выцветшей ситцевой занавеской. (11)На припечке опрокинуты чугунки, сковорода, в подпечье — ухваты, кочерга, сковородник, и прямо к припечью сложено беремя сухих дров, уже тронутых по белой бересте пылью. (12)В этой местности дрова заготавливают весной, большей частью ольховые и берёзовые. (13)3а лето они высыхают до звона, и звонкие, чистые поленья радостно нести в дом, радостно горят они в печи.
(14)3десь жили хозяева! (15)Настоящие. (16)Покидая родной дом из-за жизненных ли обстоятельств, по зову ли детей или в силу всё сметающей на пути урбанизации, они не теряли веры, что в их дом кто-то придёт не браконьером и бродягой — жителем придёт, и с крестьянской обстоятельностью приготовили для него всё необходимое… (17)Затопи печь, путник или новопоселенец, согрей избу — и в ней живой дух поселится, и ночуй, живи в этом обихоженном доме.
(18)А через дорогу, уже затянутую ромашкой, травой-муравой, одуванчиком и подорожником, изба распахнута настежь. (19)Ворота сорваны с петель, створки уронены, проросли в щелях травой, жерди упали, поленницы свалены, козлина опрокинута вниз «рогами», валяются обломок пилы, колун, мясорубка, и всякого железа, тряпья, хомутов, колёс — ступить некуда. (20)В самой избе кавардак невообразимый. (21)На столе после еды всё брошено, чашки, ложки, кружки заплесневели. (22)Меж ними птичий и мышиный помёт, на полу иссохшая и погнившая картошка, воняет кадка с прокисшей капустой, по окнам горшки с умершими цветами. (23)Везде и всюду грязное перо, начатые и брошенные клубки ниток, поломанное ружьё, пустые гильзы, подполье чёрным зевом испускает гнилой дух овощей, печка закопчена и скособочена, порванные тетради и книжки валяются по полу, — отсюда не выселялись, помолясь у порога и поклонившись покидаемому отеческому углу, здесь не было памяти, отсюда отступали, и жительница этого дома небось плюнула с порога в захламлённую избу с презрением: «(24)Хватит! (25)Поворочала! (26)Теперь в городе жить стану, как барыня!..»
(По В. П. Астафьеву*)
*Виктор Петрович Астафьев (1924 — 2001) — русский писатель, драматург, эссеист
Ягодка
Куда только не занесут охотника ноги!
Меня затащили они в скалистый распадок, в бурелом, в шипицу и малинник. Здесь, на малинниках, спугнул глухаря и пальнул по нему наудачу и попал нечаянно. Да плохо попал. Взялся бегать за подранком, забыл глядеть под ноги, и на гриве, сплошь затянутой брусничником, резиновые сапоги со сношенной резьбой соскользнули, и я полетел из соснового краснолесья вниз. В мешке моем гремели котелок, ложка, кружка, и кости мои вроде бы тоже гремели, а зубы от ударов клацали.
Немного уж, сажени три, оставалось до скользкого среза, и я бы во всем боевом виде ухнул вниз, в осеннюю воду. Из воды камни торчали. Они кляксами на чистой воде казались.
Говорят, что трезвого и умного Бог бережет, а пьяницу и дурного охотника — черт. И не иначе как черт подсунул мне громадный пук колючей шипицы, и я в этот куст въехал ногами.
Застопорил, отдышался, глянул вниз, на воду, и понял, что мне еще жить отпущено. От этого весело мне сделалось, и стал я осторожно подтягиваться, хватаясь за иглисто ощетинившийся шиповник. Так, от кустика к кустику, от камешка к камешку и полз я вверх. До сосновой гривы рукой уже было подать, как вдруг увидел я во мшистых камнях, среди горной репы и колючек землянику в цвету.
Батюшки вы мои! Октябрь месяц, осень, глухая осень, лист почти весь упал, иней и утренник звонкий не один уж выдавался, а земляника цветет!
Я наклонился к ней. На тощеньком стебельке в багровых листьях жил и растерянно глядел на осенний мир беленький цветок. Холодом подпалило округлые лепестки его. Ягодка, только еще зародившаяся, черной точкой светилась в цветке, и умерла уже ягодка, цветку оставалось жить день, от силы два…
И тут в моей памяти неожиданно всплыла станция Комарихинская. Толпа рыбаков и пассажиров, ждущая поезд, как по команде повернула головы в одну сторону.
От пакгауза двигалась безногая девушка. Она опиралась взятыми в руки деревянными колодками и бросала вперед свое коротенькое тело в кожаной седухе-корзине. И была она не в тряпье, не грязная и не пьяная. Непривычная она была, и оттого все смолкли и загляделись на нее.
В зеленом ярком берете, из-под которого выбивались льняные кудряшки, голубоглазая, с блескучими клипсами в ушах, в капроновой блузке и с накрашенными, как у киноактрисы Софи Лорен, губами, широко накрашенными, ярко, вызывающе.
Рядом с девушкой шла пожилая женщина, должно быть, мать. Они о чем-то разговаривали, и нарядная яркогубая девушка делала вид, что не замечает оторопелых лиц и очень она занята разговором.
Так они миновали перрон, людей, и такой бы она и осталась, независимой, гордой, но перрон кончился, и нужно было девушке с женщиной переходить пути. Она перебросила легкое тело через один рельс, через другой, и внезапно корзинкою задела за третий. Корзинка легко отделилась от девушки, выпало из нее короткое тело и сделалось видно подогнутую, узелком связанную юбку, а в корзине-гнездышке — куделя, ватка, чистая тряпица.
Девушка качнула свое тело в воздухе, пытаясь угодить им в гнездо, но уже устала она или растерялась, и угодила мимо корзинки, на мазутный камешник междупутья, и упала на бок. Берет зеленый, только что, видать, снятый с тарелки, тоже упал, и кудряшки рассыпались, завалили щеку и глаза девушки.
И кто-то уже загоготал в толпе по-жеребячьи, и кто-то уже облаял загоготавшего.
Женщина подняла девушку, усадила в корзинку, отряхнула берет, надела на голову девушки, да еще и поправила его, чтобы сидел на кудрях ладом. И они последовали дальше.
Но перед тем как перебросить свое тело через рельс, девушка обернулась, глянула на нас и…
И с тех пор я ношу тот взгляд в себе. Он пробил меня до самого сердца. Он был презрителен, надменен, этот взгляд, и будь у девушки глаза взрослые, так бы оно и осталось — презрение и надменность. Но голубые детские глаза читаются. За вызовом и надменностью глубоко-глубоко билась растерянная беспомощность: «Что я вам сделала плохого?..»
И знаю ведь, ничего банальнее нет, чем сравнение этой девушки с земляникой, не к месту и не ко времени расцветшей на речном скалистом обрыве. Но ничего не поделаешь — так они и живут в памяти рядом: цветок, что никогда не станет ягодой, и девушка, которой не видеть счастья.
(1)По возвращении из краёв далёких засаживал я свой огород в деревне всякой древесной разностью, рябинами и калинами. (2)Одну рябинку, угнездившуюся возле обочины современной бетонной дороги, на крутом заносе давило колёсами машин, царапало, мяло. (З)Решил я её выкопать и увезти в свой одичавший огород.
(4)Осенью дело было. (5)На рябине уцелело несколько пыльных листочков и две мятые розетки ягод. (б)Посаженная во дворе, под окном, рябинка приободрилась, летом зацвела уже четырьмя розетками. (7)И каждое лето, каждую осень украшалась одной-двумя розетками, и такая яркая, такая нарядная и уверенная в себе сделалась — глаз не оторвать!
(8)А коли осень тёплая выпадала, рябинка пробовала цвести по второму разу.
(9)Два года спустя привезли саженцы из городского питомника, на свободном месте я посадил ещё четыре рябинки. (10)Эти пошли вширь.
(11)Едва одну-две розетки ягод вымучат, зато уж зелень пышна на них, зато уж листья роями, этакие вальяжные барышни с городских угодий.
(12)А дичка моя совсем взрослая и весёлая сделалась. (13)Одной осенью особенно уж яркая на ней ягода выросла. (14)И вдруг стая свиристелей на неё сверху свалилась, дружно начали птицы лакомиться ягодой. (15)И переговариваются, переговариваются: вот какую рябину мы сыскали, экую вкуснятину нам лето припасло. (16)Минут за десять хохлатые нарядные работницы обчистили деревце, а на те, что из питомника, даже и не присели.
(17)Думал я, потом, когда корма меньше по лесам и садам останется, птицы непременно прилетят. (18)Нет, не прилетели. (19)В следующие осени, коли случалось свиристелям залетать в мой разросшийся по огороду лес, они уж привычно рассаживались на рябинку-дичку и по-прежнему на те питомниковые деревца, лениво вымучивающие по несколько розеток, так ни разу и не позарились.
(20)Есть, есть душа вещей, есть, есть душа растений. (21)Дикая рябинка со своей благодарной и тихой душой услышала, приманила и накормила прихотливых лакомок-птичек. (22)Да и я однажды пощипал с розеток ярких плодов. (23)Крепки, терпки, тайгою отдают — не забыло деревце, где выросло, в жилах своих сок таёжный сохранило.
(24)А вокруг рябины и под нею цветы растут — медуница-веснянка.
(25)На голой ещё земле, после долгой зимы радует глаз. (26)Первое время густо её цвело по огороду, даже из гряд кое-где выпрастываются бархатные листья — и сразу цвесть, стебли множить. (27)Следом календула выходит и всё-то лето светится горячими угольями там и сям, овощи негде растить. (28)Тётка моя не воздержанна на слово была, взялась полоть в огороде и ну по-чёрному бранить медуницу с календулой. (29)Я — доблестный хозяин — к тётке присоединился.
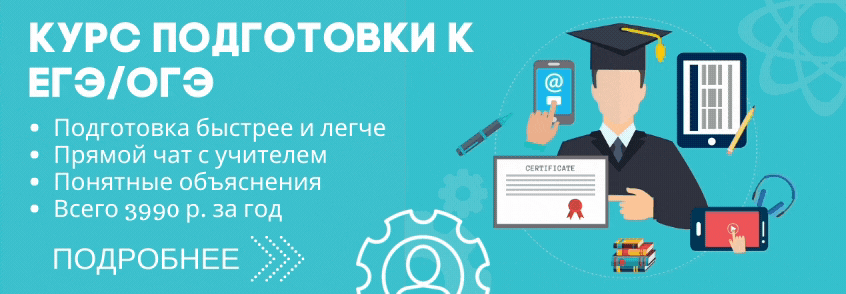
(З0)Приезжаю следующей весной — в огороде у меня пусто и голо, скорбная земля в прошлогодней траве и плесени, ни медуницы, ни календулы нет, и другие растения как-то испуганно растут, к забору жмутся, под строениями прячутся. (31)Поскучнел мой огород, впору его уж участком назвать. (32)Лишь поздней порой где-то в борозде, под забором, увидел я униженно прячущуюся, сморщено синеющую медуничку.
(ЗЗ)Встал на колени, разгрёб мусор и старую траву вокруг цветка, взрыхлил пальцами землю и попросил у растения прощения за бранные слова. (34)Медуничка имела милостивую душу, простила хозяина и растёт ныне по всему огороду, невестится каждую весну свободно и привольно.(35)Но календулы, уголёчков этих радостных, нигде нет… (З6)Пробовал посадить — одно лето поцветут, но уж не вольничают, самосевом нигде не всходят.
(37)Вот тут и гляди вокруг, думай, прежде чем худое слово уронить на землю, прежде чем оскорбить Богом тебе подаренное растение и благодать всякую.
(По В. Астафьеву)
Виктор Петрович Астафьев (1924-2001 гг.) — российский писатель, видный представитель «деревенской прозы», участник Великой Отечественной войны.
Сочинение
Почему важно осознавать природную красоту? Как чуткое отношение к окружающему миру способно повлиять на развитие человеческих качеств? Над этими вопросами задумывается автор предложенного для анализа текста, Виктор Петрович Астафьев, поднимая проблему внимательного отношения к природе.
Эта проблема актуальна во все времена, потому что человек является частью природы. Чуткое отношение и понимание природной красоты помогают развить в себе духовные качества, ощутить единство с миром, осознать свою роль в мироздании. Главный герой произведения Астафьева любит природу, он искренне восхищается красотой дикой рябинки и радуется тому, как она растет: «И каждое лето, каждую осень украшалась одной-двумя розетками, и такая яркая, такая нарядная и уверенная в себе сделалась — глаз не оторвать!» Автор ощущает свою связь с природой, относится к растениям , как к живым существам, верит в то, что медуничка и календула могли на него обидеться за бранные слова: «Попросил у растения прощения за бранные слова. Медуничка имела милостивую душу, простила хозяина и растёт ныне по всему огороду…»
Писатель считает, что все вокруг нас живое и у всего есть душа. Он видит тонкую связь между природой и человеком. Созерцание растущего дерева, выжившего благодаря его заботе, доставляет душе писателя радость. Прилетающие воробьи, весело чирикая, также рады, на данном примере прослеживается взаимосвязь между всем живым на планете, все едино и не может существовать одно без другого.
Я согласна с позицией автора. Действительно, человек, как разумное существо должен бережно относится к природе. Воспитывать в себе понимание красоты окружающего нас мира, осознавать себя частью целого. Красота природы способна раскрыть лучшие душевные качества, по-новому взглянуть на мир, способна помочь преодолеть невзгоды.
В подтверждение слов автора и своей позиции хочу привести в пример высказывание главного героя, Дяди Вани, одноименной пьесы А.П.Чехова. Он говорит, что в человеке все должно быть прекрасно: и внешность, и душа, и поступки. Говорит он это прекрасной внешне, но душевно пустой Екатерине Андреевне, которая не ощущает природной красоты, ей нет дела до леса, за благосостоянием которого всю жизнь ухаживает главный герой и его помощник Астафьев. Потребительское отношение Екатерины Ивановны к природе делают ее пустой и бесчувственной, совместно с мужем она хочет продать лес, продолжать беспечно жить на вырученные деньги. Данный пример показывает, что она пуста, ни к чему не привязана, ее красота бесполезна, так как не несет радости, а лишь разрушения.
Еще одним аргументом может послужить пьеса Антона Павловича «Вишневый сад». Дествующие лица пьесы живут за счет имения и ничего не стараются предпринять для спасения родного гнезда, они не любят свой сад, не ощущают его красоту. Любовь Андреевна Ранеская, хозяйка сада, родному дому предпочитает Париж и сомнительное увлечение молодым человеком. Лопахин предлагает план по спасению имения, но никто из домашних не старается выслушать его. Любовь к родной земле, к родной природе чужда Раневским, что приводит их к разорению. Вишнёвый сад в произведении выступает как живое существо. Он словно связывает все предыдущие поколения, но не чуткие к природной прелести хозяева, не понимающие всей его ценности, сдаются, не предприняв ничего для его сохранения.
Таким образом, человек — часть природы. Все в нашей жизни целиком и полностью связано с окружающим мирам и наша задача — беречь и заботится о флоре и фауне Земли. Человек без природы не может существовать, мы должны быть благодарны миру, в котором живем, и не нарушать его законы.
метки: Ягодка, Астафьев, Рассуждение, Легкое, Кончиться, Сделаться, Корзина, Охотник
Сочинение по рассказу Ягодка Астафьев:Чему учит этот рассказ?
Куда только не внесут охотника ноги!
Меня затащили они в скалистый распадок, в бурелом, в шипицу и малинник. Тут, на малинниках, спугнул глухаря и пальнул по нему наудачу и попал ненамеренно. Да плохо попал. Взялся бежать за подранком, забыл смотреть под ноги, и на гриве, сплошь затянутой брусничником, резиновые сапоги со сношенной резьбой соскользнули, и я полетел из соснового краснолесья вниз. В мешке моем гремели котелок, ложка, кружка, и кости мои вроде бы тоже гремели, а зубы от ударов щелкали.
Немного уж, сажени три, оставалось до скользкого среза, и я бы во всем боевом виде ухнул вниз, в осеннюю воду. Из воды камешки торчали. Они кляксами на незапятанной воде казались.
Говорят, что трезвого и умного Бог сберегает, а пьянчугу и дурного охотника черт. И не иначе как черт подсунул мне непомерный пук колющейся шипицы, и я в этот кустик въехал ногами.
Застопорил, отдышался, взглянул вниз, на воду, и сообразил, что мне еще жить отпущено. От этого забавно мне сделалось, и стал я осмотрительно подтягиваться, хватаясь за иглисто ощетинившийся шиповник. Так, от куста к кусту, от камешка к камешку и лез я ввысь. До сосновой гривы рукою теснее было подать, как вдруг увидел я во мшистых камнях, посреди горной репы и колючек землянику в цвету.
Священники вы мои! Октябрь месяц, осень, глухая осень, лист практически весь свалился, иней и утренник гулкий не один уж выдавался, а земляника цветет!
Я наклонился к ней. На тощеньком стебельке в багряных листьях жил и растерянно смотрел на осенний мир беленький цветок. Холодом подпалило округлые лепестки его. Ягодка, только еще зародившаяся, темной точкой светилась в цветке, и погибла теснее ягодка, цветку оставалось жить денек, от силы два
И тут в моей памяти неожиданно выплыла станция Комарихинская. Толпа рыбаков и пассажиров, дожидающаяся поезд, как по команде повернула головы в одну сторону.
От пакгауза двигалась безногая женщина. Она опиралась взятыми в руки деревянными колодками и кидала вперед свое короткое тело в кожаной седухе-корзине. И была она не в тряпье, не грязная и не опьяненная. Непривычная она была, и оттого все замолкли и засмотрелись на нее.
В зеленоватом ясном берете, из-под которого выбивались льняные кудряшки, голубоглазая, с блескучими клипсами в ушах, в капроновой блузе и с накрашенными, как у киноактрисы Софи Лорен, губками, широко накрашенными, ясно, вызывающе.
4 стр., 1755 слов
Сочинение про осень на чувашском языке 3 класс
… солнышка на небе осенние забавы в этот период начинаются. Сочинение на тему «Поздняя осень» 3 класс по русскому языку Вариант №11 Осень очень … Всё-таки осень самое прекрасное время года. Осень в лесу особенно привлекательна. Сочинение про осень 3 класс «Мое отношение к осени» Вариант №9 … замечаю, что все веточки осыпаны красивыми ярко-красными ягодками рябины. И это очень красиво. Это просто чудо, …
Рядом с девушкой шла старая женщина, обязано быть, мама. Они о чем-то разговаривали, и наряженная яркогубая женщина делала вид, что не подмечает оторопелых лиц и очень она занята разговором.
Так они миновали перрон, людей, и таковой бы она и осталась, самостоятельной, гордой, но перрон кончился, и необходимо было девушке с женщиной переходить пути. Она перебросила легкое тело через один рельс, через другой, и внезапно корзинкою задела за 3-ий. Плетенка просто отделилась от девицы, выпало из нее краткое тело и сделалось видно подогнутую, узелком связанную юбку, а в корзине-гнездышке куделя, ватка, незапятнанная тряпица.
Женщина качнула свое тело в воздухе, пытаясь угодить им в гнездо, но теснее утомилась она либо смутилась, и угодила мимо плетенки, на мазутный камешник междупутья, и свалилась на бок. Берет зеленый, только что, видать, снятый с тарелки, тоже упал, и кудри рассыпались, завалили щеку и глаза девушки.
И кто-то теснее загоготал в толпе по-жеребячьи, и кто-то уже облаял загоготавшего.
Дама подняла даму, усадила в корзинку, отряхнула берет, надела на голову девушки, да еще и поправила его, чтоб посиживал на кудрях ладом. И они последовали далее.
Но перед тем как перебросить свое тело через рельс, девушка обернулась, взглянула на нас и
И с тех пор я ношу тот взор в для себя. Он пробил меня до самого сердца. Он был презрителен, надменен, этот взгляд, и будь у девицы глаза взрослые, так бы оно и осталось презрение и надменность. Но голубые детские глаза читаются. За вызовом и надменностью глубоко-глубоко билась рассеянная беспомощность: Что я для вас сделала плохого?..
И знаю ведь, ничего банальнее нет, чем сопоставленье этой девицы с земляникой, не к месту и не ко медли расцветшей на речном скалистом обрыве. Но ничего не поделаешь так
они и живут в памяти рядом: цветок, что никогда не станет ягодой, и женщина, которой не созидать счастья.
Задать свой вопрос
— Понимаю, — открыл глаза Алеха, ехавший из лесу, с работы, в промасленной спецовке. — Мне бы не понимать! — фыркнул oн широкой губой.
И смолк Алеха. Человек немногословный и, должно быть, категоричный, кроме того, усталый после трудового дня и долгого пути в холодном автобусе. Он снова закрыл глаза, плотнее прижался к скользкой спинке сиденья, вдавился в него, чтоб теплее было, и через некоторое время, как бы для себя, начал рассказ размеренно, тихо. Но чем далее он говорил, тем тише становилось в рабочем автобусе, обшарпанном, изношенном сверх всякой меры и безопасности.
— Осенью было. Нет, чё это я? — Алеха потер черным кулаком лоб. — Летом было. В середине июня. В лесу черница цвела, рябина и всякая ягода. Мы перемещались с участка на участок. Я тянул сани с будкой. В будке были такие же вот трудяги, как вы, и струмент. Дорога старая, еще в войну геологами проложенная, вся уж заросла сквозь, где травкой, где мхом, где кустом. Еду. Дремлю. По радиатору ветками хлешшет, по кабине шебаршит. Привычно. И вот ровно кто толкнул меня под бок. Вроде бы проснулся, вроде бы и нет. Покажись мне на дороге, в самой середке, в ягодниках, под калиновым сохлым кустиком гнездо. Большое. И птица на ем. Большая. Я уж наезжаю на его. Э-эх, Алеха, Алеха! Скоко тебе говорили: «Не дремли за рулем!..»
Остановил машину, бегу, всмятку, думаю, и птица, и яйца… Аж все сердце зашлося, как с большого похмелья. Подбегаю. Все на месте! Птица сидит на гнезде — попала меж гусениц, меж полозьев. И усидела. Это ж какое мужество, какая героизма! — Голос Алехи возвысился и оглушил, должно быть, и самого Алеху. Он прервался, ерзнул на сиденье, будто удобней устраивался, и все под ним заскрипело и даже чего-то, какая-то гайка или железяка, тонко и жалобно проскулило. — И вот сидит, стало быть, капалуха, глаза закрыла. Меня не видит. Ничего не видит. Ничего не слышит. И вроде бы как завяла, мертвая сделалась. Я потрогал ее пальцем: перо свалялось, все мясо в кости провалилось, но тело горячее. «Сиди, — говорю, — не боись меня!» Оглянулся: никого нету, погладил ее украдкой, а то ведь оборжут.
Назавтре возвращаюсь в старый поселок — неужто мать еще на гнезде? Зренье напряг. Сидит! Я остановил трактор, газую, спугну, думаю. Нет, как камень сделалась птица. Ломик взял, по кабине зублю. Сидит! Ну чё делать? Поехал. Осторожно, осторожно… Оглянулся — все в порядке!
И так вот восемь рейсов я сделал. И ни разу, ни разу пташка не сошла с гнезда! Ни разу! Нельзя уж было, видно, ни на минуту яйца открывать — остыли бы. — Леха прервался, отмахнул от лица дым, который пускал на него сосед. — Одним рейсом вез я наше бабье: поваров, там, пекарей, бухгалтеров, учетчицу и просто лахудров. Вот, думаю, покажу я имя. И расскажу. Остановлюсь специально, выгоню с вагончика — и дам урок етики и естетики: как птичка неразумная трактор над собой и сани пропускала. Это ж подумать — и то ужасть! Это ж курица домашняя не выдержит! Улетит и нестись перестанет. Но уж не было капалухи на гнезде. Издаля еще заметил: белеют скорлупки в лунке, а матери нету. Ушла. И птенчиков увела. Сразу, видать, и увела, как вылупились. А гнездо — чисто шапка мушшинская, большая, перышки в ем. Я гнездо взял в кабину. Храню. Как школа на участке новая откроется, так и отнесу туда. И расскажу ребятишкам про капалуху…
Алеха смолк и сомкнул не только глаза, губы, но и весь сомкнулся — надолго, накрепко. Наговорился. А напарник его или попутчик удивленно смотрел на Алеху, словно видел его впервые, и, погасив окурок об обшивку автобуса, прочувственно молвил:
— С меня пол-литра, Алеха! Нет, — рубанул он себя по колену, — литра! Мог переехать птицу? Запросто! Потом ее сварил бы — и на закусон. Нe сварил! Не съел! Это же подвиг, товаришши?! Про это надо в газетах писать, а не про бабов-курвов, что детей плодят и по всему белому свету рассеивают…
Никто, ни Алеха, ни лесорубы, едущие с зимней деляны, разговора не поддерживали. Устали, намерзлись трудовые люди, подремывали, домой едучи, в тепло, к женам, к детям. А где-то, в большом городе, маленькие ребятишки играли бутылочками с надетыми на них сосками и собственными кулачками — игрушек на всех не хватало, и воспитательниц на весь дом было только две.
Больные ламы
Я не пишу и почти не рассказываю о заграничных поездках — ни к чему себя и людей расстраивать, у них и без того жизнь черная. Воспоминания во мне, со мною, они стали частицей моей жизни и, значит, в любую минуту, в любой миг, в любой работе влияют на мои отношения к действительности, да и на творчество тоже.
Но в поездках случается такое, что пулей ранит сердце, скукоживает тело, холодит кровь и тревожит, тревожит память.
Я был в Колумбии на международной выставке книги, и посольские работники, не забалованные вниманием и не утомленные гостями, заласкали меня, заразвлекали, заугощали и в заключение даже на рыбалку свозили высоко в горы, на озеро дивной красоты, где у наших посольских работников есть постоянное место и даже стол в берег вкопан.
Ловили форель, но ловилось худо, зато елось и пилось хорошо, потому что в этой благодатной стране есть что кушать, есть что пить.
Теплынь, благодать, цветет все крупно, ярко, и даже топтун-трава, что растет по нашим улочкам под забором и где только есть место, цвела тут сплошь беленьким ситчиком. Цветя и отмирая, травка становится этаким мягким преступаемым матрацем. Ходить в горах вообще тяжело, шаг ускорить нельзя, утомляется сердце и болят ноги, а по такому вот травянистому настилу, как по болотному мху, ходить вовсе утомительно. Поэтому я больше сидел на стане, глазел и, наговорившись в дороге, помалкивал, любовался.
Было на этом голубеющем озере, охваченном воистину буйно цветущими, в каждую щель лезущими растениями и лесами, столько всего, что попытка описать заморские дива заняла бы очень много места.
Среди красот и предметов, окружавших озеро, мое внимание привлекли неподвижно стоящие возле воды животные, издали похожие на наши деревенские скамейки, к которым приставлены длинные шеи с головой. Что-то трогательное и смешное было в этих, с виду неуклюжих, но прекрасных животных с голубыми печальными глазами. Это были ламы, поилицы, кормилицы, согревательницы, спасительницы всех горных народов Южной Америки. В первую голову перуанцев, боливийцев и индейских племен, проживающих в горных провинциях Колумбии.
Одну ламу я видел из машины и заметил неизбывную человеческую печаль в ее чистых голубых глазах, совершенно схожих красотою с нашими цветками незабудками. Лама стояла почти на дороге, вяло переступив, уступила путь машине, вроде бы не отошла, а отодвинулась с укором, как мне показалось, глядя нам вслед.
Я изъявил бурное желание остановиться, посмотреть, погладить это экзотическое животное, но мои спутники переглянулись, прибавили скорости и сказали, что на озере, на берегах его очень много лам. И в самом деле, только на ближних травянистых мысках стояло их до десятка. Неподвижные тени животных четко отражались в прозрачной воде, и во всей этой неподвижности было что-то завораживающее, молитвенное, может даже, и потустороннее.
Я все порывался пойти к ламам, посмотреть, погладить их, но, проявляя воистину дипломатическую гибкость и изворотливость, спутники мои не отпускали меня к животным, и, хорошо освоившись в компании, накопив некоторую вольность в поведении, я сердито и упрямо, может, и капризно — гость же! — дипломаты так вели дело и мораль такую держали, что ради редкого русского гостя и затеяли эту поездку, потрафляя мне во всем, довели меня до определенной распоясанности, и я, значит, сердито на них: «Почему к животным не подпускаете? Они что, застрахованы или забодают меня! Но у них нет рогов, и я читал и слышал, что это самые мирные и безобидные животные на земле».
«Все так. Все так», — поддакнули дипломаты и провозгласили тост в честь посла, только что изловившего форель хорошего веса и неописуемой красоты — цветок водяной, и все тут!
Про лам я забыл. Пробовал тоже чего-нибудь добыть, но в озере плавала не моя рыба, да тут еще рыбнадзор нагрянул, нарядно одетый, на вихревом катере — обмерял трех рыбин, пойманных дипломатами, сказал, чтоб на икру не рыбачили, только блесенками, крючками и не далее того вон выступа — иначе будет штраф, и, как мне назвали сумму штрафа, так я сразу протрезвел и подумал: «Вот бы таких нарядных, быстроходных и беспощадных хранителей природы нам!..»
Словом, о ламах я вспомнил уже тогда, когда поехали мы домой, и снова попросил остановиться — обещали же. Видимо, я так надоел дипломатам, что они категорически мне сказали:
— Нельзя!
— Да почему? — взмолился я.
— Они больны.
— Да чем же?
— Сифилисом! — безо всякой уже дипломатии объявили мне.
— Ка-ак! Вы что? Каким сифилисом?
— Человеческим.
— Ка-ак? Кто же это?..
— Человек!
Больше мне ничего не объясняли, не хотели портить мое светлое праздничное настроение — хорошие все же люди дипломаты. Не только хитры, со всегдашними тайнами в сердце и неизменностью в характере, но и чуткие среди них попадаются.
Дай им Бог большого здоровья и терпенья, чтобы устеречь свое и наше достоинство. Но вот годы прошли, а все не могу забыть тех несчастных и покорных животных, что догнивают заживо у родного озера и однажды тихо упадут на тихую, цветущую траву подле врачующей воды. И птицы расклюют их, зверьки изгрызут, кости соберут могильщики — местные санитары, отвезут их в лес и закопают.
Жизнь Трезора
Пестрый кобель с крупными лапами и сонной мордой врастяжку лежал поперек крыльца, обязательно поперек, чтобы кто ни шел — за него запнулся и он следом прорвался бы в избу. В жилище Трезор сразу забирался под стол, вольготно там растягивался; если на него ставили ноги сидящие, наступали на широко разбросанные лапы, он подскакивал, бухался башкой о столешницу и дико взлаивал: «Э-э, товарищи, не забывайтесь! Я здесь!»
Ел Трезор из старой эмалированной кастрюли. Посуда — одна на всех животных, обитающих в дому: трех кошек и его, Трезора. Засунув морду в кастрюлю, пес выбирал что помягче, повкусней. Кошки терпеливо сидели вокруг и облизывались, не смея потревожить трапезу господина. Если какая из кошек совала морду в кастрюлю, Трезор изрыгал рокот такой гневный, что кошки бросались врассыпную.
— Ну, нечистый дух! Жадина! Тигра и тигра! — кричала хозяйка.
Трезор вопросительно глядел на нее, пытаясь понять: тигра — это хорошо или плохо?
Просыпался он и нехотя вылезал из-под стола после полудня, когда хозяйка начинала собираться в магазин — работала она на телятнике и еще торговала в магазине. Стоял на крыльце магазина Трезор, бухал на всю округу лаем, словно в колокол бил: «Спешите! Спешите! Открыто! Открыто! Открыто!» — и меж ног покупателей пробирался в магазин. Если же не было таковых, лбом отворял дверь и останавливался перед прилавком в ожидании.
— Куда тебя денешь? — говорила хозяйка. — Заработал — получи! — И бросала Трезору кусочек сахара, колотый пряник либо мятую конфету.
Скушав угощение, Трезор или засыпал возле дверцы топившейся печки, или снова выбредал на улицу, потягивался, широко, со сладким воем открывая пасть, и отправлялся заедаться на брата Мухтара.
Мухтар был мастью и статью вылитый Трезор, но характером совершенно от него отличался. Если Трезор — отпетый тунеядец, хитрован и увалень, то брат его, наоборот, был трудолюбив, особенно на охоте, строг, сердит и потому сидел на цепи. И горька же ему, вольному, стремительному, подтянутому телом, быстроногому, была такая жизнь. А тут еще братец явится и ну рычать, ну разбрасывать снег лапами, иной раз до земли докопается, весь столб обрызжет, полено в щепки изгрызет, показывая, как и что бы он сделал с Мухтаром, если б захотел.
Мухтар на все эти издевательства отвечал свирепым хрипом, рвясь с цепи, душился до полусмерти, глаза его кровенели, изо рта сочилась пена и, случалось, рвал ошейник или цепь — и тогда бело-пестрый клубок из двух кобелей катился по заулку, разметывал сугробы, ронял поленницы, сшибал ведра, ящики — так пластали псы друг дружку, что разнять их было невозможно.
Раскатятся, разойдутся на стороны братья, оближутся, отдышатся и снова «Р-р-р, рр-ра, ррр…».
Схватки чаще всего случались зимой, от скуки, должно быть. Надравшись до изнеможения, до полной потери сил, кобели надолго успокаивались и, если встречались, воротили друг от друга морды, издали предупредительно рыча: «Ну, погоди, гад! Погоди!..»
Летом Трезор совсем ни с кем не дрался. Он был совершенно поглощен заботами о сладком пропитании, которое научился вымогать у приезжих из города ребятишек, сердобольных тетенек. В то время когда брат его Мухтар плавал по реке следом за лодкой хозяина, шастал по берегу, кого-то отыскивая или раскапывая, караулил, и строго караулил, нехитрое имущество рыбаков, Трезор, начиная с крайней избы, обходил деревушку. Он садился против ворот или перед открытым окном и ждал, когда ему дадут сахарку или какое другое лакомство. Если долго не давали, Трезор напоминал о себе лаем и в конце концов получал чего хотел. Неторопливо хрустя сахаром, Трезор облизывался и совал здоровенную свою лапу благодетелю либо ложился возле ворот и какое-то время «сторожил» добродетельных людей, двор их и хозяйство.
Норма его работы зависела от угощения: мало дали сахару — он лежал под воротами недолго, а то и сразу убегал к другой избе; и так по два раза на день происходил обход и совершались поборы, при этом Трезор совершенно не замечал изб и дворов, где его не баловали подачками и когда-то прогнали, и пусть после раскаялись, всячески пытались заманить — он деликатно уклонялся от приглашений.
Ближе к осени Трезор скучнел: городской народ разъезжался из деревушки, и каждую семью он провожал до автобусной остановки. Опустив голову, повесив хвост, плелся пес по дороге, со вздохом ложился в тенек: «Что поделаешь? Отпуск есть отпуск. Но помните, люди, у вас здесь остался верный и надежный друг».
Стоило, однако, автобусу удалиться за мосток, переброшенный через речку, исчезнуть за островком ельника, как Трезор завинчивал кренделем хвост, ставил уши топориком и с бодрым лаем возвращался в деревушку: «Протурил я, протурил этих дачников! Наповадились, понимаешь. Одно от них беспокойство…»
Осенью, перед октябрьскими праздниками, Трезор — полная всей деревушке любезность! Приближался забой скота: пир собакам, кошкам и птицам. Глянешь — возле какого-нибудь двора на тополях и черемухах осыпью вороны, сороки, галки; на колышках оград кошки окаменели, будто кринки, на острие надетые. На земле Трезор лежит, уронив на лапы морду, все сосредоточенно и молчаливо ждут — стало быть, в этом дворе забили на мясо овцу, телку или быка.
Обдерут хозяева скотину, уберут обветриваться мясо на поветь, уйдут жарить картошку со свежатиной — вся живность придет в движение: столбятся над двором вороны, отбирая друг у дружки поживу; суетятся и трещат сороки с окровавленным кусочком кожицы или крепкой жилы в клювах; шастают со свирепо горящими глазами кошки, шипя и фыркая друг на дружку. Трезор тоже с угощением в обнимку на поляне лежит — кость-то уж ему обязательно отломится, его никто не забудет. Иной раз и поспит возле кости, отдохнув, снова брюшками передних лап ее прихватит да неторопливо, с чувством, с толком грызет, развлекается.
Как-то раз уписывал он кость, скрежеща зубами, а с тополей на него смотрели жадные вороны, время от времени мешковато переступая и переговариваясь: «Это что же такое?! Жрет и жрет! Ни стыда, ни совести! Оставил бы хоть маленько…»
Вороны срывались с деревьев, планировали над Трезором, пугая его криком, пытаясь задеть когтями, — кобель и ухом не шевелил, грыз кость, белую, хрупкую, точно сахарок. И одна старая смелая ворона села прямо перед мордой Трозора, ждала, когда он забудется или задремлет. Мелкими шажками, будто по своим делам, ходила ворона возле жирующего пса, ворошила землю клювом, долбила что-то, совсем уж подкралась, изловчилась хватануть у собаки косточку — да не тут-то было! Трезор начеку, сделал такой прыжок — чуть было ворону без хвоста не оставил!
Села старая ворона на ветку тополя, смотрела на Трезора, думала, думала, и додумалась до большой стратегии — каркнула, приказав семейке следовать за ней; и начали вороны вокруг пса ходить-колобродить, подлетать и даже кричать на него. Кобелю взять бы кость да убраться подобру-поздорову под навес, так нет, он настолько обленился или таким себя считал умным и сильным, что никого и ничего не хотел признавать, и поплатился за это.
Старая ворона ходила-ходила вокруг песьего хвоста, да ка-ак схватит его клювом, да ка-ак дернет! Пес не выдержал, вскочил и с лаем бросился на ворону. Шерсть дыбом, глаза яростно сверкают.
Ворона вроде бы испугалась, отлетела, замахала крыльями, еще шага на три отлетела, качается от страха, клюв открыла бессильно. Трезору того и надо — он дальше за вороной погнался, вот-вот ее сцапает за хвост.
В это время семейка воронья и ограбила пса, схватив кость, и, то роняя ее, то снова подхватывая, вороны несли поживу Трезора за деревню, в огороды, и закаркали там, закружились, деля добычу.
Трезор слушал, слушал, вернулся к тому месту, где грыз кость, нюхал мерзлую траву на поляне, когтями царапал землю, огляделся, шерсть на нем опала, уши опустились на стороны, хвост распустился — ничего не мог понять пес: была кость — и нету! Куда девалась? А на жерди сидела мама-ворона и, дергая хвостом, орала: «Дур-рак! Дур-р-ррак!»
Трезор побежал по деревне, распугивая ворон и сорок, надеясь, что где-нибудь да отломится ему кость, а может, и мяска кусочек.
Прошлой зимой, глухой, метельной, длинной, Трезор и Мухтар бились особенно озверело. Мухтар почти выдрал Трезору глаз, прорвал ухо, губы. Трезор прокусил у брата какой-то нерв на голове, и Мухтар быстро начал глохнуть. Сразу погас охотничий пес, распустился телом, стал ходить медленно, уши у него обвяли, хвост сделался мятый, неопрятный, с редким волосом. Старого, больного кобеля заменили новожителем — большелобым гончим щенком Дунаем, который скоро вымахал с колодезный сруб ростом и бухал лаем так, что старухи по домам с перепугу крестились.
А Мухтар исчез со двора: дострелил ли его, больного, никому не нужного, хозяин, ушел ли он сам умирать в лес — неизвестно.
Непонятное начало твориться и с Трезором. Он тоже разом постарел, закручинился, перестал принимать лакомства, гавкать, провожать хозяйку в магазин. Потом взял и совсем ушел из села верст за пять от своего дома, стал жить на скотоферме, спать на соломе, неизвестно чем питаться.
Хозяйка не раз бывала в соседнем селе, звала Трезора с собой. Он хвостом вилял извинительно, даже провожал ее за околицу, но на всполье присаживался, отставал.
— Трезор! Трезор! Пойдем, миленький. Пойдем домой! Пойдем!
Кобель в ответ сипло, старчески, безнадежно и горько взлаивал, словно бы говорил: «Не могу! Уйти не могу… Простите…»
Может, за тем селом, за той фермой Мухтар зарыт? Может, повернулось что-то в разуме Трезора? Поди теперь узнай!
А без собаки как-то тоскливо стало, деревушка вроде бы живую душу утратила, притихла, сделалась совсем сиротой.
Ягодка
Куда только не занесут охотника ноги!
Меня затащили они в скалистый распадок, в бурелом, в шипицу и малинник. Здесь, на малинниках, спугнул глухаря и пальнул по нему наудачу и попал нечаянно. Да плохо попал. Взялся бегать за подранком, забыл глядеть под ноги, и на гриве, сплошь затянутой брусничником, резиновые сапоги со сношенной резьбой соскользнули, и я полетел из соснового краснолесья вниз. В мешке моем гремели котелок, ложка, кружка, и кости мои вроде бы тоже гремели, а зубы от ударов клацали.
Немного уж, сажени три, оставалось до скользкого среза, и я бы во всем боевом виде ухнул вниз, в осеннюю воду. Из воды камни торчали. Они кляксами на чистой воде казались.
Говорят, что трезвого и умного Бог бережет, а пьяницу и дурного охотника — черт. И не иначе как черт подсунул мне громадный пук колючей шипицы, и я в этот куст въехал ногами.
Застопорил, отдышался, глянул вниз, на воду, и понял, что мне еще жить отпущено. От этого весело мне сделалось, и стал я осторожно подтягиваться, хватаясь за иглисто ощетинившийся шиповник. Так, от кустика к кустику, от камешка к камешку и полз я вверх. До сосновой гривы рукой уже было подать, как вдруг увидел я во мшистых камнях, среди горной репы и колючек землянику в цвету.
Батюшки вы мои! Октябрь месяц, осень, глухая осень, лист почти весь упал, иней и утренник звонкий не один уж выдавался, а земляника цветет!
Я наклонился к ней. На тощеньком стебельке в багровых листьях жил и растерянно глядел на осенний мир беленький цветок. Холодом подпалило округлые лепестки его. Ягодка, только еще зародившаяся, черной точкой светилась в цветке, и умерла уже ягодка, цветку оставалось жить день, от силы два…
И тут в моей памяти неожиданно всплыла станция Комарихинская. Толпа рыбаков и пассажиров, ждущая поезд, как по команде повернула головы в одну сторону.
От пакгауза двигалась безногая девушка. Она опиралась взятыми в руки деревянными колодками и бросала вперед свое коротенькое тело в кожаной седухе-корзине. И была она не в тряпье, не грязная и не пьяная. Непривычная она была, и оттого все смолкли и загляделись на нее.
В зеленом ярком берете, из-под которого выбивались льняные кудряшки, голубоглазая, с блескучими клипсами в ушах, в капроновой блузке и с накрашенными, как у киноактрисы Софи Лорен, губами, широко накрашенными, ярко, вызывающе.
Рядом с девушкой шла пожилая женщина, должно быть, мать. Они о чем-то разговаривали, и нарядная яркогубая девушка делала вид, что не замечает оторопелых лиц и очень она занята разговором.
Так они миновали перрон, людей, и такой бы она и осталась, независимой, гордой, но перрон кончился, и нужно было девушке с женщиной переходить пути. Она перебросила легкое тело через один рельс, через другой, и внезапно корзинкою задела за третий. Корзинка легко отделилась от девушки, выпало из нее короткое тело и сделалось видно подогнутую, узелком связанную юбку, а в корзине-гнездышке — куделя, ватка, чистая тряпица.
Девушка качнула свое тело в воздухе, пытаясь угодить им в гнездо, но уже устала она или растерялась, и угодила мимо корзинки, на мазутный камешник междупутья, и упала на бок. Берет зеленый, только что, видать, снятый с тарелки, тоже упал, и кудряшки рассыпались, завалили щеку и глаза девушки.
И кто-то уже загоготал в толпе по-жеребячьи, и кто-то уже облаял загоготавшего.
Женщина подняла девушку, усадила в корзинку, отряхнула берет, надела на голову девушки, да еще и поправила его, чтобы сидел на кудрях ладом. И они последовали дальше.
Но перед тем как перебросить свое тело через рельс, девушка обернулась, глянула на нас и…
И с тех пор я ношу тот взгляд в себе. Он пробил меня до самого сердца. Он был презрителен, надменен, этот взгляд, и будь у девушки глаза взрослые, так бы оно и осталось — презрение и надменность. Но голубые детские глаза читаются. За вызовом и надменностью глубоко-глубоко билась растерянная беспомощность: «Что я вам сделала плохого?..»
И знаю ведь, ничего банальнее нет, чем сравнение этой девушки с земляникой, не к месту и не ко времени расцветшей на речном скалистом обрыве. Но ничего не поделаешь — так они и живут в памяти рядом: цветок, что никогда не станет ягодой, и девушка, которой не видеть счастья.
Бедный зверь
Было это в Карпатах. Наши батареи прямо с марша развернулись по опушке леса цвета окислившегося, серо-зеленого металла, лавой сползающего с горы, на вершине которой виднелась башня замка, а может, развалины его или утес. Взводы управления выбросились с телефонами и средствами наблюдения к селу, где хаты и садики разбежались по склонам холма и вдоль речки, текущей из европейского, но дикого и глухого леса, что был отбит от дорог и селений краюшками полей, возделанных под озимь. Из-за холма один за другим вылезли немецкие танки, поводили, как бы принюхиваясь, стволами пушек и двинулись вдоль речки. Наши батареи, расчетам которых не было времени валить деревья, выпиливать секторы для стрельбы, повели огонь с опушек и дымами да выплесками огня как бы оконтурили полуостров леса. Машины, лошади хозвзвода были убраны под укрытие леса совсем уж темного, совсем уж «нашенского», в глуби тем только и отличавшегося от сибирской тайги, что по оврагам и поймам речек росли здесь дикие груши, яблони, черешни, ежевика и другие ягодные и плодовые деревья и кусты неизвестного нам вида и названия и еще, густо сплетенная, клубилась лещина с пучками орехов, которыми тыловики тут же стали набивать карманы, а свободные от дежурства работницы медсанбатов принялись собирать по сосняку для раненых уже перезрелую, темную бруснику.
Бой получился затяжной. Танки маневрировали вдоль ручья, прятались за выступы холма, за хаты, сараи, на минуту-другую выскакивали, делали из пушки выстрел по нашим батареям, полосовали пулеметом по залегшей в полях пехоте и откатывались назад, за холмом или таились в садах — было ясно: они выполняли вспомогательную задачу, стараясь задержать в предгорье продвижение наших частей и давая возможность отойти своим.
Сочинение по рассказу Ягодка Астафьев:Чему учит этот рассказ?
Куда только не занесут охотника ноги!
Меня затащили они в скалистый распадок, в бурелом, в шипицу и малинник. Здесь, на малинниках, спугнул глухаря и пальнул по нему наудачу и попал нечаянно. Да плохо попал. Взялся бегать за подранком, забыл глядеть под ноги, и на гриве, сплошь затянутой брусничником, резиновые сапоги со сношенной резьбой соскользнули, и я полетел из соснового краснолесья вниз. В мешке моем гремели котелок, ложка, кружка, и кости мои вроде бы тоже гремели, а зубы от ударов клацали.
Немного уж, сажени три, оставалось до скользкого среза, и я бы во всем боевом виде ухнул вниз, в осеннюю воду. Из воды камни торчали. Они кляксами на чистой воде казались.
Говорят, что трезвого и умного Бог бережет, а пьяницу и дурного охотника — черт. И не иначе как черт подсунул мне громадный пук колючей шипицы, и я в этот куст въехал ногами.
Застопорил, отдышался, глянул вниз, на воду, и понял, что мне еще жить отпущено. От этого весело мне сделалось, и стал я осторожно подтягиваться, хватаясь за иглисто ощетинившийся шиповник. Так, от кустика к кустику, от камешка к камешку и полз я вверх. До сосновой гривы рукой уже было подать, как вдруг увидел я во мшистых камнях, среди горной репы и колючек землянику в цвету.
Батюшки вы мои! Октябрь месяц, осень, глухая осень, лист почти весь упал, иней и утренник звонкий не один уж выдавался, а земляника цветет!
Я наклонился к ней. На тощеньком стебельке в багровых листьях жил и растерянно глядел на осенний мир беленький цветок. Холодом подпалило округлые лепестки его. Ягодка, только еще зародившаяся, черной точкой светилась в цветке, и умерла уже ягодка, цветку оставалось жить день, от силы два…
И тут в моей памяти неожиданно всплыла станция Комарихинская. Толпа рыбаков и пассажиров, ждущая поезд, как по команде повернула головы в одну сторону.
От пакгауза двигалась безногая девушка. Она опиралась взятыми в руки деревянными колодками и бросала вперед свое коротенькое тело в кожаной седухе-корзине. И была она не в тряпье, не грязная и не пьяная. Непривычная она была, и оттого все смолкли и загляделись на нее.
В зеленом ярком берете, из-под которого выбивались льняные кудряшки, голубоглазая, с блескучими клипсами в ушах, в капроновой блузке и с накрашенными, как у киноактрисы Софи Лорен, губами, широко накрашенными, ярко, вызывающе.
Рядом с девушкой шла пожилая женщина, должно быть, мать. Они о чем-то разговаривали, и нарядная яркогубая девушка делала вид, что не замечает оторопелых лиц и очень она занята разговором.
Так они миновали перрон, людей, и такой бы она и осталась, независимой, гордой, но перрон кончился, и нужно было девушке с женщиной переходить пути. Она перебросила легкое тело через один рельс, через другой, и внезапно корзинкою задела за третий. Корзинка легко отделилась от девушки, выпало из нее короткое тело и сделалось видно подогнутую, узелком связанную юбку, а в корзине-гнездышке — куделя, ватка, чистая тряпица.
Девушка качнула свое тело в воздухе, пытаясь угодить им в гнездо, но уже устала она или растерялась, и угодила мимо корзинки, на мазутный камешник междупутья, и упала на бок. Берет зеленый, только что, видать, снятый с тарелки, тоже упал, и кудряшки рассыпались, завалили щеку и глаза девушки.
И кто-то уже загоготал в толпе по-жеребячьи, и кто-то уже облаял загоготавшего.
Женщина подняла девушку, усадила в корзинку, отряхнула берет, надела на голову девушки, да еще и поправила его, чтобы сидел на кудрях ладом. И они последовали дальше.
Но перед тем как перебросить свое тело через рельс, девушка обернулась, глянула на нас и…
И с тех пор я ношу тот взгляд в себе. Он пробил меня до самого сердца. Он был презрителен, надменен, этот взгляд, и будь у девушки глаза взрослые, так бы оно и осталось — презрение и надменность. Но голубые детские глаза читаются. За вызовом и надменностью глубоко-глубоко билась растерянная беспомощность: «Что я вам сделала плохого?..»
И знаю ведь, ничего банальнее нет, чем сравнение этой девушки с земляникой, не к месту и не ко времени расцветшей на речном скалистом обрыве. Но ничего не поделаешь — так
они и живут в памяти рядом: цветок, что никогда не станет ягодой, и девушка, которой не видеть счастья.
