Задание № 1333
В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
1. До выполнения ремонтных работ по замене повреждённых элементов необходимо в целях безопасности ОГОРОДИТЬ опасную зону.
2. Введение новых требований поставит разработчиков нового проекта в ЗАТРУДНЁННОЕ положение.
3. Необходимая принадлежность многих игр — это ИГРАЛЬНЫЙ кубик.
4. Информационная служба городской телефонной сети опубликовала итоги перехода АБОНЕНТОВ на новые тарифные планы.
5. По окончании производственной практики каждый студент должен ПРЕДСТАВИТЬ отчёт о проведённой работе.
Показать ответ
Комментарий:
Ответ: затруднительное <или> затруднительный
Нашли ошибку в задании? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Задание 5 № 1066. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
Невозможно было ОЖИДАТЬ более тёплого приёма, чем тот, который был организован для гостей фестиваля.
Предлагаемый студентам дополнительный курс лекций позволит им ВОСПОЛНИТЬ пробелы в знаниях.
Территорию, находящуюся под местом кладки карниза, в целях безопасности необходимо ОТГОРОДИТЬ.
На сцене появился ПОПУЛЯРНЫЙ исполнитель.
К сожалению, всё больше появляется ПОПУЛИСТСКИХ лозунгов, причём провозглашаются они весьма известными политиками.
Источник: РЕШУ ЕГЭ
Актуальность: 2015
Сложность: обычная
Пояснение.
Ошибка допущена в предложении Территорию, находящуюся под местом кладки карниза, в целях безопасности необходимо ОТГОРОДИТЬ.
В данном случае нужно применить слово ОГОРОДИТЬ. Слова ОГОРОДИТЬ и ОГРАДИТЬ одного корня (чередуются ОРО/РА), поэтому территорию можно огородить так же, как и оградить.
Ответ: ОГОРОДИТЬ ОГРАДИТЬ
Задание 5 № 1294. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
До выполнения ремонтных работ по замене повреждённых элементов необходимо в целях безопасности ОГОРОДИТЬ опасную зону.
Введение новых требований поставит разработчиков нового проекта в ЗАТРУДНЁННОЕ положение.
Необходимая принадлежность многих игр — это ИГРАЛЬНЫЙ кубик.
Информационная служба городской телефонной сети опубликовала итоги перехода АБОНЕНТОВ на новые тарифные планы.
КОРЕННЫЕ жители полуострова живут обособленно многие века, и их быт практически не изменился.
Источник: РЕШУ ЕГЭ
Актуальность: 2015
Пояснение.
ЗАТРУДНЕННЫЙ — требующий большего труда к выполнению. По контексту подразумевается ЗАТРУДНИТЕЛЬНЫЙ.
Ответ: ЗАТРУДНИТЕЛЬНОЕ
Задание 5 № 1332. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
Затопления от наводнений заторного типа, которые мало зависят от уровня водности года, следует ОЖИДАТЬ в апреле и в мае.
Есть проверенный метод чистки меха с коротким ворсом: загрязнённый мех нужно протереть горячим картофельным пюре, а затем тщательно ОТРЯХНУТЬ.
Наибольшее непонимание московских АБОНЕМЕНТОВ вызывает необходимость вносить абонентскую плату за пользование линией.
Новая фирма была зарегистрированная под красивым, ЗВУЧНЫМ именем.
Под его ЖЁСТКИМ взглядом все становилось не по себе.
Источник: РЕШУ ЕГЭ
Актуальность: 2015
Сложность: обычная
Пояснение.
АБОНЕМЕНТ — документ, удостоверяющий право пользования чем-л., посещения или покупки чего-л. в течение определенного срока. По контексту подразумевается АБОНЕНТ.
Ответ: АБОНЕНТОВ
Задание 5 № 1370. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
АБОНЕМЕНТЫ на концерты, проходящие в Концертном зале имени П.И. Чайковского, можно приобрести во всех кассах Московской государственной академической филармонии.
Метеорологи не имеют возможности заранее с достоверностью прогнозировать наступление погодных аномалий, но учёные не исключают, что в дальнейшем нашу планету ВЫЖИДАЮТ резкие колебания погоды.
Перед тем как использовать суспензию для ингаляции, контейнер необходимо ВСТРЯХНУТЬ лёгким вращательным движением.
Прошедший год был отмечен ВПЕЧАТЛЯЮЩИМИ событиями в культурной жизни страны.
Пояснение.
ВЫЖИДАТЬ — намеренно медля, дожидаться чего-либо. По контексту подразумевается ОЖИДАТЬ.
Ответ: ОЖИДАЮТ
Задание 5 № 1408. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
Чтобы приготовить маринад для рыбы, запечённой в углях, нужно СТРЯХНУТЬ семена из четырёх-пяти стручков кардамона, добавить щепотку шафрана и растереть их в ступке с солью.
Девочка резким движением откинула чёлку со лба и неожиданно спокойно и ДОВЕРЧИВО посмотрела Алексею в глаза.
ВЫДАЧА коньков производится при наличии у посетителя катка паспорта или любого другого документа, который может быть оставлен в залог.
Аналитики утверждают, что в наступившем году на рынке ценных бумаг можно ОЖИДАТЬ значительных изменений.
ВЫБИРАЯ то или иное направление, ориентируйтесь строго по компасу.
Источник: РЕШУ ЕГЭ
Актуальность: 2015
Сложность: обычная
Пояснение.
CТРЯХНУТЬ — тряхнув, сбросить. По контексту подразумевается ВЫТРЯХНУТЬ.
Ответ: ВЫТРЯХНУТЬ
Задание 5 № 1446. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
Участнику деловой или туристической поездки в США для оформления визы необходимо ПРЕДСТАВИТЬ пакет соответствующих документов.
Дефицит кальция в организме помогут ПОПОЛНИТЬ прежде всего такие продукты, как молоко, творог, сыр.
Участие в командных играх и других интересных спортивных мероприятиях дарит нам ЖИВИТЕЛЬНЫЙ заряд бодрости.
При раскатывании теста необходимо периодически СТРЯХИВАТЬ лишнюю муку со скалки.
Пояснение.
ПОПОЛНИТЬ что-либо — увеличить что-либо прибавлением нового к нему. По контексту подразумевается ВОСПОЛНИТЬ.
Ответ: ВОСПОЛНИТЬ
Глагол предоставить имеет следующие значения: 1) дать возможность пользоваться, распоряжаться чем-либо; 2) дать возможность делать что-либо, действовать каким-либо образом; 3) поручить кому-либо, возложить на кого-либо исполнение какого-либо дела.
Глагол предоставить нередко ошибочно используется вместо несинонимичного ему глагола представить в значениях «предъявить что-либо подтверждающее, удостоверяющее какой-либо факт» (правильно: представить в ЖЭК справку) и «дать, подать что-либо кому-либо или куда-либо» (правильно: представить отчет, план работы).
Документы в первом предложении ПРЕДСТАВЛЯЮТ.
Задание 5 № 1484. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
Инновационный технологический рынок в России в ближайшие три года может ОЖИДАТЬ волна неудач, вызванных цикличным характером его развития.
Стремясь доставить неприятности другому, ЗЛОСТНЫЙ человек прежде всего вредит самому себе.
В течение последних лет опытные тренеры подготовили сильных игроков, которые в ближайшее время будут готовы ПОПОЛНИТЬ сборную России.
ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ беседа делает отношения в семье более глубокими и прочными, а самих членов семьи — более счастливыми.
Пояснение.
ЗЛОСТНЫЙ — закоренелый в чем-нибудь дурном. По контексту подразумевается злой или злобный.
Ответ: ЗЛОЙ|ЗЛОБНЫЙ.
Задание 5 № 1522. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
Задача гимнастики — ВОСПОЛНИТЬ дефицит движения, а вместе с ним и дефицит питания костей, хрящей, связок и мышц.
Все без исключения производители различных отраслей стараются оригинально ПРЕДСТАВИТЬ свои новинки.
Русский морской офицер Н. Н. Апостоли, известный конструктор фотокамер конца XIX — начала XX веков, по праву считается ЗАЧИНЩИКОМ корабельной фотографии.
Кошек принято считать необычайно ЖИВУЧИМИ, но на самом деле за этими домашними животными требуется серьёзный уход, и прежде всего они нуждаются в наблюдении ветеринара, определяющего правильный рацион питания.
Пояснение.
ЗАЧИНЩИК — тот, кто начинает что-либо, подстрекает на что-либо (неблаговидное). По контексту подразумевается ЗАЧИНАТЕЛЬ.
ЗАЧИНАТЕЛЬ, -я, м. (высок.). Тот, кто зачинает что-нибудь, кладет начало чему-нибудь, например, зачинатель нового направления в науке.
Ответ: ЗАЧИНАТЕЛЕМ
Задание 5 № 1560. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
В офис юриста каждый клиент приходит со своей проблемой, и внимательный приём и ДОВЕРЧИВАЯ беседа являются залогом установления прочных деловых отношений.
Готовые тосты можно украсить базиликом, который нужно предварительно вымыть, хорошо ОТРЯХНУТЬ от капель и нарезать полосками.
Хозяин, не желая показаться НЕВЕЖЕЙ, поспешно вышел из гостиной и первым протянул необычному гостю руку для крепкого рукопожатия.
Информацию о НАЛИЧИИ билетов на детские спектакли, которые будут проходить в дни зимних каникул, можно получить в кассах драматического театра.
Пояснение.
ДОВЕРЧИВЫЙ — склонный к тому, чтобы доверять. По контексту подразумевается ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ.
Ответ: ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ
Задание 5 № 1598. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
СЛОВАРНЫЙ портрет должен быть составлен так, чтобы любой без труда узнал по нему человека, которому он принадлежит.
Пушистый снег ОДЕЛ в серебристые наряды вековые сосны, устремившие свои вечнозелёные вершины в чистое небо.
Окончив сбор лекарственных трав, не забудьте тщательно ОТРЯХНУТЬ одежду и вымыть руки с мылом.
Между ветеранами труда и руководством предприятия состоялся ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ разговор, в ходе которого были затронуты самые различные темы.
Пояснение.
СЛОВАРНЫЙ — указанный в словаре. По контексту подразумевается СЛОВЕСНЫЙ.
Ответ: СЛОВЕСНЫЙ
Задание 5 № 1636. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
ИГРОВОЕ поле для волейбола должно быть прямоугольным и симметричным и включать площадку для игры и свободную зону.
1 апреля Нижегородская филармония откроет продажу АБОНЕМЕНТОВ на новый концертный сезон.
Многократные пересадки могут перенести только самые ЖИВЫЕ растения.
Не следует ПРИНИЖАТЬ значение победы нашей сборной в чемпионате мира по тяжёлой атлетике.
Источник: РЕШУ ЕГЭ
Пояснение.
ЖИВОЙ — обладающий жизнью. По контексту подразумевается ЖИВУЧИЕ.
Ответ: ЖИВУЧИЕ.
Задание 5 № 1674. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
Соскочив с постели одновременно со звонком будильника, Антон быстро ОДЕЛ спортивный костюм и кроссовки и уже через минуту бежал вниз по лестнице, бодро насвистывая какой-то марш.
Этот выдающийся учёный-физик считал себя полным НЕВЕЖДОЙ в литературе.
Молодой учитель с волнением ловил на себе ПРИЗНАТЕЛЬНЫЕ взгляды ребят и продолжал проникновенно говорить обо всём, что накопилось у него на душе.
Между школьниками и учителями уже в первые дни установились добрые и ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ отношения.
Пояснение.
Одевают кого-то, надевают одежду. Корректно: Антон быстро НАДЕЛ спортивный костюм и кроссовки.
Ответ: НАДЕЛ
Задание 5 № 1712. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
Посадка ЖИВОЙ изгороди — одно из лучших решений проблемы ограждения сада, которое предлагает ландшафтное проектирование.
Жак-Ив Кусто, ЗАЧИНЩИК подводных исследований и киносъемок.
Молодой модельер был счастлив ПРЕДСТАВИТЬ взыскательным экспертам в области свежих тенденций в мире моды свою первую коллекцию одежды весеннее-летнего сезона.
Поторопитесь приобрести АБОНЕМЕНТЫ Московской филармонии на новый концертный сезон, чтобы насладиться встречами с талантливыми российскими и зарубежными артистами.
Пояснение.
ЗАЧИНЩИК — тот, кто начинает что-либо, подстрекает на что-либо (неблаговидное). По контексту подразумевается основоположник, т. е. ЗАЧИНАТЕЛЬ.
Ответ: ЗАЧИНАТЕЛЬ
Задание 5 № 1750. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
После бури на море установилось СРАВНИМОЕ затишье.
Настя НАДЕЛА бальное платье и, напевая мелодию вальса, легко закружилась перед зеркалами, представляя себя героиней любимого балета, виденного ею в театре.
Перед усталыми путниками по-прежнему расстилалась НЕОГЛЯДНАЯ даль.
Чтобы побеждать в СЛОВЕСНЫХ баталиях, нужно прекрасно владеть родным языком и иметь острый ум.
Обычно ПУГЛИВЫЕ и осторожные, олени стали появляться на железной дороге.
Источник: РЕШУ ЕГЭ
Актуальность: 2015
Сложность: обычная
Пояснение.
СРАВНИМЫЙ — употребляется только в конструкции СРАВНИМЫЙ С ЧЕМ-ЛИБО. По контексту подразумевается СРАВНИТЕЛЬНЫЙ.
Ответ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ СРАВНИТЕЛЬНОЕ
Задание 5 № 1788. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
Существует много возможностей отрешиться от повседневных забот,СТРЯХНУТЬ с плеч груз накопившейся усталости, но, пожалуй, самая действенная из них — встреча со старыми друзьями.
Невозможно ОБХВАТИТЬ взглядом просторы полей, расстилающиеся вдали.
На пути к победе солдаты готовы были ПРЕТЕРПЕТЬ все бедствия, преодолеть все преграды.
ЗВУЧНЫЙ голос певца разносился по огромному залу, и слушатели, затаив дыхание, наслаждались прекрасным исполнением известной оперной арии.
Пояснение.
В метафоре используется ОХВАТИТЬ, а не ОБХВАТИТЬ.
Ответ: ОХВАТИТЬ
Задание 5 № 1826. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
Чтобы человеку, владеющему иностранным языком, научиться свободно общаться с носителями этого языка, ему необходимо преодолеть ЯЗЫКОВОЙ барьер.
Не стоит ПРИНИЖАТЬ заслуг тренера в победе его воспитанников — юных футболистов — в матче с более опытным соперником.
Информацию о НАЛИЧНОСТИ мест на поезд дальнего следования и стоимости железнодорожных билетов можно узнать не ранее, чем за 45 суток до даты его отправления.
В начале XVIII века с развитием во Франции паркового дела и пейзажной дендрологии ЖИВЫЕ изгороди нашли широкое применение.
Пояснение.
НАЛИЧНОСТЬ — деньги, имеющиеся налицо. По контексту подразумевается НАЛИЧИЕ.
Ответ:НАЛИЧИИ
Задание 5 № 1902. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
Родители должны помнить о том, что хороший ЯЗЫКОВЫЙ детский лагерь может находиться не только в Лондоне.
Работа с денежной НАЛИЧНОСТЬЮ — вопрос серьёзный для каждого предприятия.
Опытные садоводы считают, что правильно выращенная ЖИВАЯ изгородь намного долговечнее и надёжнее самых крепких заборов.
ДЕЛОВОЙ обед можно рассматривать как вариант рабочего общения при условии, что вы пришли на этот обед не для того, чтобы утолить голод или жажду.
Пояснение.
ЯЗЫКОВЫЙ лагерь — лагерь, сделанный из языка. По контексту подразумевается ЯЗЫКОВОЙ лагерь.
Ответ: ЯЗЫКОВОЙ
Задание 5 № 1940. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
Часть комнаты было решено ОТГОРОДИТЬ шифоньером.
ЗЛОСТНЫЙ нарушитель правил размещения наружной рекламы после очередного предупреждения, которое было оставлено им без внимания, был привлечён к административной ответственности.
Воспитанные, ласковые и ИГРИВЫЕ котята бывают у тех заводчиков, которые умеют создать для домашних питомцев атмосферу любви и заботы.
В конце мая на экскурсиях в ботаническом саду, рассчитанных на специалистов в области цветоводства, вниманию посетителей будет ПРЕДОСТАВЛЕНА коллекция древовидных пионов.
Пояснение.
Неверно: В конце мая на экскурсиях в ботаническом саду, рассчитанных на специалистов в области цветоводства, вниманию посетителей будет ПРЕДОСТАВЛЕНА коллекция древовидных пионов. Корректно: В конце мая на экскурсиях в ботаническом саду, рассчитанных на специалистов в области цветоводства, вниманию посетителей будет ПРЕДСТАВЛЕНА коллекция древовидных пионов.
Ответ:ПРЕДСТАВЛЕНА
Задание 5 № 1978. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
«Гигантизм» на Алтае встречается не только в растительном, но и в ЖИВОТНОМ мире: даже широко распространённые в Западной и Восточной Сибири бурый медведь и марал достигают здесь иногда очень внушительных размеров.
Приятель моего соседа изобретательный и ДЕЛОВИТЫЙ, он никогда не бывает без дела сам и не позволяет скучать окружающим
Если вы получили денежную НАЛИЧНОСТЬ в банке, то тратить её вы имеете право только по тому целевому назначению, которое указано в банковском чеке.
Диетологи советуют включать в рацион морскую капусту, или ламинарию, чтобы ПОПОЛНИТЬ недостаток йода в организме, а кроме того, ламинарию можно использовать как средство ухода за кожей лица и тела.
Пояснение.
ПОПОЛНИТЬ что-либо — увеличить что-либо прибавлением нового к нему. По контексту подразумевается ВОСПОЛНИТЬ.
Ответ: ВОСПОЛНИТЬ.
Задание 5 № 2395. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
Рыбак быстро НАДЕЛ наживку на крючок и забросил удочку в воду.
Особой гордостью державы был океанический РЫБОЛОВЕЦКИЙ флот.
Многие любители лёгкой наживы ОТКЛОНЯЮТСЯ от честной трудовой жизни.
В офисе компании нам ПРЕДОСТАВИЛИ всю необходимую информацию.
Мастер стоял в ГОРДЕЛИВОЙ позе, не сдерживая довольной ухмылки.
Источник: РЕШУ ЕГЭ
Актуальность: Используется в 2015—2016 году
Сложность: обычная
Пояснение.
Верно: Многие любители лёгкой наживы УКЛОНЯЮТСЯ от честной трудовой жизни.
Задание 5 № 2434. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
На вопросы об одноклассниках мой товарищ отвечал немногословно и ДИПЛОМАТИЧНО умолчал о бывших между ними разногласиях.
Несколькими яркими, КРАСОЧНЫМИ мазками художник изобразил разбежавшуюся по лужайке детвору.
В недавно обнародованном документе это небольшое островное государство угрожало своим соседям разрывом ДИПЛОМАТИЧНЫХ отношений.
Дремучее НЕВЕЖЕСТВО посетителя изумило даже видавших виды опытных сотрудников.
Можно было заметить под мостами мгновенные отблески звезд в тёмной —не то БОЛОТНОЙ, не то то речной— воде.
Источник: РЕШУ ЕГЭ
Актуальность: 2015
Сложность: обычная
Пояснение.
Задание В5 проверяет умение различать смыслы паронимов (паронимы — разные по смыслу, но близкие по звучанию слова). В третьем предложении должно быть употреблено слово ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ.
Ответ: ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ
Задание 5 № 2732. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
Не так легко было найти выход из ЗАТРУДНЁННОГО положения, в котором мы все оказались.
В ИГОРНОМ зале казино было уже много людей.
В процессе реформы хозяйственной системы Китая КОРЕННЫЕ перемены затронули и рынок страхования.
Несмотря на учёную степень, мой собеседник оказался редкостным НЕВЕЖДОЙ, мало что знающим в области науки.
Вот БОЛОТИСТАЯ речонка, никак не знаешь, где перейти.
Источник: РЕШУ ЕГЭ
Актуальность: 2015
Сложность: обычная
Пояснение.
Неверно: Затруднённое положение. Затруднённый — производимый, происходящий с трудом, с усилиями (затруднённое дыхание, затруднённый пуск двигателя). Затруднительный — оценка какой-либо ситуации как связанной с трудностями в осуществлении, причиняющий затруднения; сложный, тяжелый; вызывающий неловкость, замешательство.
Ответ: затруднительное или затруднительного
Задание 5 № 3696. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
Иногда слухи порождает недостаточная ИНФОРМИРОВАННОСТЬ работающих на предприятии.
Гришаков уехал, и теперь все вопросы, касающиеся его жизни, становятся БЕЗОТВЕТНЫМИ.
Вокруг расстилалась безбрежным морем КАМЕННАЯ пустыня, в которой группами росли кактусы, покрытые крупными розовыми цветами.
Несмотря на рассветный час, людей было много: какая-то КОННАЯ часть двигалась шагом к заставе.
В праздничные дни все аэропорты страны ПЕРЕПОЛНЕНЫ туристами.
Источник: Банк ФИПИ
Актуальность: Используется в 2015—2016 году
Сложность: обычная
Пояснение.
Ошибка допущена при употреблении паронимов «каменная-каменистая.»
КАМЕННЫЙ —сделанный из камня или вообще к камню относящийся
КАМЕНИСТЫЙ —Состоящий целиком или частью из камней, обильный камнями.
Ответ:
Вокруг расстилалась безбрежным морем КАМЕНИСТАЯ пустыня, в которой группами росли кактусы, покрытые крупными розовыми цветами.
Задание 5 № 3735. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
Всё это могло быть ловким трюком, рассчитанным на то, что сотрудник войдёт в доверие к врагам и начнёт ДВОЙНУЮ игру.
Он постоянно нарушал ДИПЛОМАТИЧНЫЙ этикет, разговаривая с послами.
ВЕЧНОЙ красою сияет природа и удивляет нас своим величием.
Сдвигая вековые камни, обрушились вниз ДОЖДЕВЫЕ потоки.
Его инициатива нашла широкий ОТКЛИК в читательской аудитории.
Источник: Банк ФИПИ
Актуальность: Используется в 2015—2016 году
Сложность: обычная
Пояснение.
Ошибка в употреблении слова ДИПЛОМАТИЧНЫЙ.
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ—Относящийся к дипломатии (в значении: деятельность по осуществлению внешней международной политики государства) и к дипломатам.
ДИПЛОМАТИЧНЫЙ—Ловкий, умело и тонко действующий; тонко рассчитанный.
Разница: если слово на ИЧЕСКИЙ имеет прямое отношение к слову, от которого образовано (дипломатия), то слово на ИЧНЫЙ имеет значение «не относящийся напрямую к данному предмету (области), но обладающий некоторыми его признаками.»
Дипломатичный человек может и не быть дипломатом, но вести себя как дипломат может. Этикет же —это нормы, если так можно сказать, поведения дипломатов.
Ответ:
Он постоянно нарушал ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ этикет, разговаривая с послами.
Задание 5 № 3969. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
Мой друг довольно ДИПЛОМАТИЧНЫЙ человек.
Каждый шаг причинял Мересьеву НЕСТЕРПИМУЮ боль.
Глава города поздравил актёров драматического театра, отметив их великолепное ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ мастерство.
Присущую Карельскому перешейку редкую красоту создают ЦАРСТВЕННЫЕ леса, возвышающиеся над живописными водоёмами.
После посева и в период интенсивного роста всходов проводят КОРНЕВЫЕ подкормки для поддержания активной жизнедеятельности растений.
Источник: Банк ФИПИ
Актуальность: Используется в 2015—2016 году
Сложность: обычная
Пояснение.
Ошибка допущена в паре исполнительный—исполнительский.
исполнительный
— 1. только полн. ф. Имеющий своей задачей исполнение решений, постановлений, практически осуществляющий управление чем-либо. 2. Старательный, точно и хорошо исполняющий обязанности, поручения.
исполнительский
— Относящийся к исполнителю, к исполнению какого-либо художественного (музыкального, литературного, драматического) произведения.
Ответ:
Глава города поздравил актёров драматического театра, отметив их великолепное ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ мастерство.
Задание 5 № 5022. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
Сквозь КАМЕННОЕ выражение лица на секунду промелькнула робкая улыбка, и Евгений Иванович вопросительно посмотрел на Машеньку.
ИНФОРМИРОВАННОСТЬ депутата в вопросах сельского хозяйства помогла достаточно быстро и квалифицированно решить многие проблемы.
На тёмной листве блестели ДОЖДЕВЫЕ капли.
ВЕЧНАЯ пыль покрывала всю мебель, и помещение произвело на нас удручающее впечатление.
Он стал ЗАЧИНАТЕЛЕМ нового анимационного жанра.
Источник: Банк ФИПИ
Актуальность: Используется в 2015—2016 году
Сложность: обычная
Пояснение.
Ошибка допущена в паре вечный—вековой.
вековой
— Существующий долго, многие годы, столетия.
вечный
— Бесконечный, без начала и конца, постоянный.
Пыль не может быть вечной, она лишь лежит многие годы.
Ответ: :
ВЕКОВАЯ пыль покрывала всю мебель, и помещение произвело на нас удручающее впечатление.
Задание 5 № 5558. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
Попадая в ЗАТРУДНИТЕЛЬНОЕ положение, каждый из нас действует обычно в соответствии со своим характером.
Интерьеры с дизайном в готическом стиле ВЕЛИЧЕСТВЕННЫ и изящны.
ЭФФЕКТИВНЫЙ метод лечения заболеваний верхних дыхательных путей – ингаляция.
Розовый, багряный и кирпичный цвета являются оттенками красного, но их ЦВЕТНОЙ тон различается по насыщенности и освещённости.
Источник: РЕШУ ЕГЭ
Пояснение.
В контексте предложения вместо слова ЦВЕТНОЙ должно быть употреблено слово ЦВЕТОВОЙ.
Ответ: ЦВЕТОВОЙ
Задание 5 № 7432. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
1) В неясном, рассеянном свете ночи открылись перед нами ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЕ и прекрасные перспективы Петербурга: Нева, набережная, каналы, дворцы.
2) Хром и марганец являются КРАСОЧНЫМИ веществами, компонентами многих красок, созданных на основе этих минералов.
3) ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ отношения между Россией и США были установлены в 1807 году.
4) Самыми ГУМАННЫМИ профессиями на земле являются те, от которых зависят духовная жизнь и здоровье человека.
5) Успех внешней политики государства во многом зависит от опыта и таланта ДИПЛОМАТОВ.
Источник: Демонстрационная версия ЕГЭ—2015 по русскому языку.
Актуальность: Используется в 2015—2016 году
Сложность: обычная
Пояснение.
В предложениях под номерами 1, 3, 4, 5 выделенные слова употреблены верно. В предложении под номером 2 слово КРАСОЧНЫМИ употреблено неверно, имеются ввиду КРАСЯЩИЕ вещества. В ответ следует записать слово КРАСЯЩИМИ| КРАСЯЩИЕ.
Задание 5 № 9180. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
Это совершенно невоспитанный молодой человек, грубый, абсолютный НЕВЕЖА.
Я был наказан за ПРОСТУПОК, совершённый неделю назад.
ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ горный пейзаж вызывал восхищение.
БЛАГОДАРНОЕ письмо было торжественно вручено директору школы.
Сергей был из породы УДАЧЛИВЫХ людей, которым всё давалось легко.
Источник: СтатГрад: Тренировочная работа 23.12.2014 Вариант РЯ10101.
Пояснение.
В предложении четвёртом корректно употребить слово БЛАГОДАРСТВЕННОЕ письмо. Благодарственный — ТОРЖЕСТВЕННО выражающий благодарность. Благодарный — чувствующий или выражающий благодарность (С.И. Ожегов).
Ответ: благодарственное.
Задание 5 № 9244. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
Предметом договора является ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ абоненту услуг связи.
Заметив ОПАСЛИВЫЙ взгляд брата, я тоже насторожился.
НЕТЕРПИМАЯ боль звучала в его голосе и заставляла сжиматься моё сердце.
Инспекторы рыбнадзора продолжают выявлять ЗЛОСТНЫХ браконьеров на реках.
Старинную мебель украшала ИСКУСНАЯ резьба.
Источник: СтатГрад: Тренировочная работа по русскому языку 23.12.2014 Вариант РЯ10102.
Пояснение.
В третьем предложении корректно употребить слово НЕСТЕРПИМАЯ. Нестерпимая — то же, что невыносимая. Нетерпимая — та, с которой нельзя мириться, недопустимая (С.И. Ожегов).
Ответ: нестерпимая.
Задание 5 № 9300. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
Впечатление от нового знакомства у меня осталось весьма ДВОЙСТВЕННОЕ.
Редактор потребовала от корреспондента переработать статью так, чтобы материал был максимально ИНФОРМАЦИОННЫМ, но при этом небольшим по объёму.
Лауреат и ДИПЛОМАНТ многих театральных фестивалей, народный театр-студия решил обновить репертуар и в ближайшее время пригласит зрителей на премьеру спектакля.
Предо мною стоял Доуров, спокойный, холёный Доуров, человек, которого, судя по всему, не слишком волновало моё НЕТЕРПИМОЕ отношение к нему.
Там, где танки делали крутые развороты, вместе со снегом в воздух поднималась мёрзлая ГЛИНИСТАЯ пыль.
Источник: СтатГрад: Диагностическая работа по русскому языку 30.01.2015 Вариант РЯ10201.
Пояснение.
Во втором предложении вместо слова ИНФОРМАЦИОННЫЙ уместно употребить слово ИНФОРМАТИВНЫЙ.
Информационный — осведомляющий о положении дел.
Информативный — насыщенный информацией, содержащий наибольшее количество информации.
Ответ: информативным|информативный.
Задание 5 № 9325. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
Всадник для порядка пустил ещё несколько стрел и, оставив после себя клубы пыли, скрылся за ЛЕСИСТЫМ холмом.
Направьте увлечение подростка в ПРАКТИЧЕСКОЕ русло: предложите ему записаться на курсы или в кружок − эти знания наверняка пригодятся ему в будущем.
В тот день ко мне подошёл устроитель концерта, пожал руку и вручил БЛАГОДАРНОЕ письмо от администрации.
ДЛИТЕЛЬНОЕ время (примерно 200 лет) историки и лингвисты полагали, будто единый центр расселения славян находился в среднем Приднепровье.
Если не принять мер, этот ЗЛОСТНЫЙ сорняк очень быстро распространится по всему саду.
Источник: СтатГрад: Диагностическая работа по русскому языку 30.01.2015 Вариант РЯ10202.
Пояснение.
В третьем предложении вместо слова БЛАГОДАРНОЕ уместно употребить слово БЛАГОДАРСТВЕННОЕ.
Благодарный — чувствующий или выражающий благодарность.
Благодарственный — торжественно выражающий благодарность.
Ответ: благодарственное.
Задание 5 № 9350. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
Ещё оставалось сорок минут, и я пролистал «Даму с собачкой» – рассказ про «БУДНИЧНЫЙ ужас жизни», как написано в предисловии.
Герой произведения чувствует себя совершенно одиноким в огромном ВРАЖДЕБНОМ мире.
И вдруг после первых, ничего не предвещавших фраз эта СКРЫТНАЯ, необщительная женщина нервно открыла нараспашку свою душу.
Почва в наших краях ГЛИНЯНАЯ, пригодная для производства керамических изделий.
Человек дышал ЖИВИТЕЛЬНЫМ воздухом чащ и питался чистыми соками земли, а не керосиновым чадом и консервами.
Источник: СтатГрад: Диагностическая работа по русскому языку 30.01.2015 Вариант РЯ10203.
Пояснение.
В предложении 4 корректно вместо слова ГЛИНЯНАЯ употребить слово ГЛИНИСТАЯ.
ГЛИНЯНАЯ — сделанная из глины.
ГЛИНИСТАЯ — содержащая глину.
Ответ: глинистая.
Задание 5 № 9378. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
На конференции обсуждались проблемы становления ЦЕЛОСТНОЙ личности в период взросления и осознания смысла жизни.
По вечерам мы желаем своим родным спокойной ночи, чтобы утром они встали в ДОБРОТНОМ расположении духа и были готовы к работе.
Решение возникающих конфликтов далеко не всегда было ПРОДУКТИВНЫМ.
Михаил повернулся на ОКЛИК и стал вглядываться, пытаясь понять, кто вылезает из машины.
Как известно, при фальстарте бегуны возвращаются на ИСХОДНЫЕ позиции.
Источник: СтатГрад: Диагностическая работа по русскому языку 30.01.2015 Вариант РЯ10204.
Пояснение.
Во втором предложении текста корректно вместо слова ДОБРОТНОМ употребить слово ДОБРОМ.
ДОБРОТНЫЙ — доброкачественный, прочный.
ДОБРЫЙ — хороший. Встать в добром расположении духа — встать в хорошем расположении духа.
Ответ: добром.
Задание 5 № 9887. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
Участие в форуме столь ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ аудитории обусловлено глобальной важностью вопросов защиты и сохранения водных ресурсов страны.
Сбор исходных данных и оценка ТЕХНИЧЕСКОГО состояния труб для проектирования новых теплосетей позволят провести качественный ремонт к началу отопительного сезона.
Писатель искренне считает это произведение самым УДАЧЛИВЫМ из всего написанного.
В работе жюри фестиваля любительских театров принимает участие профессор кафедры СЦЕНИЧЕСКОЙ пластики университета театрального искусства.
При НАЛИЧИИ значительного кадрового потенциала вполне реальна постановка новых задач.
Источник: ЕГЭ — 2015. Досрочная волна
Пояснение.
В третьем предложении текста корректно вместо слова УДАЧЛИВЫМ употребить слово УДАЧНЫМ.
Ответ:удачным.
Задание 5 № 9933. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
Одним из факторов, влияющих на уровень миграции, является НАЛИЧНОСТЬ рабочих мест в родном городе, области.
Кочевая жизнь делала из каждого монгола ИСКУСНОГО наездника и умелого воина.
Корпус ручки из латуни с лаковым покрытием БОЛОТНОГО цвета украшен изящным орнаментом с геометрическим мотивом.
Только самые усердные и ПАМЯТЛИВЫЕ телезрители могут перечислить детективные сериалы, предлагавшиеся разными каналами за последние несколько лет.
Заключительный доклад был чрезвычайно ИНФОРМАТИВНЫМ и поэтому очень полезным.
Источник: СтатГрад: Тренировочная работа по русскому языку 15.05.2015 Вариант РЯ10301.
Пояснение.
Слово «наличность» употребляется чаще всего в значении «количество чего-либо». В первом предложении уместно употребить слово «наличие», означающее «присутствие, существование чего-либо».
Ответ: наличие.
Задание 5 № 9958. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
Все призывники и военнообязанные подлежат ВОИНСКОМУ учёту.
Весной река представляет собой стремительный поток, а летом уходит под землю, оставляя лишь КАМЕНИСТОЕ русло.
Изделия из натурального ЧЕРЕПАШЬЕГО панциря, довольно распространённые ранее, стали в наше время редкостью.
КОРНЕВОЙ перелом в ходе Великой Отечественной войны был вместе с тем переломом в ходе Второй мировой войны.
Отцу казалось, что и его сын больше склонялся не к точным наукам, а к ГУМАНИТАРНЫМ.
Источник: СтатГрад: Тренировочная работа по русскому языку 15.05.2015 Вариант РЯ10302.
Пояснение.
Слово «корневой» употребляется в значении «связанный с корнем». В четвёртом предложении уместно употребить слово «коренной», употребляемое в значении «кардинальный, важный».
Ответ: коренной.
Задание 5 № 9983. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
Глубокого уважения заслуживает плодотворная педагогическая, общественная и ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ деятельность известного актёра.
Цель программы – расширить возможности талантливых студентов для профессионального роста, ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОЙ деятельности.
С увеличением ПОКУПАТЕЛЬСКОГО спроса завод готов выпускать больше продукции.
Россия имеет ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ отношения со многими странами.
Мякоть КОРНЕВОГО сельдерея очень плотная, ароматная, со сладковатым вкусом, поэтому это растение широко используется в кулинарии.
Источник: Демонстрационная версия ЕГЭ—2016 по русскому языку.
Пояснение.
Во втором предложении корректно вместо слова ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОЙ употребить слово ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ: «Цель программы – расширить возможности талантливых студентов для профессионального роста, ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ деятельности.»
Ответ: изобретательской.
Задание 5 № 10350. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
Дом был старый, ДОБРОТНЫЙ, и Никита Петрович решил остановиться именно здесь.
На стене висела большая, написанная МАСЛЯНЫМИ красками картина.
Шли не спеша, и Володя рассуждал, какое это хорошее состояние, когда сыграешь УДАЧЛИВЫЙ концерт.
О ПРОДЕЛКАХ хитрого кота скоро знал весь дом.
Бит — ДВОИЧНАЯ единица измерения количества информации.
Источник: СтатГрад: Тренировочная работа по русскому языку 01.10.2015 Вариант РЯ10101.
Актуальность: Используется в 2015—2016 году
Сложность: обычная
Пояснение.
удачливый
− только с одуш. сущ. Такой, которому всё удаётся, у которого всегда удача.
удачный
− только с неодуш. сущ. 1. Завершившийся удачей, удавшийся. 2. Хороший.
Ответ: Концерт должен быть «удачный».
Задание 5 № 10375. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
Любой фильм о тайфуне, урагане или наводнении, которые грозят уничтожить жизнь на Земле, начинается с УПОМИНАНИЯ о том, что человечество загрязняет окружающую среду, вызывая тем самым изменения климата.
Очень вкусный ИГРИСТЫЙ напиток можно приготовить из айвы.
Несправедливо полагать, что владельцы «дворянских гнёзд» в России вели исключительно ПРАЗДНИЧНЫЙ образ жизни.
Сергей был человек неконфликтный, сдержанный и ДИПЛОМАТИЧНЫЙ.
«Я люблю работать в КОМФОРТНЫХ условиях», — добавил мой собеседник.
Источник: СтатГрад: Тренировочная работа по русскому языку 01.10.2015 Вариант РЯ10102.
Актуальность: Используется в 2015—2016 году
Сложность: обычная
Пояснение.
праздничный
− 1. только полн. ф. Относящийся к празднику, нарядный, красивый. 2. Торжественно-радостный, счастливый, весёлый;
праздный
− 1. Ничем не занятый, без дела, без полезных занятий. 2. перен. Бесцельный, пустой, порождённый бездельем, праздностью.
В сочетании с образом жизни употребляется прилагательное «праздный».
Ответ: праздный.
Задание 5 № 10400. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте ошибку и запишите это слово правильно.
Впереди расстилалась большая БОЛОТИСТАЯ равнина.
ГОРДЫНЯ и тщеславие – вот что сгубило великий талант молодого писателя.
Не только ГУМАНИТАРНЫЕ науки привлекали Павла: с не меньшим жаром он отдавался математике, астрономии, химии, минералогии.
Письма Елены так и не доходили до АДРЕСАНТА и возвращались обратно.
Мебель в комнате была достаточно примитивная, из ЦЕЛЬНОГО дерева, часто расписанная индийскими орнаментами.
Источник: СтатГрад: Тренировочная работа по русскому языку 19.11.2015 Вариант РЯ10201.
Актуальность: Используется в 2015—2016 году
Сложность: обычная
Пояснение.
адресант
— Тот, кто посылает почтовое или телеграфное отправление (лицо или учреждение).
адресат
— Тот, кому адресовано почтовое отправление (лицо или учреждение).
Имеются в виду люди, которым предназначалась почта, поэтому они—адресаты.
Ответ: адресата или адресат.
Задание 5 № 10425. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте ошибку и запишите это слово правильно.
Настя пришла в клуб в каком-то невыразительном БУДНЕМ платье из хлопковой ткани.
Парикмахер Леонард был ИСКУСНЫМ мастером бритья и перманента.
Территорию усадьбы ОГОРОДИЛИ забором, а около этого забора посадили берёзки.
Где-то за спиной раздался ВОИНСТВЕННЫЙ клич атамана и дробный цокот копыт.
На очаге в небольшом ГЛИНЯНОМ горшке что-то варилось.
Источник: СтатГрад: Тренировочная работа по русскому языку 19.11.2015 Вариант РЯ10202.
Актуальность: Используется в 2015—2016 году
Сложность: обычная
Пояснение.
будний
— (разг.). О времени: относящийся к будням.
будничный
— 1. только полн. ф. Такой, который постоянно окружает человека; предназначенный для будней, труда, занятий, не праздничный. 2. перен. Прозаический, однообразный, скучный.
О платье говорят —будничное.
Ответ: будничном или будничный.
5 ЗАДАНИЕ ЕГЭ РУССКИЙ ЯЗЫК 2023г. С ответами.
ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАНИЯ:
Исправьте ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
1.
Невозможно было ОЖИДАТЬ более тёплого приёма, чем тот, который был организован для гостей фестиваля.
Предлагаемый студентам дополнительный курс лекций позволит им ВОСПОЛНИТЬ пробелы в знаниях.
Территорию, находящуюся под местом кладки карниза, в целях безопасности необходимо ОТГОРОДИТЬ.
На сцене появился ПОПУЛЯРНЫЙ исполнитель.
К сожалению, всё больше появляется ПОПУЛИСТСКИХ лозунгов, причём провозглашаются они весьма известными политиками.
2.
До выполнения ремонтных работ по замене повреждённых элементов необходимо в целях безопасности ОГОРОДИТЬ опасную зону.
Введение новых требований поставит разработчиков нового проекта в ЗАТРУДНЁННОЕ положение.
Необходимая принадлежность многих игр — это ИГРАЛЬНЫЙ кубик.
Информационная служба городской телефонной сети опубликовала итоги перехода АБОНЕНТОВ на новые тарифные планы.
КОРЕННЫЕ жители полуострова живут обособленно многие века, и их быт практически не изменился.
3.
Затопления от наводнений заторного типа, которые мало зависят от уровня водности года, следует ОЖИДАТЬ в апреле и в мае.
Есть проверенный метод чистки меха с коротким ворсом: загрязнённый мех нужно протереть горячим картофельным пюре, а затем тщательно ОТРЯХНУТЬ.
Наибольшее непонимание московских АБОНЕМЕНТОВ вызывает необходимость вносить абонентскую плату за пользование линией.
Новая фирма была зарегистрирована под красивым, ЗВУЧНЫМ именем.
Под его ЖЁСТКИМ взглядом всем становилось не по себе.
4.
АБОНЕМЕНТЫ на концерты, проходящие в Концертном зале имени П. И. Чайковского, можно приобрести во всех кассах Московской государственной академической филармонии.
Метеорологи не имеют возможности заранее с достоверностью прогнозировать наступление погодных аномалий, но учёные не исключают, что в дальнейшем нашу планету ВЫЖИДАЮТ резкие колебания погоды.
Перед тем как использовать суспензию для ингаляции, контейнер необходимо ВСТРЯХНУТЬ лёгким вращательным движением.
Прошедший год был отмечен ВПЕЧАТЛЯЮЩИМИ событиями в культурной жизни страны.
5.
Чтобы приготовить маринад для рыбы, запечённой в углях, нужно СТРЯХНУТЬ семена из четырёх-пяти стручков кардамона, добавить щепотку шафрана и растереть их в ступке с солью.
Девочка резким движением откинула чёлку со лба и неожиданно спокойно и ДОВЕРЧИВО посмотрела Алексею в глаза.
ВЫДАЧА коньков производится при наличии у посетителя катка паспорта или любого другого документа, который может быть оставлен в залог.
Аналитики утверждают, что в наступившем году на рынке ценных бумаг можно ОЖИДАТЬ значительных изменений.
ВЫБИРАЯ то или иное направление, ориентируйтесь строго по компасу.
6.
Участнику деловой или туристической поездки в США для оформления визы необходимо ПРЕДСТАВИТЬ пакет соответствующих документов.
Дефицит кальция в организме помогут ПОПОЛНИТЬ прежде всего такие продукты, как молоко, творог, сыр.
Участие в командных играх и других интересных спортивных мероприятиях дарит нам ЖИВИТЕЛЬНЫЙ заряд бодрости.
При раскатывании теста необходимо периодически СТРЯХИВАТЬ лишнюю муку со скалки.
7.
Инновационный технологический рынок в России в ближайшие три года может ОЖИДАТЬ волна неудач, вызванных цикличным характером его развития.
Пржевальского ждали зыбучие пески, миражи, бураны, лютые холода и НЕТЕРПИМАЯ жара.
В течение последних лет опытные тренеры подготовили сильных игроков, которые в ближайшее время будут готовы ПОПОЛНИТЬ сборную России.
ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ беседа делает отношения в семье более глубокими и прочными, а самих членов семьи — более счастливыми.
8.
Задача гимнастики — ВОСПОЛНИТЬ дефицит движения, а вместе с ним и дефицит питания костей, хрящей, связок и мышц.
Все без исключения производители различных отраслей стараются оригинально ПРЕДСТАВИТЬ свои новинки.
Русский морской офицер Н. Н. Апостоли, известный конструктор фотокамер конца XIX — начала XX веков, по праву считается ЗАЧИНЩИКОМ корабельной фотографии.
Кошек принято считать необычайно ЖИВУЧИМИ, но на самом деле за этими домашними животными требуется серьёзный уход, и прежде всего они нуждаются в наблюдении ветеринара, определяющего правильный рацион питания.
9.
В офис юриста каждый клиент приходит со своей проблемой, и внимательный приём, и ДОВЕРЧИВАЯ беседа являются залогом установления прочных деловых отношений.
Готовые тосты можно украсить базиликом, который нужно предварительно вымыть, хорошо ОТРЯХНУТЬ от капель и нарезать полосками.
Хозяин, не желая показаться НЕВЕЖЕЙ, поспешно вышел из гостиной и первым протянул необычному гостю руку для крепкого рукопожатия.
Информацию о НАЛИЧИИ билетов на детские спектакли, которые будут проходить в дни зимних каникул, можно получить в кассах драматического театра.
10.
СЛОВАРНЫЙ портрет должен быть составлен так, чтобы любой без труда узнал по нему человека, которому он принадлежит.
Пушистый снег ОДЕЛ в серебристые наряды вековые сосны, устремившие свои вечнозелёные вершины в чистое небо.
Окончив сбор лекарственных трав, не забудьте тщательно ОТРЯХНУТЬ одежду и вымыть руки с мылом.
Между ветеранами труда и руководством предприятия состоялся ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ разговор, в ходе которого были затронуты самые различные темы.
11.
ИГРОВОЕ поле для волейбола должно быть прямоугольным и симметричным и включать площадку для игры и свободную зону.
1 апреля Нижегородская филармония откроет продажу АБОНЕМЕНТОВ на новый концертный сезон.
Многократные пересадки могут перенести только самые ЖИВЫЕ растения.
Не следует ПРИНИЖАТЬ значение победы нашей сборной в чемпионате мира по тяжёлой атлетике.
12.
Соскочив с постели одновременно со звонком будильника, Антон быстро ОДЕЛ спортивный костюм и кроссовки и уже через минуту бежал вниз по лестнице, бодро насвистывая какой-то марш.
Этот выдающийся учёный-физик считал себя полным НЕВЕЖДОЙ в литературе.
Молодой учитель с волнением ловил на себе ПРИЗНАТЕЛЬНЫЕ взгляды ребят и продолжал проникновенно говорить обо всём, что накопилось у него на душе.
Между школьниками и учителями уже в первые дни установились добрые и ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ отношения.
13.
Посадка ЖИВОЙ изгороди — одно из лучших решений проблемы ограждения сада, которое предлагает ландшафтное проектирование.
Жак-Ив Кусто, ЗАЧИНЩИК подводных исследований и киносъемок.
Молодой модельер был счастлив ПРЕДСТАВИТЬ взыскательным экспертам в области свежих тенденций в мире моды свою первую коллекцию одежды весеннее-летнего сезона.
Поторопитесь приобрести АБОНЕМЕНТЫ Московской филармонии на новый концертный сезон, чтобы насладиться встречами с талантливыми российскими и зарубежными артистами.
14.
После бури на море установилось СРАВНИМОЕ затишье.
Настя НАДЕЛА бальное платье и, напевая мелодию вальса, легко закружилась перед зеркалами, представляя себя героиней любимого балета, виденного ею в театре.
Перед усталыми путниками по-прежнему расстилалась НЕОГЛЯДНАЯ даль.
Чтобы побеждать в СЛОВЕСНЫХ баталиях, нужно прекрасно владеть родным языком и иметь острый ум.
Обычно ПУГЛИВЫЕ и осторожные, олени стали появляться на железной дороге.
15.
Существует много возможностей отрешиться от повседневных забот,СТРЯХНУТЬ с плеч груз накопившейся усталости, но, пожалуй, самая действенная из них — встреча со старыми друзьями.
Невозможно ОБХВАТИТЬ взглядом просторы полей, расстилающиеся вдали.
На пути к победе солдаты готовы были ПРЕТЕРПЕТЬ все бедствия, преодолеть все преграды.
ЗВУЧНЫЙ голос певца разносился по огромному залу, и слушатели, затаив дыхание, наслаждались прекрасным исполнением известной оперной арии.
16.
Чтобы человеку, владеющему иностранным языком, научиться свободно общаться с носителями этого языка, ему необходимо преодолеть ЯЗЫКОВОЙ барьер.
Не стоит ПРИНИЖАТЬ заслуг тренера в победе его воспитанников — юных футболистов — в матче с более опытным соперником.
Информацию о НАЛИЧНОСТИ мест на поезд дальнего следования и стоимости железнодорожных билетов можно узнать не ранее, чем за 45 суток до даты его отправления.
В начале XVIII века с развитием во Франции паркового дела и пейзажной дендрологии ЖИВЫЕ изгороди нашли широкое применение.
17.
Родители должны помнить о том, что хороший ЯЗЫКОВЫЙ детский лагерь может находиться не только в Лондоне.
Работа с денежной НАЛИЧНОСТЬЮ — вопрос серьёзный для каждого предприятия.
Опытные садоводы считают, что правильно выращенная ЖИВАЯ изгородь намного долговечнее и надёжнее самых крепких заборов.
ДЕЛОВОЙ обед можно рассматривать как вариант рабочего общения при условии, что вы пришли на этот обед не для того, чтобы утолить голод или жажду.
18.
Часть комнаты было решено ОТГОРОДИТЬ шифоньером.
ЗЛОСТНЫЙ нарушитель правил размещения наружной рекламы после очередного предупреждения, которое было оставлено им без внимания, был привлечён к административной ответственности.
Воспитанные, ласковые и ИГРИВЫЕ котята бывают у тех заводчиков, которые умеют создать для домашних питомцев атмосферу любви и заботы.
В конце мая на экскурсиях в ботаническом саду, рассчитанных на специалистов в области цветоводства, вниманию посетителей будет ПРЕДОСТАВЛЕНА коллекция древовидных пионов.
19.
«Гигантизм» на Алтае встречается не только в растительном, но и в ЖИВОТНОМ мире: даже широко распространённые в Западной и Восточной Сибири бурый медведь и марал достигают здесь иногда очень внушительных размеров.
Приятель моего соседа изобретательный и ДЕЛОВИТЫЙ, он никогда не бывает без дела сам и не позволяет скучать окружающим
Если вы получили денежную НАЛИЧНОСТЬ в банке, то тратить её вы имеете право только по тому целевому назначению, которое указано в банковском чеке.
Диетологи советуют включать в рацион морскую капусту, или ламинарию, чтобы ПОПОЛНИТЬ недостаток йода в организме, а кроме того, ламинарию можно использовать как средство ухода за кожей лица и тела.
20.
Рыбак быстро НАДЕЛ наживку на крючок и забросил удочку в воду.
Особой гордостью державы был океанический РЫБОЛОВЕЦКИЙ флот.
Многие любители лёгкой наживы ОТКЛОНЯЮТСЯ от честной трудовой жизни.
В офисе компании нам ПРЕДОСТАВИЛИ всю необходимую информацию.
Мастер стоял в ГОРДЕЛИВОЙ позе, не сдерживая довольной ухмылки.
21.
На вопросы об одноклассниках мой товарищ отвечал немногословно и ДИПЛОМАТИЧНО умолчал о бывших между ними разногласиях.
Несколькими яркими, КРАСОЧНЫМИ мазками художник изобразил разбежавшуюся по лужайке детвору.
В недавно обнародованном документе это небольшое островное государство угрожало своим соседям разрывом ДИПЛОМАТИЧНЫХ отношений.
Дремучее НЕВЕЖЕСТВО посетителя изумило даже видавших виды опытных сотрудников.
Можно было заметить под мостами мгновенные отблески звезд в тёмной —не то БОЛОТНОЙ, не то то речной— воде.
22.
Не так легко было найти выход из ЗАТРУДНЁННОГО положения, в котором мы все оказались.
В ИГОРНОМ зале казино было уже много людей.
В процессе реформы хозяйственной системы Китая КОРЕННЫЕ перемены затронули и рынок страхования.
Несмотря на учёную степень, мой собеседник оказался редкостным НЕВЕЖДОЙ, мало что знающим в области науки.
Вот БОЛОТИСТАЯ речонка, никак не знаешь, где перейти.
23.
Иногда слухи порождает недостаточная ИНФОРМИРОВАННОСТЬ работающих на предприятии.
Гришаков уехал, и теперь все вопросы, касающиеся его жизни, становятся БЕЗОТВЕТНЫМИ.
Вокруг расстилалась безбрежным морем КАМЕННАЯ пустыня, в которой группами росли кактусы, покрытые крупными розовыми цветами.
Несмотря на рассветный час, людей было много: какая-то КОННАЯ часть двигалась шагом к заставе.
В праздничные дни все аэропорты страны ПЕРЕПОЛНЕНЫ туристами.
24.
Всё это могло быть ловким трюком, рассчитанным на то, что сотрудник войдёт в доверие к врагам и начнёт ДВОЙНУЮ игру.
Он постоянно нарушал ДИПЛОМАТИЧНЫЙ этикет, разговаривая с послами.
ВЕЧНОЙ красою сияет природа и удивляет нас своим величием.
Сдвигая вековые камни, обрушились вниз ДОЖДЕВЫЕ потоки.
Его инициатива нашла широкий ОТКЛИК в читательской аудитории.
25.
Мой друг довольно ДИПЛОМАТИЧНЫЙ человек.
Каждый шаг причинял Мересьеву НЕСТЕРПИМУЮ боль.
Глава города поздравил актёров драматического театра, отметив их великолепное ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ мастерство.
Присущую Карельскому перешейку редкую красоту создают ЦАРСТВЕННЫЕ леса, возвышающиеся над живописными водоёмами.
После посева и в период интенсивного роста всходов проводят КОРНЕВЫЕ подкормки для поддержания активной жизнедеятельности растений.
26.
Сквозь КАМЕННОЕ выражение лица на секунду промелькнула робкая улыбка, и Евгений Иванович вопросительно посмотрел на Машеньку.
ИНФОРМИРОВАННОСТЬ депутата в вопросах сельского хозяйства помогла достаточно быстро и квалифицированно решить многие проблемы.
На тёмной листве блестели ДОЖДЕВЫЕ капли.
ВЕЧНАЯ пыль покрывала всю мебель, и помещение произвело на нас удручающее впечатление.
Он стал ЗАЧИНАТЕЛЕМ нового анимационного жанра.
27.
Попадая в ЗАТРУДНИТЕЛЬНОЕ положение, каждый из нас действует обычно в соответствии со своим характером.
Интерьеры с дизайном в готическом стиле ВЕЛИЧЕСТВЕННЫ и изящны.
ЭФФЕКТИВНЫЙ метод лечения заболеваний верхних дыхательных путей – ингаляция.
Розовый, багряный и кирпичный цвета являются оттенками красного, но их ЦВЕТНОЙ тон различается по насыщенности и освещённости.
28.
В неясном, рассеянном свете ночи открылись перед нами ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЕ и прекрасные перспективы Петербурга: Нева, набережная, каналы, дворцы.
Хром и марганец являются КРАСОЧНЫМИ веществами, компонентами многих красок, созданных на основе этих минералов.
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ отношения между Россией и США были установлены в 1807 году.
Самыми ГУМАННЫМИ профессиями на земле являются те, от которых зависят духовная жизнь и здоровье человека.
Успех внешней политики государства во многом зависит от опыта и таланта ДИПЛОМАТОВ.
29.
Это совершенно невоспитанный молодой человек, грубый, абсолютный НЕВЕЖА.
Я был наказан за ПРОСТУПОК, совершённый неделю назад.
ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ горный пейзаж вызывал восхищение.
БЛАГОДАРНОЕ письмо было торжественно вручено директору школы.
Сергей был из породы УДАЧЛИВЫХ людей, которым всё давалось легко.
30.
Предметом договора является ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ абоненту услуг связи.
Заметив ОПАСЛИВЫЙ взгляд брата, я тоже насторожился.
НЕТЕРПИМАЯ боль звучала в его голосе и заставляла сжиматься моё сердце.
Инспекторы рыбнадзора продолжают выявлять ЗЛОСТНЫХ браконьеров на реках.
Старинную мебель украшала ИСКУСНАЯ резьба.
ОТВЕТЫ:
-
огородить|оградить.
-
затруднительное.
-
абонентов.
-
ожидают.
-
вытряхнуть.
-
восполнить.
-
нестерпимая.
-
зачинателем.
-
доверительная.
-
словесный.
-
живучие.
-
надел.
-
зачинатель.
-
сравнительный|сравнительное.
-
Охватить.
-
наличии.
-
языковой.
-
представлена.
-
восполнить.
-
уклоняются.
-
дипломатических.
-
затруднительное или затруднительного.
-
каменистая.
-
дипломатический.
-
исполнительское.
-
вековая.
-
цветовой.
-
красящими.
-
благодарственное.
-
нестерпимая.
Русский язык (Вариант 48)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.До выполнения ремонтных работ по замене повреждённых элементов необходимо в целях безопасности ОГОРОДИТЬ опасную зону.
Введение новых требований поставит разработчиков нового проекта в ЗАТРУДНЁННОЕ положение.
Необходимая принадлежность многих игр — это ИГРАЛЬНЫЙ кубик.
Информационная служба городской телефонной сети опубликовала итоги перехода АБОНЕНТОВ на новые тарифные планы.
По окончании производственной практики каждый студент должен ПРЕДСТАВИТЬ отчёт о проведённой работе.
Русский язык ЕГЭ
Посмотрите видеоурок по этой теме
Заметили ошибку в тексте?
Выделите её и нажмите Ctrl + Enter
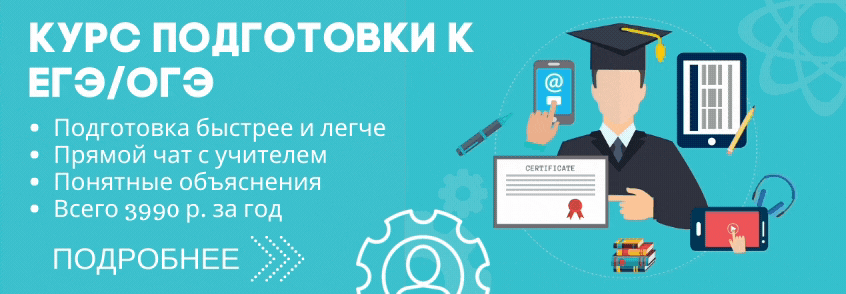
1
Рассказ Рида Грачева
ДИСПУТ О СЧАСТЬЕ
Шумели деревья в Екатерининском парке. За деревьями ревели моторы. По улицам шли солдаты и пенсионеры. Над Лицеем полз вверх маленький самолет. В библиотеке начинался диспут на тему «Что такое счастье».
На диспут пришли двенадцать пенсионеров и взвод солдат. Солдаты сели строем на две скамейки и стали держать на коленях пилотки. Пенсионеры сложили на стол сумки, книги, зонтики и палки. Пришла какая-то женщина в строгом жакете, села в уголок и стала серьезно смотреть на солдат и пенсионеров.
«Вот они пришли, — думала женщина-библиотекарь, — и хотят говорить о счастье. «На свете счастья нет, а есть покой и воля». Я понимаю, что это значит, и я счастлива. Я счастлива, потому что знаю, какие слова весят и какие нет, какие поступки стоят того, чтобы их совершать, а какие никому не нужны. Я счастлива, потому что не жду от людей больше, чем они могут сделать и понять, и не сержусь на тех, кто причиняет мне боль. Они ведь не виноваты, они просто не понимают».
«Я счастлива, — думала женщина, — потому что меня радует бледное солнце за окном, и шум деревьев в парке, похожий на рев моторов, и рев моторов, похожий на шум деревьев. И эти солдаты с розовыми лицами и с пилотками на коленях, и эти опрятные старички и старушки, которым нечего делать и которые хотят поговорить о счастье».
Библиотекарь хотела сказать обо всем этом солдатам и пенсионерам, но в углу сидела женщина в скучном жакете, и библиотекарь подумала, что говорить не стоит, потому что ее могут не понять, а незнакомая женщина, возможно, имеет свои установки на счастье, и ей может не понравиться то, что думала библиотекарь.
Кто знает эту женщину, кто она? Зачем она пришла сюда? Что думает эта женщина в своем серьезном жакете?
И библиотекарь сказала обычные слова, какие должны говорить библиотекари, открывая диспуты о счастье.
Затем встал старичок в пиджаке цвета асфальта, только рукава до локтей не выцвели на его пиджаке, потому что много лет были закрыты нарукавниками.
Он сказал, что счастье в труде и что все зависит от того, какую специальность выберешь в молодости. Сам он выбрал профессию бухгалтера и совсем не жалеет об этом. Он был счастлив, счастлив всю жизнь.
Старичок говорил долго, но главное он сказал вначале.
Румяная старушка сказала, что однажды, когда она заболела, к ней пришел молодой врач. Этот врач был очень любезен. Он сделал ей укол, прописал лекарство, улыбался, шутил. И она была счастлива оттого, что к ней пришел любезный молодой врач. Он так хорошо улыбался!
Потом старушка была в магазине. Там стояло в очереди много стиляг в узких брюках. Они толкались, наступали на ноги и не говорили «извините», не говорили «пожалуйста». И когда один стиляга сильно толкнул старушку, она сказала: «Какая теперь грубая молодежь!» И вдруг стиляга повернулся, улыбнулся и сказал старушке: «Простите, пожалуйста, здесь так тесно!» И кто же это был? Это был молодой врач. Да, да, она его сразу узнала. И она была счастлива во второй раз.
Старушка еще долго рассказывала о молодом враче, но самое важное она рассказала вначале.
Другой старичок сказал, что счастье зависит от людей, с которыми рядом живешь, и что самые плохие люди — мещане. У них у всех квартиры в Ленинграде и дачи в Ялте. Жить с ними рядом — сплошное несчастье. Но он никогда не видел мещан своими глазами и не знает, где они живут. Поэтому он счастливый.
Остальные девять старичков и старушек также сказали свои мнения о счастье. Они говорили долго и очень по-разному. Но главное — выяснилось, что все они счастливы или были счастливы, и, узнав это, старички и старушки порозовели и стали похожи издали на молодых.
Солдаты ничего не сказали о счастье. Они сидели строем, держали пилотки на коленях и хотели в кино. Женщина в мрачном жакете тоже ничего не сказала. Она убрала в сумку блокнот и строго посмотрела на солдат и пенсионеров.
Библиотекарь взглянула в окно на красное солнце, посмотрела на женщину в черном жакете, вздохнула и сказала обычные слова, какие говорят библиотекари, закрывая диспуты о счастье.
Пенсионеры взяли со стола свои книги, сумки, зонтики и палки. Солдаты встали со скамеек и вышли строем, держа пилотки в руках.
Куда-то делась женщина в незаметном жакете.
Библиотекарь вышла на улицу.
По улице шли солдаты и пенсионеры. Шумели деревья в Екатерининском парке. В кино шли разные люди, в основном молодые. В основном, они улыбались. А те, кто не улыбался, — смеялись. А те, кто не смеялся, — пели.
На них смотрел старичок в асфальтовом пиджаке и думал, что все они счастливы, потому что выбрали хорошие специальности.
Старушка смотрела и видела много молодых врачей, любезных, в узких брюках. И каждый раз, когда мимо проходил молодой врач, она радостно вздрагивала и ее пожилое сердце сладко сжималось и сильно стучало…
Другой старичок смотрел и не видел мещан. Мещане прятались в своих квартирах и на дачах в Ялте. И поэтому старичок весело стучал палкой, глядя, как мимо идет передовая советская молодежь.
Остальные старички и старушки тоже смотрели на молодежь и вспоминали о том, какие они были счастливые по разным своим причинам и как хорошо они выступали на диспуте.
Только сами молодые люди не думали о счастье. Они были просто молоды, и просто красивы, и просто ошалели от счастья. Они просто шли в кино.
Женщина-библиотекарь тоже не думала о счастье. Она хотела сказать им, что ей также весело, что она тоже идет в кино и — видите — тоже улыбается.
Но она была уже не молодая и знала, что такое счастье. Поэтому она решила никому ничего не говорить.
…Солнце садилось за Баболовским парком. Над Лицеем взбирался к рыжему облаку маленький самолет.
1961
2
Юрий Буйда
Продавец добра
Целыми днями Родион Иванович сидел в лавчонке на базаре, торговавшей скобяным товаром, – это был зимой и летом ледяной каменный мешок с единственным окном под самым потолком, – и грыз жареные семечки, чтобы пересилить тягу к табаку. В магазинчике командовала его жена – толстенькая энергичная бабешка, сыпавшая матерком и покрикивавшая на какого-нибудь неуклюжего мужика в тулупе, забравшегося в угол: «Эй, ты чего там разжопатился? Из-за тебя к ведрам не подойти!» Родион Иванович, повинуясь ее приказам, таскал из подсобки ящики с гвоздями, мотки проволоки или «занадобившийся этому черту сепаратор». Усатый «черт» в мерлушковой шапке притопывал сапожищами на кирпичном полу, приговаривая: «Добра-то у вас как много… и откуда только берется?» Выбравшись из склада с сепаратором в руках, Родион Иванович отвечал с одышкой: «Добра-то много – да добра нет». Выражение лица его всегда было печально-ласковое.
Вина он не пил, потому и удивились люди, узнав, что Родион Иванович сошел с ума. Все чокнутые делились в городке на две категории: на тех, кто отроду дурак, и на тех, кто свихнулся из-за безудержного пьянства и лечился в психушке. Ни к тем, ни к другим Родион Иванович не принадлежал, даже на рыбалке замечен не был. Когда жену его спрашивали, не страшно ли ей жить бок о бок с психом, она хмуро отвечала: «Да чего страшного? Сидит себе в уголку, с мухами беседует…»
Вскоре, однако, Родион Иванович нашел себе занятие, прославившее его на весь городок. Из обрезков бумаги он клеил коробки чуть больше спичечных и разносил по домам, предлагая купить за деньги или за спасибо.
Однажды он постучал и в нашу дверь. Я открыл. На пороге переминался с ноги на ногу тощий тип с печально-ласковым выражением лица, в стареньком брезентовом плаще и выгоревшем до рыжины берете на стриженной под ноль узкой голове.
– Не желаете ли добра? – просипел он, заискивающе заглядывая мне в глаза. – Вот. – Он протянул коробочку с подтеками клея на углах. – Не обижайтесь.
Выручил отец. Он сердито сунул Родиону Ивановичу какую-то медную мелочь и захлопнул дверь. Коробочку отдал мне.
В своей комнате я осторожно открыл коробку. Одна сторона ее была не заклеена и служила крышкой, внутри оказалась коробка поменьше, с такой же незаклеенной крышечкой. На дне этой второй коробки аккуратным почерком малограмотного человека было начертано одно-единственное слово – «добро».
Я до сих пор храню эту коробочку, чудом уцелевшую после всех переездов и передряг. Чернила на донышке выцвели, приобрели желтоватый оттенок, но слово по-прежнему хорошо различимо. Кажется, с годами я начал понимать, что слово «добро» обладает всего одним – одним-единственным – смыслом, и именно тем, который вложил в него несчастный Родион Иванович из затерянного на краю света городка.
3
Свеча горела. Майк Гелприн
Опубликовал HUNTER | 18.02.2014
Звонок раздался, когда Андрей Петрович потерял уже всякую надежду.
— Здравствуйте, я по объявлению. Вы даёте уроки литературы?
Андрей Петрович вгляделся в экран видеофона. Мужчина под тридцать. Строго одет — костюм, галстук. Улыбается, но глаза серьёзные. У Андрея Петровича ёкнуло сердце, объявление он вывешивал в сеть лишь по привычке. За десять лет было шесть звонков. Трое ошиблись номером, ещё двое оказались работающими по старинке страховыми агентами, а один попутал литературу с лигатурой.
— Д-даю уроки, — запинаясь от волнения, сказал Андрей Петрович. — Н-на дому. Вас интересует литература?
— Интересует, — кивнул собеседник. — Меня зовут Максим. Позвольте узнать, каковы условия.
«Задаром!» — едва не вырвалось у Андрея Петровича.
— Оплата почасовая, — заставил себя выговорить он. — По договорённости. Когда бы вы хотели начать?
— Я, собственно… — собеседник замялся.
— Первое занятие бесплатно, — поспешно добавил Андрей Петрович. — Если вам не понравится, то…
— Давайте завтра, — решительно сказал Максим. — В десять утра вас устроит? К девяти я отвожу детей в школу, а потом свободен до двух.
— Устроит, — обрадовался Андрей Петрович. — Записывайте адрес.
— Говорите, я запомню.
В эту ночь Андрей Петрович не спал, ходил по крошечной комнате, почти келье, не зная, куда девать трясущиеся от переживаний руки. Вот уже двенадцать лет он жил на нищенское пособие. С того самого дня, как его уволили.
— Вы слишком узкий специалист, — сказал тогда, пряча глаза, директор лицея для детей с гуманитарными наклонностями. — Мы ценим вас как опытного преподавателя, но вот ваш предмет, увы. Скажите, вы не хотите переучиться? Стоимость обучения лицей мог бы частично оплатить. Виртуальная этика, основы виртуального права, история робототехники — вы вполне бы могли преподавать это. Даже кинематограф всё ещё достаточно популярен. Ему, конечно, недолго осталось, но на ваш век… Как вы полагаете?
Андрей Петрович отказался, о чём немало потом сожалел. Новую работу найти не удалось, литература осталась в считанных учебных заведениях, последние библиотеки закрывались, филологи один за другим переквалифицировались кто во что горазд. Пару лет он обивал пороги гимназий, лицеев и спецшкол. Потом прекратил. Промаялся полгода на курсах переквалификации. Когда ушла жена, бросил и их.
Сбережения быстро закончились, и Андрею Петровичу пришлось затянуть ремень. Потом продать аэромобиль, старый, но надёжный. Антикварный сервиз, оставшийся от мамы, за ним вещи. А затем… Андрея Петровича мутило каждый раз, когда он вспоминал об этом — затем настала очередь книг. Древних, толстых, бумажных, тоже от мамы. За раритеты коллекционеры давали хорошие деньги, так что граф Толстой кормил целый месяц. Достоевский — две недели. Бунин — полторы.
В результате у Андрея Петровича осталось полсотни книг — самых любимых, перечитанных по десятку раз, тех, с которыми расстаться не мог. Ремарк, Хемингуэй, Маркес, Булгаков, Бродский, Пастернак… Книги стояли на этажерке, занимая четыре полки, Андрей Петрович ежедневно стирал с корешков пыль.
«Если этот парень, Максим, — беспорядочно думал Андрей Петрович, нервно расхаживая от стены к стене, — если он… Тогда, возможно, удастся откупить назад Бальмонта. Или Мураками. Или Амаду».
Пустяки, понял Андрей Петрович внезапно. Неважно, удастся ли откупить. Он может передать, вот оно, вот что единственно важное. Передать! Передать другим то, что знает, то, что у него есть.
Максим позвонил в дверь ровно в десять, минута в минуту.
— Проходите, — засуетился Андрей Петрович. — Присаживайтесь. Вот, собственно… С чего бы вы хотели начать?
Максим помялся, осторожно уселся на край стула.
— С чего вы посчитаете нужным. Понимаете, я профан. Полный. Меня ничему не учили.
— Да-да, естественно, — закивал Андрей Петрович. — Как и всех прочих. В общеобразовательных школах литературу не преподают почти сотню лет. А сейчас уже не преподают и в специальных.
— Нигде? — спросил Максим тихо.
— Боюсь, что уже нигде. Понимаете, в конце двадцатого века начался кризис. Читать стало некогда. Сначала детям, затем дети повзрослели, и читать стало некогда их детям. Ещё более некогда, чем родителям. Появились другие удовольствия — в основном, виртуальные. Игры. Всякие тесты, квесты… — Андрей Петрович махнул рукой. — Ну, и конечно, техника. Технические дисциплины стали вытеснять гуманитарные. Кибернетика, квантовые механика и электродинамика, физика высоких энергий. А литература, история, география отошли на задний план. Особенно литература. Вы следите, Максим?
— Да, продолжайте, пожалуйста.
— В двадцать первом веке перестали печатать книги, бумагу сменила электроника. Но и в электронном варианте спрос на литературу падал — стремительно, в несколько раз в каждом новом поколении по сравнению с предыдущим. Как следствие, уменьшилось количество литераторов, потом их не стало совсем — люди перестали писать. Филологи продержались на сотню лет дольше — за счёт написанного за двадцать предыдущих веков.
Андрей Петрович замолчал, утёр рукой вспотевший вдруг лоб.
— Мне нелегко об этом говорить, — сказал он наконец. — Я осознаю, что процесс закономерный. Литература умерла потому, что не ужилась с прогрессом. Но вот дети, вы понимаете… Дети! Литература была тем, что формировало умы. Особенно поэзия. Тем, что определяло внутренний мир человека, его духовность. Дети растут бездуховными, вот что страшно, вот что ужасно, Максим!
— Я сам пришёл к такому выводу, Андрей Петрович. И именно поэтому обратился к вам.
— У вас есть дети?
— Да, — Максим замялся. — Двое. Павлик и Анечка, погодки. Андрей Петрович, мне нужны лишь азы. Я найду литературу в сети, буду читать. Мне лишь надо знать что. И на что делать упор. Вы научите меня?
— Да, — сказал Андрей Петрович твёрдо. — Научу.
Он поднялся, скрестил на груди руки, сосредоточился.
— Пастернак, — сказал он торжественно. — Мело, мело по всей земле, во все пределы. Свеча горела на столе, свеча горела…
— Вы придёте завтра, Максим? — стараясь унять дрожь в голосе, спросил Андрей Петрович.
— Непременно. Только вот… Знаете, я работаю управляющим у состоятельной семейной пары. Веду хозяйство, дела, подбиваю счета. У меня невысокая зарплата. Но я, — Максим обвёл глазами помещение, — могу приносить продукты. Кое-какие вещи, возможно, бытовую технику. В счёт оплаты. Вас устроит?
Андрей Петрович невольно покраснел. Его бы устроило и задаром.
— Конечно, Максим, — сказал он. — Спасибо. Жду вас завтра.
— Литература — это не только о чём написано, — говорил Андрей Петрович, расхаживая по комнате. — Это ещё и как написано. Язык, Максим, тот самый инструмент, которым пользовались великие писатели и поэты. Вот послушайте.
Максим сосредоточенно слушал. Казалось, он старается запомнить, заучить речь преподавателя наизусть.
— Пушкин, — говорил Андрей Петрович и начинал декламировать.
«Таврида», «Анчар», «Евгений Онегин».
Лермонтов «Мцыри».
Баратынский, Есенин, Маяковский, Блок, Бальмонт, Ахматова, Гумилёв, Мандельштам, Высоцкий…
Максим слушал.
— Не устали? — спрашивал Андрей Петрович.
— Нет-нет, что вы. Продолжайте, пожалуйста.
День сменялся новым. Андрей Петрович воспрянул, пробудился к жизни, в которой неожиданно появился смысл. Поэзию сменила проза, на неё времени уходило гораздо больше, но Максим оказался благодарным учеником. Схватывал он на лету. Андрей Петрович не переставал удивляться, как Максим, поначалу глухой к слову, не воспринимающий, не чувствующий вложенную в язык гармонию, с каждым днём постигал её и познавал лучше, глубже, чем в предыдущий.
Бальзак, Гюго, Мопассан, Достоевский, Тургенев, Бунин, Куприн.
Булгаков, Хемингуэй, Бабель, Ремарк, Маркес, Набоков.
Восемнадцатый век, девятнадцатый, двадцатый.
Классика, беллетристика, фантастика, детектив.
Стивенсон, Твен, Конан Дойль, Шекли, Стругацкие, Вайнеры, Жапризо.
Однажды, в среду, Максим не пришёл. Андрей Петрович всё утро промаялся в ожидании, уговаривая себя, что тот мог заболеть. Не мог, шептал внутренний голос, настырный и вздорный. Скрупулёзный педантичный Максим не мог. Он ни разу за полтора года ни на минуту не опоздал. А тут даже не позвонил. К вечеру Андрей Петрович уже не находил себе места, а ночью так и не сомкнул глаз. К десяти утра он окончательно извёлся, и когда стало ясно, что Максим не придёт опять, побрёл к видеофону.
— Номер отключён от обслуживания, — поведал механический голос.
Следующие несколько дней прошли как один скверный сон. Даже любимые книги не спасали от острой тоски и вновь появившегося чувства собственной никчемности, о котором Андрей Петрович полтора года не вспоминал. Обзвонить больницы, морги, навязчиво гудело в виске. И что спросить? Или о ком? Не поступал ли некий Максим, лет под тридцать, извините, фамилию не знаю?
Андрей Петрович выбрался из дома наружу, когда находиться в четырёх стенах стало больше невмоготу.
— А, Петрович! — приветствовал старик Нефёдов, сосед снизу. — Давно не виделись. А чего не выходишь, стыдишься, что ли? Так ты же вроде ни при чём.
— В каком смысле стыжусь? — оторопел Андрей Петрович.
— Ну, что этого, твоего, — Нефёдов провёл ребром ладони по горлу. — Который к тебе ходил. Я всё думал, чего Петрович на старости лет с этой публикой связался.
— Вы о чём? — у Андрея Петровича похолодело внутри. — С какой публикой?
— Известно с какой. Я этих голубчиков сразу вижу. Тридцать лет, считай, с ними отработал.
— С кем с ними-то? — взмолился Андрей Петрович. — О чём вы вообще говорите?
— Ты что ж, в самом деле не знаешь? — всполошился Нефёдов. — Новости посмотри, об этом повсюду трубят.
Андрей Петрович не помнил, как добрался до лифта. Поднялся на четырнадцатый, трясущимися руками нашарил в кармане ключ. С пятой попытки отворил, просеменил к компьютеру, подключился к сети, пролистал ленту новостей. Сердце внезапно зашлось от боли. С фотографии смотрел Максим, строчки курсива под снимком расплывались перед глазами.
«Уличён хозяевами, — с трудом сфокусировав зрение, считывал с экрана Андрей Петрович, — в хищении продуктов питания, предметов одежды и бытовой техники. Домашний робот-гувернёр, серия ДРГ-439К. Дефект управляющей программы. Заявил, что самостоятельно пришёл к выводу о детской бездуховности, с которой решил бороться. Самовольно обучал детей предметам вне школьной программы. От хозяев свою деятельность скрывал. Изъят из обращения… По факту утилизирован…. Общественность обеспокоена проявлением… Выпускающая фирма готова понести… Специально созданный комитет постановил…».
Андрей Петрович поднялся. На негнущихся ногах прошагал на кухню. Открыл буфет, на нижней полке стояла принесённая Максимом в счёт оплаты за обучение початая бутылка коньяка. Андрей Петрович сорвал пробку, заозирался в поисках стакана. Не нашёл и рванул из горла. Закашлялся, выронив бутылку, отшатнулся к стене. Колени подломились, Андрей Петрович тяжело опустился на пол.
Коту под хвост, пришла итоговая мысль. Всё коту под хвост. Всё это время он обучал робота.
Бездушную, дефективную железяку. Вложил в неё всё, что есть. Всё, ради чего только стоит жить. Всё, ради чего он жил.
Андрей Петрович, превозмогая ухватившую за сердце боль, поднялся. Протащился к окну, наглухо завернул фрамугу. Теперь газовая плита. Открыть конфорки и полчаса подождать. И всё.
Звонок в дверь застал его на полпути к плите. Андрей Петрович, стиснув зубы, двинулся открывать. На пороге стояли двое детей. Мальчик лет десяти. И девочка на год-другой младше.
— Вы даёте уроки литературы? — глядя из-под падающей на глаза чёлки, спросила девочка.
— Что? — Андрей Петрович опешил. — Вы кто?
— Я Павлик, — сделал шаг вперёд мальчик. — Это Анечка, моя сестра. Мы от Макса.
— От… От кого?!
— От Макса, — упрямо повторил мальчик. — Он велел передать. Перед тем, как он… как его…
— Мело, мело по всей земле во все пределы! — звонко выкрикнула вдруг девочка.
Андрей Петрович схватился за сердце, судорожно глотая, запихал, затолкал его обратно в грудную клетку.
— Ты шутишь? — тихо, едва слышно выговорил он.
— Свеча горела на столе, свеча горела, — твёрдо произнёс мальчик. — Это он велел передать, Макс. Вы будете нас учить?
Андрей Петрович, цепляясь за дверной косяк, шагнул назад.
— Боже мой, — сказал он. — Входите. Входите, дети.
4
Геласимов Андрей
Нежный возраст
Андрей Геласимов
Нежный возраст
Рассказ
14 марта 1995 года. 16 часов 05 минут (время московское).
Сегодня проснулся оттого, что за стеной играли на фортепиано. Там живет старушка, которая дает уроки. Играли дерьмово, но мне понравилось. Решил научиться. Завтра начну. Теннисом заниматься больше не буду.
15 марта 1995 года.
И плаванием заниматься не буду. Надоело. Все равно пацаны ходят только для того, чтобы за девчонками подглядывать. В женской душевой есть специальная дырка.
Ходил к старухе насчет фортепиано. Согласилась. Деньги, сказала, вперед. Она раньше была директором музыкальной школы. Потом то ли выгнали, то ли сама ушла. Рок-н-ролл играть не умеет. В квартире воняет дерьмом. Книжек много.
Посмотрим.
17 марта 1995 года.
Как меня все достали. В школе одни дебилы. Что учителя, что однокласснички. Гидроцефалы. Фракийские племена. Буйный расцвет дебилизма. Семенов лезет со своей дружбой. Может, попросить, чтобы меня перевели в обычную школу?
18 марта 1995 года.
Отец не дает денег на музыкальную старуху. Говорит, что я ничего не довожу до конца. Жмот несчастный. Говорит, что тренер по теннису стоил ему целое состояние. А может, я будущий Рихтер? Старухе надо-то на гречневую крупу. Жмот. Но он говорит — дело принципа. Сначала надо разобраться в себе.
Было бы в чем разбираться.
«А ты сам в себе разобрался?» — хотел я его спросить.
Но не спросил. Побоялся, наверное.
19 марта 1995 года.
Опять не дали уснуть всю ночь. Ругались. Сначала у себя в спальне, потом в столовой. Мама кричала как сумасшедшая. Может, они думают, что я глухой?
20 марта 1995 года.
Старуха дала какой-то древний черно-белый фильм. Сказала, что я должен посмотреть. Без денег учить отказывается.
В школе полный мрак.
Да будет свет, сказал монтер
И яйца фосфором натер.
Яйца, разумеется, были куриные. Тихо лежали в углу и светились во мраке системы просвещения.
Учителей надо разгонять палкой. Пусть работают на огородах. Достали.
23 марта 1995 года.
Интересно, сколько стоит хороший автомат? Мне бы в нашей школе он пригодился. Ненавижу девчонок. Тупые дуры. Распустят волосы и сидят. Каким надо быть дураком, чтобы в них влюбиться? Воображают фиг знает что.
Дома тоже автомат бы не помешал. Опять орали всю ночь. Они что, плохо слышат друг друга?
24 марта 1995 года.
В школу приходил тренер по теннису. Сказал, что я, конечно, могу не ходить, но денег он не вернет. Козел. Я спросил, не научит ли он меня играть на пианино.
Берешь автомат и стреляешь ему в лоб. Одиночным выстрелом.
25 марта 1995 года.
Антон Стрельников сказал, что влюбился в новую училку по истории. Лучше бы он крысиного яду наелся. Такая же тупая, как все.
Переводишь автомат на стрельбу очередями и начинаешь их всех поливать. Привет вам от Папы Карло.
25 марта — вечер.
Прикол. Снова приходил Семенов. Уговорил меня выйти во двор. Предложил закурить, но я отказался. Сказал, что теннисом занимаюсь. Он начал спрашивать, где и когда. Я сказал, что ему денег не хватит. Тогда он уронил свою сигарету, а я взял и поднял. Он подошел очень близко и поцеловал меня в щеку. Я не знал, что мне делать. Постоял, а потом треснул его по морде. Он упал и заплакал. Я сказал, что я его убью. У меня есть автомат. Не знаю, почему так сказал. Просто сказал — и все. Достал он меня. Тогда он сказал, чтобы я не пересаживался от него в школе. Сидел с ним, как раньше, за одной партой. А он мне за это денег даст. Я спросил его — сколько, и он сказал — пятьдесят. У него откуда-то взялись пятьдесят баксов. И я сказал — покажи. У него, правда, было пятьдесят баксов. Я их взял и снова треснул его по морде. У него пошла кровь, и он сказал, что я все равно теперь с ним сидеть буду. Я врезал ему еще раз.
26 марта 1995 года.
Старуха взяла деньги Семенова и сказала, что ее зовут Октябрина Михайловна. Ну и имечко. В квартире воняет кошачьим дерьмом. Как она это терпит? Спросила: посмотрел ли я фильм?
А я даже не помню, куда засунул кассету. Не дай бог мама ее куда-нибудь зашвырнула. Она вчера много всего об стенку расколошматила. Может быть, ей купить автомат?
28 марта 1995 года.
Достали меня все. И этот дневник меня тоже достал. А не пойдешь ли ты к черту, дневник? А?
30 марта 1995 года.
Нашел кассету Октябрины Михайловны. Валялась под креслом у меня в комнате. Вроде бы целая. Неужели придется ее смотреть?
1 апреля 1995 года.
Сказал родителям, что меня выгоняют из школы. Они позабыли, что не разговаривают друг с другом почти неделю, и тут же начали между собой орать. Потом, когда успокоились, папа спросил: за что? Я сказал — за гомосексуализм. Он повернулся и врезал мне в ухо. Изо всех сил. Наверное, на маму так разозлился. Она опять закричала, а я сказал — дураки, сегодня первое апреля, ха-ха-ха.
2 апреля 1995 года.
Водил на улицу котов Октябрины Михайловны. Ей самой трудно. Они рвутся в разные стороны как сумасшедшие. Мяукают, кошек зовут. Я думал — у них это только в марте бывает. Пять сумасшедших котов на поводочках — и я. Соседние пацаны во дворе ржали как лошади.
Ухо еще болит.
Октябрина Михайловна опять спросила про фильм. Его, наверняка, снимали в эпоху немого кино. Все-таки придется смотреть. Жалко ее обманывать.
3 апреля 1995 года — почти ночь.
Пацаны во дворе помогли мне поймать котов. Я запутался в поводках, упал, и они разбежались. Один залез на дерево. Двое сидели на гараже и орали. Остальные носились по всему двору. Пацаны спросили меня — чьи это кошки, а потом помогли их поймать. Они сказали, что Октябрина Михайловна классная старуха. Она раньше давала им деньги, чтобы они не охотились на бродячих котов. А потом просто давала им деньги. Даже когда они перестали охотиться. На мороженое — вообще на всякую ерунду. Когда еще спускалась во двор. Но теперь давно уже не выходит. Пацаны спросили — как она там, и я ответил, что все нормально. Только в квартире немного воняет. И тогда они мне сказали, что если хочу, то я могу поиграть с ними в баскетбол.
Вечером в комнату приходил отец. Сидел, молчал. Потом спросил про уроки. Они опять с мамой не разговаривают.
Может, он хотел извиниться?
4 апреля 1995 года.
Вот это да! Просто нет слов. Я кассету наконец посмотрел. Называется «Римские каникулы». Надо переписать себе обязательно.
5 апреля 1995 года.
Октябрина Михайловна говорит, что актрису зовут Одри Хепберн. Она была знаменитой лет сорок назад. Я не понимаю: почему она вообще перестала быть знаменитой? Никогда не видел таких… даже не знаю как назвать… женщин. Нет, женщин таких не бывает. У нас в классе учатся женщины.
Одри Хепберн — красивое имя. Она совсем другая. Не такая, как у нас в классе. Я не понимаю, в чем дело.
6 апреля 1995 года.
Снова смотрел «Каникулы». Невероятно. Откуда она взялась? Таких не бывает.
Сегодня играл с пацанами во дворе в баскетбол. Высокий Андрей толкнул меня, и я свалился в большую лужу. Он подошел, извинился и помог мне встать. А потом сказал, что не хотел бить меня два года назад, когда все пацаны собрались, чтобы поймать меня возле подъезда. Они хотели сломать мой велосипед. Отец привез из Арабских Эмиратов. Андрей сказал, что не хотел бить. Просто все решили, а он подчинился. Я ему сказал, что не помню об этом.
Мне тогда зашивали бровь. Бровь и еще на локте два шрама.
А завтра идем играть против пацанов из другого двора. С нашими я уже со всеми здороваюсь за руку.
Отец приходил. Сказал, что я сам виноват в том, что случилось первого апреля. Не надо было так по-дурацки шутить. Я сказал ему — да, конечно.
7 апреля 1995 года.
Мама говорит, что я достал ее со своим черно-белым фильмом. Она не помнит Одри Хепберн. Она мне сказала: ты что, думаешь, я такая старая? Смотрел «Римские каникулы» в седьмой раз. Папа сказал, что он видел еще один фильм с Одри — «Завтрак у Тиффани». Потом посмотрел на меня и добавил, чтобы я не забивал себе голову ерундой.
А я забиваю. Смотрю на нее. Иногда останавливаю пленку и просто
смотрю.
Откуда она взялась? Почему за сорок лет больше таких не было?
Одри.
9 апреля 1995 года.
Октябрина Михайловна показала мне песню «Moon River». Из фильма «Завтрак у Тиффани». Кассеты у нее нет. Когда пела — несколько раз останавливалась. Отворачивалась к окну. Я тоже туда смотрел. Ничего там такого не было, за окном. Потом сказала, что они ровесницы. Она и Одри. Я чуть не свалился со стула. 1929 год. Лучше бы она этого не говорила. Еще сказала, что Одри Хепберн умерла два года назад в Швейцарии. В возрасте 63 лет.
Какая-то ерунда. Ей не может быть шестьдесят три года. Никому не может быть столько лет.
А Октябрина Михайловна сказала: «Значит, мне тоже пора. Все кончилось. Больше ничего не будет».
Потом мы сидели молча, и я не знал, как оттуда уйти.
12 апреля 1995 года.
Я рассказал Октябрине Михайловне про Семенова. Не про то, конечно, откуда у меня взялись для нее деньги, а так — вообще. В принципе про Семенова. Она дала мне книжку Оскара Уайльда. Про какой-то портрет. Завтра почитаю.
Через две недели у меня день рождения. Думаю позвать пацанов из двора. Интересно, что скажет папа?
Он приходил сегодня ночью. Я уже спал. Вошел и включил свет. Потом сказал: «Не прикидывайся. Я знаю, что ты не спишь».
Я посмотрел на часы — было двадцать минут четвертого. Еле глаза открыл. А он говорит: «Вот видишь». И я подумал: а что это интересно я должен «вот видеть»?
Он сел к моему компьютеру и стал пить свое виски. Прямо из горлышка. Минут десять, наверное, так сидели. Он у компьютера — я на своей кровати. Я подумал: может, штаны надеть? А он говорит: с кем я хочу остаться, если они с мамой будут жить по отдельности? Я говорю — ни с кем, я хочу спать. А он говорит — у тебя могла быть совсем другая мама. Ее должны были звать Наташа. А я думаю — у меня маму зовут Лена. А он говорит — шлюха она. А я ему говорю — мою маму зовут Лена. Он посмотрел на меня и говорит: а ты уроки приготовил на завтра?
15 апреля 1995 года.
Вчера ходили с нашими пацанами драться в соседний двор. Те проиграли нам в баскетбол и не хотят отдавать деньги. Уговор был на двадцать баксов. Наши пацаны дней пять собирали свою двадцатку. Трясли по всему району шпану. Тех, у кого есть бабки. Раньше бы и меня трясли. Короче, высокий Андрей сказал — надо наказывать. Мне сломали ползуба. Теперь придется вставлять. Пацаны заглядывали мне в рот и хлопали по плечу. Андрей сказал — с боевым крещением.
В школе все по-прежнему. Полный отстой. Антон Стрельников влюбился в другую училку. Алгебра на этот раз. Придурок. Про Одри Хепберн он даже не слышал. Хотел сперва дать ему фильм, но потом передумал. Пусть тащится от своих теток.
16 апреля 1995 года.
Семенов пришел в школу весь в синяках. У меня тоже верхняя губа еще не прошла. Опухла и висит, как большая слива. Нормально смотримся за одной партой. Антон говорит, что Семенова папаша отделал. Примерно догадываюсь за что. Но Антон говорит, что он его постоянно колотит. С детского сада еще. Они вместе в один детский садик ходили. Говорит, что папаша бил Семенова прямо при воспитателях. Даже милиция приезжала. Но он откупился. Раздал бабки ментам и утащил маленького Семенова за воротник в машину. В машине, говорит Антон, еще ему добавил. А Семенов из машины визжал как поросенок. «Нам тогда было лет шесть,- сказал Антон.- Мы стояли вокруг джипа и старались заглянуть внутрь. Окна-то высоко. Слышно только, как он визжит, и посмотреть охота. А воспитательницы все ушли. Семеновский папаша им тоже тогда денег дал. Да и холодно было. Почти Новый год. Чего им на улице делать? Ну да — на следующий день подарки давали — елка там, Дед Мороз».
17 апреля 1995 года.
Дома больше никто не орет. Они вообще не разговаривают друг с другом. Даже через меня. Мама два раза не ночевала дома. Папа смотрел телевизор, а потом пел. Закрывался в ванной комнате и пел какие-то странные песни. В два часа ночи. Интересно, что подумали соседи?
Октябрина Михайловна говорит, что у детей проблемы с родителями оттого, что дети не успевают застать своих родителей в нормальном возрасте. Пока те еще не стали такими, как сейчас. В этом заключается драма. Так говорит Октябрина Михайловна. А раньше они были нормальные.
Она говорит, что помнит, как мой папа появился в нашем доме.
«Он был такой худой, веселый. И сразу видно, что из провинции».
Оказывается, у мамы уже был тогда парень, почти жених. Октябрина Михайловна не помнит его имени.
Сегодня специально ходил по улицам и смотрел — сколько женщин походит на Одри Хепберн.
Нисколько.
Промочил ноги и потерял ключи. Жалко брелок. Если свистишь, он отзывается. Посвистел во дворе немного — бесполезно. Где-то в другом месте, видимо, уронил.
18 апреля 1995 года.
Октябрина Михайловна вспомнила, как папа (только он тогда был еще не папа, а просто неизвестно кто) однажды пришел на день рождения к маме в костюме клоуна. Шел в нем прямо по улице, а потом показывал фокусы. В подъезде и во дворе. Все соседи вышли из своих квартир. Она говорит — было ужасно весело. Все смеялись и хлопали.
Дочитал книжку Оскара Уайльда. Круто. Может, позвать Семенова на день рождения?
Ходил свистеть на соседнюю улицу. Губа почти не болит, но из-за сломанного зуба свистеть как-то не так. Брелок не нашелся. Вместо него появились те пацаны, с которыми мы дрались на прошлой неделе.
Еле убежал.
19 апреля 1995 года.
Сегодня приходил милиционер. Оказывается, высокий Андрей сломал одному из тех пацанов ключицу. Теперь его родители подали в суд. Я видел, как Андрей тогда схватил обрезок трубы, но милиционеру ничего не сказал. Я там, говорю, вообще не был. А он смотрит на мое разбитое лицо и говорит: не был? Я говорю нет.
Пацаны во дворе сказали мне — ты нормальный.
Я не предатель.
Вчера приснилось, что это меня затащил в машину отец. Бьет изо всех сил, а я не могу от него увернуться. Только голову закрываю. Руки маленькие — никак от него не закрыться. Он такой большой, а у меня пальто неудобное. С воротником. И руки в нем плохо поднимаются. Я уже забыл о нем, а теперь вдруг во сне увидел. Бабушка подарила, когда мне было пять лет. А в окно машины заглядывает Антон Стрельников. Но почему-то большой. И целуется с учительницей алгебры.
Потом приснилась Одри.
20 апреля 1995 года.
Я умею играть «Moon River» на пианино. Одним пальцем. Октябрина Михайловна смеется надо мной и говорит, что остальные девять мне не нужны. Со мной и так все ясно.
Посмотрим.
Папа сказал, что костюм клоуна ему одолжил один приятель из циркового училища. Он говорит, что у него не было денег на нормальный подарок тогда.
«Какие подарки? Вообще не было денег. Пришлось корчить из себя дурака. Чуть от стыда не умер. А ты откуда узнал?»
Я говорю — от Октябрины Михайловны. А он говорит: ты где для нее деньги нашел? Я говорю — секрет фирмы.
Мама опять не ночевала дома.
21 апреля 1995 года.
Семенов сказал, что знает настоящее имя Одри. А я ему говорю — я думал, что Одри — настоящее. А он говорит — ни фига. Ее звали Эдда Кэтлин ван-Хеемстра Хепберн-Рустон. Я ему говорю — напиши. Он написал. Я говорю: а ты-то откуда знаешь? Он говорит — я в детстве любил прикольные имена запоминать. Первого монгольского космонавта звали Жугдэрдемидийн Гуррагча. Я говорю — врешь. А второго? Он говорит — второго не было. Можешь проверить. А первого звали Гуррагча. Сам посмотри на Интернете. Там и про Одри Хепберн до фига всего есть. Я говорю: например? Он говорит — ну, она дочь голландской баронессы и английского банкира. Снималась в Голливуде в пятидесятых годах. А до этого — в Англии. Я говорю: а ты зачем про нее смотрел?
Он молчит и ничего мне не отвечает. Я ему снова говорю. И он тогда пальцем показывает на мою тетрадь. Там четыре раза на одной странице написано: «Одри Хепберн».
24 апреля 1995 года.
Снова рассказал Октябрине Михайловне про Семенова. Она сказала — дело в том, что мы все в итоге должны умереть. Это и есть самое главное. Мы умрем. А если это понял, то уже не важно — каков твой друг. Просто его становится жалко. И себя жалко. И родителей. Вообще всех. А все остальное — не важно. Утрясется само собой. Главное, что пока живы. Она говорит, а сама на меня смотрит и потом спрашивает: ты понял? Я говорю — понял. Только Семенов мне как бы не друг. А она говорит — это тоже не важно. Вы оба умрете. Я думаю спасибо, конечно. Но так-то она права. Она говорит — потрогай свою коленку. Я потрогал. Она говорит — что чувствуешь? Я говорю — коленка. Она говорит — там кость. У тебя внутри твой скелет. Настоящий скелет, понимаешь? Как в ваших дурацких фильмах. Как на кладбище. Он твой. Это твой личный скелет. Когда-нибудь он обнажится. Никто не может этого изменить. Надо жалеть друг друга, пока он внутри. Ты понимаешь? Я говорю — чего непонятного? Скелет внутри — значит, все нормально. Она улыбается и говорит — молодец. А вообще умирать не страшно. Как будто вернулся домой. Как в детстве. Ты в детстве любил куда-нибудь ездить? Я говорю — к бабушке. Она в деревне живет. Она говорит — ну вот, значит, как к бабушке. Ты не бойся. Я говорю — я не боюсь. Она говорит — умирать не страшно.
2 мая 1995 года.
Высокого Андрея арестовали. Не за ключицу. За нее, видимо, будет отдельный срок. Все получилось из-за Семенова. Семенов у меня на дне рождения без конца рассказывал всякую чепуху про черных рэпперов и хип-хоп. А пацаны из двора слушали его с раскрытыми ртами. Папа мне даже потом сказал — он что, из музыкальной тусовки? Я объяснил ему насчет Интернета. Но пацаны про Интернет не в курсе. Только в общих чертах. Они не знали, что Семенов меня заранее спросил — кто будет на дне рождения. Высокий Андрей мне на кухне сказал классный парень. Он что, типа из Америки приехал? А я говорю — просто читает много. Интересуется. Короче, они ушли вместе с Андреем и потом, видимо, где-то напились. Я не знаю, как у них там все получилось, но к утру джип семеновского папаши сгорел в гараже. Плюс еще две машины какого-то депутата. Он их от проверки там прятал. В Думе теперь шерстят за лишние тачки. Папаша бил Семенова ножкой от стула. Сломал ему несколько ребер и кисть левой руки. Наверное, Семенов этой рукой закрывался. Но от милиции откупил. Арестовали одного Андрея. Пацаны во дворе ходят груженые. В баскетбол перестали играть. Со мной не разговаривают.
11 мая 1995 года.
Приходила мама. Сказала: можно поговорить? Я сказал — можно. Она говорит ты какой-то странный в последнее время. У тебя все в порядке? Я говорю: это я странный? Она говорит — не хами. И смотрит на меня. Так, наверное, минут пять молчали. А потом говорит — я, может, уеду скоро. Я говорю — а. Она говорит может, завтра. Я снова говорю — а. Она говорит: я не могу тебя взять с собой, ты ведь понимаешь? Я говорю — понятно. А она говорит: чего ты заладил со своим «понятно»? А я говорю — я не заладил, я только один раз сказал. Сказал и сам смотрю на нее. А она на меня смотрит. И потом заплакала. Я говорю: а куда? Она говорит — в Швейцарию. Я говорю — там Одри Хепберн жила. Она говорит: это из твоего кино? Я говорю — да. Она смотрит на меня и говорит — красивая? Я молчу. А она говорит: у тебя девочка есть? Я говорю: а у тебя когда самолет? Она говорит — ну и ладно. Потом еще молчали минут пять. В конце она говорит: ты будешь обо мне помнить? Я говорю — наверное. На память пока не жалуюсь. Тогда она встала и ушла. Больше уже не плакала.
14 мая 1995 года.
Октябрина Михайловна умерла. Вчера вечером. Больше не буду писать. Не буду.
г. Якутск
5
В. Астафьев, рассказ «Хвостик»
Смеется, заливается, хохочет мальчик… Овсянский остров напоминал когда-то голову — туповатую с затылка и заостренную, чубатую со лба. В любое время года была та голова в окладе венца — бледная зимняя плешь обметана чернолесьем; весной плешь острова нечесано путалась серо-свалявшейся отавой, взятой в кольцо багряно-мерцающих тальников, которые не по дням, а по часам погружались в глубину вспененного черемушника. Пока черемуха кружилась, метелила по берегам острова, в середине его вспыхивала и, стряхнув в себя рыхлый цвет, оробело останавливалась прибрежная гуща, утихали листом тальники, ольхи, вербы, черемухи, отгородившись от пожара полосой небоязного к огню смородинника… В осени мягкий лист кустарников бронзовел, и выкошенный, чистый остров в ровной стрижке зеленой отавы победно возносил мачту над высоким стогом сена. И всю-то зимушку покрыто было боязливое темечко земли пухлой шапкой сена, и серебряно звенел венец, надетый на чело острова. Желтая птица кружилась и кружилась над зимним стогом. Ветер с Енисея гнал ее встречь бурям, и алым флагом вспыхивало крыло высокой птицы под широкой зарею в часы предвечерья. Гидростанция зарегулировала реку, откатилась вода, и стал Овсянский остров полуостровом. Захудала на нем некошеная трава, усохли кустарники. По оголившейся отноге и пологим берегам налет зеленого помета — цветет малопроточная вода. Перестала цвести и рожать черемуха, обуглились, почернели ее ветви и стволы; не полыхают более цветы — они вытоптаны или вырваны с корнем. Лишь живучий курослеп сорит еще желтой перхотью средь лета, да жалица и колючий бурьян растут по оподолью бывшего острова. Прежде были в заречье деревенские покосы и пашни, но где они были — уже не найти. Нынче сооружен здесь деревянный причал. Валом валят на эти берега хозяйственные дачники, чтобы холить на личных огородах и в теплицах редкую овощь, цветы, ягоды, В субботу и воскресенье — пароход за пароходом, теплоход за теплоходом, катер за катером, «Ракета» за «Ракетой» прилипают к причалу и выделяют из себя жизнерадостный народ. Под бравую песню «То ли еще будет…» расползаются они пo затоптанному клочку земли, глядя на который еще раз убеждаешься, что в смысле выделения мусора и нечистот никто сравниться с высшим существом не может — ни птица, ни зверь… Берега и поляны в стекле, жести, бумаге, полиэтилене — гуляки жгут костры, пьют, жуют, бьют, ломают, гадят, и никто, никто не прибирает за собою, да и в голову такое не приходит — ведь они приехали отдыхать от трудов. Оглохла земля, коростой покрылась. Если что и растет на ней, то растет в заглушье, украдкой, растет кривобоко — изуродованное, пораненное, битое, обожженное… Хохочет мальчик на берегу. Увидел что-то не просто смешное, а потешное, вот и хохочет. Подхожу, обнаруживаю: возле вчерашнего, воскресного кострища, средь объедков и битого стекла, стоит узкая консервная баночка, а из нее торчит хвостик суслика, и скрюченные задние лапки. И не просто так стоит банка с наклейкой, на которой красуется слово «Мясо», на газете стоит, и не просто на газете, а на развороте ее, где крупно, во всю полосу нарисована художником шапка: «В защиту природы…» Шапка подчеркнута не то красным ломаным карандашом, не то губной помадой, через всю полосу шатающиеся, промоклые красные буквы, из них составлено слово: «Отклик». — Что же ты смеешься, мальчик?! — Хво… хво… хвостик! Да, хвостик суслика смешон — напоминает он ржаной колосок, из которого выбито ветром зерно, жалкий, редкостный хвостик — не сеют нынче в заречье хлеба. Дачными ягодами суслику не прожить, вот с голоду и подался крошки по берегу подбирать, тут его поймали весёлые гуляки и засунули в банку, судя по царапинам на обёртке, засунули живого. И «отклик» на газете, догадываюсь я, написан не карандашом, а кровью зверушки. |
6
Зачем я убил коростеля? Виктор Астафьев
Это было давно, лет, может, сорок назад. Ранней осенью я возвращался с рыбалки по скошенному лугу и возле небольшой, за лето высохшей бочажины, поросшей тальником, увидел птицу.
Она услышала меня, присела в скошенной щетинке осоки, притаилась, но глаз мой чувствовала, пугалась его и вдруг бросилась бежать, неуклюже заваливаясь набок.
От мальчишки, как от гончей собаки, не надо убегать — непременно бросится он в погоню, разожжется в нем дикий азарт. Берегись тогда живая душа!
Я догнал птицу в борозде и, слепой от погони, охотничьей страсти, захлестал ее сырым удилищем.
Я взял в руку птицу с завядшим, вроде бы бескостным тельцем. Глаза ее были прищемлены мертвыми, бесцветными веками, шейка, будто прихваченный морозом лист, болталась. Перо на птице было желтовато, со ржавинкой по бокам, а спина словно бы темноватыми гнилушками посыпана.
Я узнал птицу — это был коростель. Дергач по-нашему. Все его друзья-дергачи покинули наши места, отправились в теплые края — зимовать. А этот уйти не смог. У него не было одной лапки — в сенокос он попал под литовку. Вот потому-то он и бежал от меня так неуклюже, потому я и догнал его.
И худое, почти невесомое тельце птицы ли, нехитрая ли окраска, а может, и то, что без ноги была она, но до того мне сделалось жалко ее, что стал я руками выгребать ямку в борозде и хоронить так просто, сдуру загубленную живность.
Я вырос в семье охотника и сам потом сделался охотником, но никогда не стрелял без надобности. С нетерпением и виной, уже закоренелой, каждое лето жду я домой, в русские края, коростелей.
Уже черемуха отцвела, купава осыпалась, чемерица по четвертому листу пустила, трава в стебель двинулась, ромашки по угорам сыпанули и соловьи на последнем издыхе допевают песни.
Но чего-то не хватает еще раннему лету, чего-то недостает ему, чем-то недооформилось оно, что ли.
И вот однажды, в росное утро, за речкой, в лугах, покрытых еще молодой травой, послышался скрип коростеля. Явился, бродяга! Добрался-таки! Дергает-скрипит! Значит, лето полное началось, значит, сенокос скоро, значит, все в порядке.
И всякий год вот так. Томлюсь и жду я коростеля, внушаю себе, что это тот давний дергач каким-то чудом уцелел и подает мне голос, прощая того несмышленого, азартного парнишку.
Теперь я знаю, как трудна жизнь коростеля, как далеко ему добираться к нам, чтобы известить Россию о зачавшемся лете.
Зимует коростель в Африке и уже в апреле покидает ее, торопится туда, «…где зори маковые вянут, как жар забытого костра, где в голубом рассвете тонут зеленокудрые леса, где луг еще косой не тронут, где васильковые глаза…». Идет, чтобы свить гнездо и вывести потомство, выкормить его и поскорее унести ноги от гибельной зимы.
Не приспособленная к полету, но быстрая на бегу, птица эта вынуждена два раза в году перелетать Средиземное море. Много тысяч коростелей гибнет в пути и особенно при перелете через море.
Как идет коростель, где, какими путями — мало кто знает. Лишь один город попадает на пути этих птиц — небольшой древний город на юге Франции. На гербе города изображен коростель. В те дни, когда идут коростели по городу, здесь никто не работает. Все люди справляют праздник и пекут из теста фигурки этой птицы, как у нас, на Руси, пекут жаворонков к их прилету.
Птица коростель во французском старинном городе считается священной, и если бы я жил там в давние годы, меня приговорили бы к смерти.
Но я живу далеко от Франции. Много уже лет живу и всякого навидался. Был на войне, в людей стрелял, и они в меня стреляли.
Но отчего же, почему же, как заслышу я скрип коростеля за речкой, дрогнет мое сердце и снова навалится на меня одно застарелое мучение: зачем я убил коростеля? Зачем?
7
Лу Синь
БУМАЖНЫЙ ЗМЕЙ
В Пекине зима, на земле еще плотным слоем лежит снег, черные ветви голых деревьев вырисовываются на чистом небе, и я с удивлением и печалью гляжу на бумажных змеев, плывущих вдали.
У меня на родине время бумажных змеев — второй месяц весны. Услышишь шум ветряного колеса, поднимешь голову — и видишь, как летит темно-серый краб или стоножка нежно-голубого цвета. А то еще бывает бесшумный змей-черепица. На нем нет ветряных колес, его пускают очень низко, и он кажется жалким и отверженным в своем одиночестве. На земле в это время уже появляются побеги на иве, ранний горный персик раскрывает цветы, и вместе с небом, украшенным бумажными змеями, приносят они ласку весеннего дня. Где же я теперь? Вокруг меня жестокий холод суровой зимы, и в этом воздухе проносится безвозвратно ушедшая весна моей родины, с которой я давным-давно расстался.
Но я никогда не любил пускать бумажных змеев; больше того, я ненавидел это занятие: я считал его забавой дурных детей. Не так смотрел на это мой младший брат. Ему было тогда лет десять, и змеи были страстью этого болезненного, худенького мальчика. У него не было денег на покупку змея, да я и не позволял ему пускать их, и он иногда часами простаивал, в восторге раскрыв рот и самозабвенно следя за небом. Вот неожиданно опустился паривший в высоте краб, и брат в испуге вскрикивает; разъединились две спутавшиеся в воздухе нитками черепицы, и он радостно прыгает. Мне все это казалось смешным и нелепым.
Как-то я заметил, что вот уже несколько дней брат где-то прячется; в последний раз я видел его в саду, где он подбирал сухие стебли бамбука. Мне словно подсказало что-то, и я побежал в маленькую, заваленную старыми вещами комнатку, в которой почти никто не бывал, толкнул дверь и, конечно, среди пыльной рухляди увидел брата. Он сидел на табурете перед большой скамьей и, когда я вошел, испуганно вскочил, побледнел и весь как-то сжался. К скамье был прислонен бамбуковый остов бабочки. Бумага еще не была наклеена, на скамье лежали два ветряных колеса, которые должны были изображать глаза. Он украшал их полосками красной бумаги, и они были почти готовы. Упоенный раскрытием тайны и возмущенный тем, что он, скрываясь от меня, украдкой отдавался этой забаве дурных детей, я протянул руку, схватил крыло бабочки, сломал его, сбросил на пол и растоптал ветряные колеса. Я был старше и сильнее его, и он не мог помешать мне. Я, конечно, одержал полную победу и гордо удалился, оставив его стоящим в отчаянии посреди комнаты. Меня вовсе не интересовало, что станет он делать дальше.
Но час возмездия наступил. Это произошло через много лет после того, как мы расстались. Я был уже немолодым человеком. На мое несчастье, мне в руки попала иностранная книга о детях, и я узнал из нее, что в играх и заключается детство, что игрушки — это ангелы-хранители детства. И тогда перед моими глазами вдруг встала эта забытая за двадцать прошедших лет картина совершенного мною в детские годы насилия над человеческой душой, и мне показалось, что сердце мое превратилось в кусочек свинца и, тяжелое-тяжелое, стало падать вниз.
Оно не оборвалось, оно только становилось все тяжелее и тяжелее и все продолжало падать и падать.
Я знал, как загладить свою вину: подарить брату змея, позволить ему пускать его, просить его об этом, пускать его вместе с ним. Мы бы кричали, бегали, смеялись… Но он был такой же взрослый, как я, и у него давно уже выросли усы.
Я знал еще один способ, как загладить свою вину: попросить у него прощения, дождаться, пока он скажет: «Я ни капельки не сержусь на тебя», — после чего на сердце у меня станет спокойно, — и способ этот осуществим.
Когда мы, наконец, встретились, липа наши были уже изборождены морщинами, оставленными на них горечью жизни, а на сердце моем лежала тяжесть. Мы заговорили о далеких годах нашего детства, и я напомнил ему об этом случае, о том, как я был тогда глуп. И я ждал: «Но я ни капельки не сержусь на тебя», — скажет он, я получу прощение, и с сердца моего спадет тяжесть.
— Да разве было такое? — удивленно смеясь, спросил он так, как спрашивают, когда слушают интересную, но чужую историю. Он решительно ничего не помнил.
Он забыл все, и он не сердился, так за что же просить прощения? Простить, не зная, за что, — значило бы солгать, и только!
На что мог я надеяться? На сердце моем по-прежнему тяжесть.
И теперь снова весна моей родины в воздухе этой северной стороны принесла мне воспоминания безвозвратно ушедшего детства и наполнила меня безудержной печалью. Мне бы от нее укрыться там, где стоит морозная зима с ее жестокими холодами, но и так суровая зима вокруг меня, и от нее веет холодным дыханием стужи.
Январь 1925 г.
8
Чехов А. П. В аптеке // Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения: В 18 т. / АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. — М.: Наука, 1974—1982.
Т. 4. [Рассказы, юморески], 1885—1886. — М.: Наука, 1976. — С. 54—57.
В АПТЕКЕ
Был поздний вечер. Домашний учитель Егор Алексеич Свойкин, чтобы не терять попусту времени, от доктора отправился прямо в аптеку.
«Словно к богатой содержанке идешь или к железнодорожнику, — думал он, забираясь по аптечной лестнице, лоснящейся и устланной дорогими коврами. — Ступить страшно!»
Войдя в аптеку, Свойкин был охвачен запахом, присущим всем аптекам в свете. Наука и лекарства с годами меняются, но аптечный запах вечен, как материя. Его нюхали наши деды, будут нюхать и внуки. Публики, благодаря позднему часу, в аптеке не было. За желтой, лоснящейся конторкой, уставленной вазочками с сигнатурами, стоял высокий господин с солидно закинутой назад головой, строгим лицом и с выхоленными бакенами — по всем видимостям, провизор. Начиная с маленькой плеши на голове и кончая длинными розовыми ногтями, всё на этом человеке было старательно выутюжено, вычищено и словно вылизано, хоть под венец ступай. Нахмуренные глаза его глядели свысока вниз, на газету, лежавшую на конторке. Он читал. В стороне за проволочной решеткой сидел кассир и лениво считал мелочь. По ту сторону прилавка, отделяющего латинскую кухню от толпы, в полумраке копошились две темные фигуры. Свойкин подошел к конторке и подал выутюженному господину рецепт. Тот, не глядя на него, взял рецепт, дочитал в газете до точки и, сделавши легкий полуоборот головы направо, пробормотал:
— Calomedi grana duo, sacchari albi grana quinque, numero decem!1
— Ja!2 — послышался из глубины аптеки резкий, металлический голос.
Провизор продиктовал тем же глухим, мерным голосом микстуру.
— Ja! — послышалось из другого угла.
Провизор написал что-то на рецепте, нахмурился и, закинув назад голову, опустил глаза на газету.
— Через час будет готово, — процедил он сквозь зубы, ища глазами точку, на которой остановился.
— Нельзя ли поскорее? — пробормотал Свойкин. — Мне решительно невозможно ждать.
Провизор не ответил. Свойкин опустился на диван и принялся ждать. Кассир кончил считать мелочь, глубоко вздохнул и щелкнул ключом. В глубине одна из темных фигур завозилась около мраморной ступки. Другая фигура что-то болтала в синей склянке. Где-то мерно и осторожно стучали часы.
Свойкин был болен. Во рту у него горело, в ногах и руках стояли тянущие боли, в отяжелевшей голове бродили туманные образы, похожие на облака и закутанные человеческие фигуры. Провизора, полки с банками, газовые рожки, этажерки он видел сквозь флер, а однообразный стук о мраморную ступку и медленное тиканье часов, казалось ему, происходили не вне, а в самой его голове… Разбитость и головной туман овладевали его телом всё больше и больше, так что, подождав немного и чувствуя, что его тошнит от стука мраморной ступки, он, чтоб подбодрить себя, решил заговорить с провизором…
— Должно быть, у меня горячка начинается, — сказал он. — Доктор сказал, что еще трудно решить, какая у меня болезнь, но уж больно я ослаб… Еще счастье мое, что я в столице заболел, а не дай бог этакую напасть в деревне, где нет докторов и аптек!
Провизор стоял неподвижно и, закинув назад голову, читал. На обращение к нему Свойкину он не ответил ни словом, ни движением, словно не слышал… Кассир громко зевнул и чиркнул о панталоны спичкой… Стук мраморной ступки становился всё громче и звонче. Видя, что его не слушают, Свойкин поднял глаза на полки с банками и принялся читать надписи… Перед ним замелькали сначала всевозможные «радиксы»: генциана, пимпинелла, торментилла, зедоариа и проч. За радиксами замелькали тинктуры, oleum’ы, semen’ы, с названиями одно другого мудренее и допотопнее.
«Сколько, должно быть, здесь ненужного балласта! — подумал Свойкин. — Сколько рутины в этих банках, стоящих тут только по традиции, и в то же время как всё это солидно и внушительно!»
С полок Свойкин перевел глаза на стоявшую около него стеклянную этажерку. Тут увидел он резиновые кружочки, шарики, спринцовки, баночки с зубной пастой, капли Пьерро, капли Адельгейма, косметические мыла, мазь для ращения волос…
В аптеку вошел мальчик в грязном фартуке и попросил на 10 коп. бычачьей желчи.
— Скажите, пожалуйста, для чего употребляется бычачья желчь? — обратился учитель к провизору, обрадовавшись теме для разговора.
Не получив ответа на свой вопрос, Свойкин принялся рассматривать строгую, надменно-ученую физиономию провизора.
«Странные люди, ей-богу! — подумал он. — Чего ради они напускают на свои лица ученый колер? Дерут с ближнего втридорога, продают мази для ращения волос, а глядя на их лица, можно подумать, что они и в самом деле жрецы науки. Пишут по-латыни, говорят по-немецки… Средневековое из себя что-то корчат… В здоровом состоянии не замечаешь этих сухих, черствых физиономий, а вот как заболеешь, как я теперь, то и ужаснешься, что святое дело попало в руки этой бесчувственной утюжной фигуры…»
Рассматривая неподвижную физиономию провизора, Свойкин вдруг почувствовал желание лечь, во что бы то ни стало, подальше от света, ученой физиономии и стука мраморной ступки… Болезненное утомление овладело всем его существом… Он подошел к прилавку и, состроив умоляющую гримасу, попросил:
— Будьте так любезны, отпустите меня! Я… я болен…
— Сейчас… Пожалуйста, не облокачивайтесь!
Учитель сел на диван и, гоняя из головы туманные образы, стал смотреть, как курит кассир.
«Полчаса еще только прошло, — подумал он. — Еще осталось столько же… Невыносимо!»
Но вот, наконец, к провизору подошел маленький, черненький фармацевт и положил около него коробку с порошками и склянку с розовой жидкостью… Провизор дочитал до точки, медленно отошел от конторки и, взяв склянку в руки, поболтал ее перед глазами… Засим он написал сигнатуру, привязал ее к горлышку склянки и потянулся за печаткой…
«Ну, к чему эти церемонии? — подумал Свойкин. — Трата времени, да и деньги лишние за это возьмут».
Завернув, связав и запечатав микстуру, провизор стал проделывать то же самое и с порошками.
— Получите! — проговорил он наконец, не глядя на Свойкина. — Взнесите в кассу рубль шесть копеек!
Свойкин полез в карман за деньгами, достал рубль и тут же вспомнил, что у него, кроме этого рубля, нет больше ни копейки…
— Рубль шесть копеек? — забормотал он, конфузясь. — А у меня только всего один рубль… Думал, что рубля хватит… Как же быть-то?
— Не знаю! — отчеканил провизор, принимаясь за газету.
— В таком случае уж вы извините… Шесть копеек я вам завтра занесу или пришлю…
— Этого нельзя… У нас кредита нет…
— Как же мне быть-то?
— Сходите домой, принесите шесть копеек, тогда и лекарства получите.
— Пожалуй, но… мне тяжело ходить, а прислать некого…
— Не знаю… Не мое дело…
— Гм… — задумался учитель. — Хорошо, я схожу домой…
Свойкин вышел из аптеки и отправился к себе домой… Пока он добрался до своего номера, то садился отдыхать раз пять… Придя к себе и найдя в столе несколько медных монет, он присел на кровать отдохнуть… Какая-то сила потянула его голову к подушке… Он прилег, как бы на минутку…. Туманные образы в виде облаков и закутанных фигур стали заволакивать сознание… Долго он помнил, что ему нужно идти в аптеку, долго заставлял себя встать, но болезнь взяла свое. Медяки высыпались из кулака, и больному стало сниться, что он уже пошел в аптеку и вновь беседует там с провизором.
Сноски
1 Каломели два грана, сахару пять гран, десять порошков! (лат.).
2 Да! (нем.).
Примечания
В АПТЕКЕ
Впервые — «Петербургская газета», 1885, № 182, 6 июля, стр. 3, отдел «Летучие заметки», с подзаголовком: (Сценка). Подпись: А. Чехонте.
Включено в первое издание сборника «Пестрые рассказы».
Сохранилась писарская копия с авторской пометой: «NB. В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ).
Печатается по тексту сборника «Пестрые рассказы», СПб., 1886, стр. 147—151.
Отдавая рассказ в сборник, Чехов снял подзаголовок и внес единственную поправку: снял слова «знаете ли», оказавшиеся рядом с «Нельзя ли».
9
Антон Чехов
ПАРИ
I
Была темная, осенняя ночь. Старый банкир ходил у себя в кабинете из угла в угол и вспоминал, как пятнадцать лет тому назад, осенью, он давал вечер. На этом вечере было много умных людей и велись интересные разговоры. Между прочим говорили о смертной казни. Гости, среди которых было немало ученых и журналистов, в большинстве относились к смертной казни отрицательно. Они находили этот способ наказания устаревшим, непригодным для христианских государств и безнравственным. По мнению некоторых из них, смертную казнь повсеместно следовало бы заменить пожизненным заключением.— Я с вами не согласен, — сказал хозяин-банкир. — Я не пробовал ни смертной казни, ни пожизненного заключения, но если можно судить a priori, то, по-моему, смертная казнь нравственнее и гуманнее заключения. Казнь убивает сразу, а пожизненное заключение медленно. Какой же палач человечнее? Тот ли, который убивает вас в несколько минут, или тот, который вытягивает из вас жизнь в продолжение многих лет?— То и другое одинаково безнравственно, — заметил кто-то из гостей, — потому что имеет одну и ту же цель — отнятие жизни. Государство — не бог. Оно не имеет права отнимать то, чего не может вернуть, если захочет.Среди гостей находился один юрист, молодой человек лет двадцати пяти. Когда спросили его мнения, он сказал:— И смертная казнь и пожизненное заключение одинаково безнравственны, но если бы мне предложили выбирать между казнью и пожизненным заключением, то, конечно, я выбрал бы второе. Жить как-нибудь лучше, чем никак.Поднялся оживленный спор. Банкир, бывший тогда помоложе и нервнее, вдруг вышел из себя, ударил кулаком по столу и крикнул, обращаясь к молодому юристу:— Неправда! Держу пари на два миллиона, что вы не высидите в каземате и пяти лет.— Если это серьезно, — ответил ему юрист, — то держу пари, что высижу не пять, а пятнадцать.— Пятнадцать? Идет! — крикнул банкир. — Господа, я ставлю два миллиона!— Согласен! Вы ставите миллионы, а я свою свободу! — сказал юрист.И это дикое, бессмысленное пари состоялось! Банкир, не знавший тогда счета своим миллионам, избалованный и легкомысленный, был в восторге от пари. За ужином он шутил над юристом и говорил:— Образумьтесь, молодой человек, пока еще не поздно. Для меня два миллиона составляют пустяки, а вы рискуете потерять три-четыре лучших года вашей жизни. Говорю — три-четыре, потому что вы не высидите дольше. Не забывайте также, несчастный, что добровольное заточение гораздо тяжелее обязательного. Мысль, что каждую минуту вы имеете право выйти на свободу, отравит вам в каземате всё ваше существование. Мне жаль вас!И теперь банкир, шагая из угла в угол, вспоминал всё это и спрашивал себя:— К чему это пари? Какая польза от того, что юрист потерял пятнадцать лет жизни, а я брошу два миллиона? Может ли это доказать людям, что смертная казнь хуже или лучше пожизненного заключения? Нет и нет. Вздор и бессмыслица. С моей стороны то была прихоть сытого человека, а со стороны юриста — простая алчность к деньгам…Далее вспоминал он о том, что произошло после описанного вечера. Решено было, что юрист будет отбывать свое заключение под строжайшим надзором в одном из флигелей, построенных в саду банкира. Условились, что в продолжение пятнадцати лет он будет лишен права переступать порог флигеля, видеть живых людей, слышать человеческие голоса и получать письма и газеты. Ему разрешалось иметь музыкальный инструмент, читать книги, писать письма, пить вино и курить табак. С внешним миром, по условию, он мог сноситься не иначе, как молча, через маленькое окно, нарочно устроенное для этого. Всё, что нужно, книги, ноты, вино и прочее, он мог получать по записке в каком угодно количестве, но только через окно. Договор предусматривал все подробности и мелочи, делавшие заключение строго одиночным, и обязывал юриста высидеть ровно пятнадцать лет, с 12-ти часов 14 ноября 1870 г. и кончая 12-ю часами 14 ноября 1885 г. Малейшая попытка со стороны юриста нарушить условия, хотя бы за две минуты до срока, освобождала банкира от обязанности платить ему два миллиона.В первый год заключения юрист, насколько можно было судить по его коротким запискам, сильно страдал от одиночества и скуки. Из его флигеля постоянно днем и ночью слышались звуки рояля. Он отказался от вина и табаку. Вино, писал он, возбуждает желания, а желания — первые враги узника; к тому же нет ничего скучнее, как пить хорошее вино и никого не видеть. А табак портит в его комнате воздух. В первый год юристу посылались книги преимущественно легкого содержания: романы с сложной любовной интригой, уголовные и фантастические рассказы, комедии и т. п.Во второй год музыка уже смолкла во флигеле и юрист требовал в своих записках только классиков. В пятый год снова послышалась музыка и узник попросил вина. Те, которые наблюдали за ним в окошко, говорили, что весь этот год он только ел, пил и лежал на постели, часто зевал, сердито разговаривал сам с собою. Книг он не читал. Иногда по ночам он садился писать, писал долго и под утро разрывал на клочки всё написанное. Слышали не раз, как он плакал.Во второй половине шестого года узник усердно занялся изучением языков, философией и историей. Он жадно принялся за эти науки, так что банкир едва успевал выписывать для него книги. В продолжение четырех лет по его требованию было выписано около шестисот томов. В период этого увлечения банкир между прочим получил от своего узника такое письмо: «Дорогой мой тюремщик! Пишу вам эти строки на шести языках. Покажите их сведущим людям. Пусть прочтут. Если они не найдут ни одной ошибки, то умоляю вас, прикажите выстрелить в саду из ружья. Выстрел этот скажет мне, что мои усилия не пропали даром. Гении всех веков и стран говорят на различных языках, но горит во всех их одно и то же пламя. О, если бы вы знали, какое неземное счастье испытывает теперь моя душа оттого, что я умею понимать их!» Желание узника было исполнено. Банкир приказал выстрелить в саду два раза.Затем после десятого года юрист неподвижно сидел за столом и читал одно только Евангелие. Банкиру казалось странным, что человек, одолевший в четыре года шестьсот мудреных томов, потратил около года на чтение одной удобопонятной и не толстой книги. На смену Евангелию пошли история религий и богословие.В последние два года заточения узник читал чрезвычайно много, без всякого разбора. То он занимался естественными науками, то требовал Байрона или Шекспира. Бывали от него такие записки, где он просил прислать ему в одно и то же время и химию, и медицинский учебник, и роман, и какой-нибудь философский или богословский трактат. Его чтение было похоже на то, как будто он плавал в море среди обломков корабля и, желая спасти себе жизнь, жадно хватался то за один обломок, то за другой!
II
Старик-банкир вспоминал всё это и думал:«Завтра в 12 часов он получает свободу. По условию, я должен буду уплатить ему два миллиона. Если я уплачу, то всё погибло: я окончательно разорен…»Пятнадцать лет тому назад он не знал счета своим миллионам, теперь же он боялся спросить себя, чего у него больше — денег или долгов? Азартная биржевая игра, рискованные спекуляции и горячность, от которой он не мог отрешиться даже в старости, мало-помалу, привели в упадок его дела, и бесстрашный, самонадеянный, гордый богач превратился в банкира средней руки, трепещущего при всяком повышении и понижении бумаг.— Проклятое пари! — бормотал старик, в отчаянии хватая себя за голову. — Зачем этот человек не умер? Ему еще сорок лет. Он возьмет с меня последнее, женится, будет наслаждаться жизнью, играть на бирже, а я, как нищий, буду глядеть с завистью и каждый день слышать от него одну и ту же фразу: «Я обязан вам счастьем моей жизни, позвольте мне помочь вам!» Нет, это слишком! Единственное спасение от банкротства и позора — смерть этого человека!Пробило три часа. Банкир прислушался: в доме все спали и только слышно было, как за окнами шумели озябшие деревья. Стараясь не издавать ни звука, он достал из несгораемого шкапа ключ от двери, которая не отворялась в продолжение пятнадцати лет, надел пальто и вышел из дому.В саду было темно и холодно. Шел дождь. Резкий сырой ветер с воем носился по всему саду и не давал покоя деревьям. Банкир напрягал зрение, но не видел ни земли, ни белых статуй, ни флигеля, ни деревьев. Подойдя к тому месту, где находился флигель, он два раза окликнул сторожа. Ответа не последовало. Очевидно, сторож укрылся от непогоды и теперь спал где-нибудь на кухне или в оранжерее.«Если у меня хватит духа исполнить свое намерение, — подумал старик, — то подозрение прежде всего падет на сторожа».Он нащупал в потемках ступени и дверь и вошел в переднюю флигеля, затем ощупью пробрался в небольшой коридор и зажег спичку. Тут не было ни души. Стояла чья-то кровать без постели да темнела в углу чугунная печка. Печати на двери, ведущей в комнату узника, были целы.Когда потухла спичка, старик, дрожа от волнения, заглянул в маленькое окно.В комнате узника тускло горела свеча. Сам он сидел у стола. Видны были только его спина, волосы на голове да руки. На столе, на двух креслах и на ковре, возле стола, лежали раскрытые книги.Прошло пять минут, и узник ни разу не шевельнулся. Пятнадцатилетнее заточение научило его сидеть неподвижно. Банкир постучал пальцем в окно, и узник не ответил на этот стук ни одним движением. Тогда банкир осторожно сорвал с двери печати и вложил ключ в замочную скважину. Заржавленный замок издал хриплый звук, и дверь скрипнула. Банкир ожидал, что тотчас же послышится крик удивления и шаги, но прошло минуты три, и за дверью было тихо по-прежнему. Он решился войти в комнату.За столом неподвижно сидел человек, не похожий на обыкновенных людей. Это был скелет, обтянутый кожею, с длинными женскими кудрями и с косматой бородой. Цвет лица у него был желтый, с землистым оттенком, щеки впалые, спина длинная и узкая, а рука, которою он поддерживал свою волосатую голову, была так тонка и худа, что на нее было жутко смотреть. В волосах его уже серебрилась седина, и, глядя на старчески изможденное лицо, никто не поверил бы, что ему только сорок лет. Он спал… Перед его склоненною головой на столе лежал лист бумаги, на котором было что-то написано мелким почерком.«Жалкий человек! — подумал банкир. — Спит и, вероятно, видит во сне миллионы! А стоит мне только взять этого полумертвеца, бросить его на постель, слегка придушить подушкой, и самая добросовестная экспертиза не найдет знаков насильственной смерти. Однако прочтем сначала, что он тут написал».Банкир взял со стола лист и прочел следующее:«Завтра в 12 часов дня я получаю свободу и право общения с людьми. Но прежде, чем оставить эту комнату и увидеть солнце, я считаю нужным сказать вам несколько слов. По чистой совести и перед богом, который видит меня, заявляю вам, что я презираю и свободу, и жизнь, и здоровье, и всё то, что в ваших книгах называется благами мира.Пятнадцать лет я внимательно изучал земную жизнь. Правда, я не видел земли и людей, но в ваших книгах я пил ароматное вино, пел песни, гонялся в лесах за оленями и дикими кабанами, любил женщин… Красавицы, воздушные, как облако, созданные волшебством ваших гениальных поэтов, посещали меня ночью и шептали мне чудные сказки, от которых пьянела моя голова. В ваших книгах я взбирался на вершины Эльбруса и Монблана и видел оттуда, как по утрам восходило солнце и как по вечерам заливало оно небо, океан и горные вершины багряным золотом; я видел оттуда, как надо мной, рассекая тучи, сверкали молнии; я видел зеленые леса, поля, реки, озера, города, слышал пение сирен и игру пастушеских свирелей, осязал крылья прекрасных дьяволов, прилетавших ко мне беседовать о боге… В ваших книгах я бросался в бездонные пропасти, творил чудеса, убивал, сжигал города, проповедовал новые религии, завоевывал целые царства…Ваши книги дали мне мудрость. Всё то, что веками создавала неутомимая человеческая мысль, сдавлено в моем черепе в небольшой ком. Я знаю, что я умнее всех вас.И я презираю ваши книги, презираю все блага мира и мудрость. Всё ничтожно, бренно, призрачно и обманчиво, как мираж. Пусть вы горды, мудры и прекрасны, но смерть сотрет вас с лица земли наравне с подпольными мышами, а потомство ваше, история, бессмертие ваших гениев замерзнут или сгорят вместе с земным шаром.Вы обезумели и идете не по той дороге. Ложь принимаете вы за правду и безобразие за красоту. Вы удивились бы, если бы вследствие каких-нибудь обстоятельств на яблонях и апельсинных деревьях вместо плодов вдруг выросли лягушки и ящерицы или розы стали издавать запах вспотевшей лошади; так я удивляюсь вам, променявшим небо на землю. Я не хочу понимать вас.Чтоб показать вам на деле презрение к тому, чем живете вы, я отказываюсь от двух миллионов, о которых я когда-то мечтал, как о рае, и которые теперь презираю. Чтобы лишить себя права на них, я выйду отсюда за пять часов до условленного срока и таким образом нарушу договор…»Прочитав это, банкир положил лист на стол, поцеловал странного человека в голову, заплакал и вышел из флигеля. Никогда в другое время, даже после сильных проигрышей на бирже, он не чувствовал такого презрения к самому себе, как теперь. Придя домой, он лег в постель, но волнение и слезы долго не давали ему уснуть…На другой день утром прибежали бледные сторожа и сообщили ему, что они видели, как человек, живущий во флигеле, пролез через окно в сад, пошел к воротам, затем куда-то скрылся. Вместе со слугами банкир тотчас же отправился во флигель и удостоверил бегство своего узника. Чтобы не возбуждать лишних толков, он взял со стола лист с отречением и, вернувшись к себе, запер его в несгораемый шкап.
10
Тендряков Владимир
* * * *
Хлеб для собаки
Лето 1933 года.
У прокопченного, крашенного казенной охрой вокзального здания, за вылущенным заборчиком — сквозной березовый скверик. В нем прямо на утоптанных дорожках, на корнях, на уцелевшей пыльной травке валялись те, кого уже не считали людьми.
Правда, у каждого в недрах грязного, вшивого тряпья должен храниться если не утерян — замусоленный документ, удостоверяющий, что предъявитель сего носит такую-то фамилию, имя, отчество, родился там-то, на основании такого-то решения сослан с лишением гражданских прав и конфискацией имущества. Но уже никого не заботило, что он, имярек, лишенец, адмовысланный, не доехал до места, никого не интересовало, что он, имярек, лишенец, нигде не живет, не работает, ничего не ест. Он выпал из числа людей.
Большей частью это раскулаченные мужики из-под Тулы, Воронежа, Курска, Орла, со всей Украины. Вместе с ними в наши северные места прибыло и южное словечко «куркуль».
Куркули даже внешне не походили на людей.
Одни из них — скелеты, обтянутые темной, морщинистой, казалось, шуршащей кожей, скелеты с огромными, кротко горящими глазами.
Другие, наоборот, туго раздуты — вот-вот лопнет посиневшая от натяжения кожа, телеса колышутся, ноги похожи на подушки, пристроченные грязные пальцы прячутся за наплывами белой мякоти.
И вели они себя сейчас тоже не как люди.
Кто-то задумчиво грыз кору на березовом стволе и взирал в пространство тлеющими, нечеловечьи широкими глазами.
Кто-то, лежа в пыли, источая от своего полуистлевшего тряпья кислый смрад, брезгливо вытирал пальцы с такой энергией и упрямством, что, казалось, готов был счистить с них и кожу.
Кто-то расплылся на земле студнем, не шевелился, а только клекотал и булькал нутром, словно кипящий титан.
А кто-то уныло запихивал в рот пристанционный мусорок с земли…
Больше всего походили на людей те, кто уже успел помереть. Эти покойно лежали — спали.
Но перед смертью кто-нибудь из кротких, кто тишайше грыз кору, вкушал мусор, вдруг бунтовал — вставал во весь рост, обхватывал лучинными, ломкими руками гладкий, сильный ствол березы, прижимался к нему угловатой щекой, открывал рот, просторно черный, ослепительно зубастый, собирался, наверное, крикнуть испепеляющее проклятие, но вылетал хрип, пузырилась пена. Обдирая кожу на костистой щеке, «бунтарь» сползал вниз по стволу и… затихал насовсем.
Такие и после смерти не походили на людей — по-обезьяньи сжимали деревья.
Взрослые обходили скверик. Только по перрону вдоль низенькой оградки бродил по долгу службы начальник станции в новенькой форменной фуражке с кричаще красным верхом. У него было оплывшее, свинцовое лицо, он глядел себе под ноги и молчал.
Время от времени появлялся милиционер Ваня Душной, степенный парень с застывшей миной — «смотри ты у меня!».
— Никто не выполз? — спрашивал он у начальника станции.
А тот не отвечал, проходил мимо, не подымал головы.
Ваня Душной следил, чтоб куркули не расползались из скверика — ни на перрон, ни на пути.
Мы, мальчишки, в сам скверик тоже не заходили, а наблюдали из-за заборчика. Никакие ужасы не могли задушить нашего зверушечьего любопытства. Окаменев от страха, брезгливости, изнемогая от упрятанной панической жалости, мы наблюдали за короедами, за вспышками «бунтарей», кончающимися хрипом, пеной, сползанием по стволу вниз.
Начальник станции — «красная шапочка» — однажды повернулся в нашу сторону воспаленно-темным лицом, долго глядел, наконец изрек то ли нам, то ли самому себе, то ли вообще равнодушному небу:
— Что же вырастет из таких детей? Любуются смертью. Что за мир станет жить после нас? Что за мир?..
Долго выдержать сквера мы не могли, отрывались от него, глубоко дыша, словно проветривая все закоулки своей отравленной души, бежали в поселок.
Туда, где шла нормальная жизнь, где часто можно было услышать песню:
Не спи, вставай, кудрявая!
В цехах звеня,
страна встает со славою
на встречу дня…
Уже взрослым я долгое время удивлялся и гадал: почему я, в общем-то впечатлительный, уязвимый мальчишка, не заболел, не сошел с ума сразу же после того, как впервые увидел куркуля, с пеной и хрипом умирающего у меня на глазах.
Наверное, потому, что ужасы сквера появились не сразу и у меня была возможность как-то попривыкнуть, обмозолиться.
Первое потрясение, куда более сильное, чем от куркульской смерти, я испытал от тихого уличного случая.
Женщина в опрятном и поношенном пальто с бархатным воротничком и столь же опрятным и поношенным лицом на моих глазах поскользнулась и разбила стеклянную банку с молоком, которое купила у перрона на станции. Молоко вылилось в обледеневший нечистый след лошадиного копыта. Женщина опустилась перед ним, как перед могилой дочери, придушенно всхлипнула и вдруг вынула из кармана простую обгрызенную деревянную ложку. Она плакала и черпала ложкой молоко из копытной ямки па дороге, плакала и ела, плакала и ела, аккуратно, без жадности, воспитанно.
А я стоял в стороне и — нет, не ревел вместе с ней — боялся, надо мной засмеются прохожие.
Мать давала мне в школу завтрак: два ломтя черного хлеба, густо намазанных клюквенным повидлом. И вот настал день, когда на шумной перемене я вынул свой хлеб и всей кожей ощутил установившуюся вокруг меня тишину. Я растерялся, не посмел тогда предложить ребятам. Однако на следующий день я взял уже не два ломтя, а четыре…
На большой перемене я достал их и, боясь неприятной тишины, которую так трудно нарушить, слишком поспешно и неловко выкрикнул:
— Кто хочет?!
— Мне шматочек, — отозвался Пашка Быков, парень с нашей улицы.
— И мне!.. И мне!.. Мне тоже!..
Со всех сторон тянулись руки, блестели глаза.
— Всем не хватит! — Пашка старался оттолкнуть напиравших, но никто не отступал.
— Мне! Мне! Корочку!..
Я отламывал всем по кусочку.
Наверное, от нетерпения, без злого умысла, кто-то подтолкнул мою руку, хлеб упал, задние, желая увидеть, что же случилось с хлебом, наперли на передних, и несколько ног прошлось по кускам, раздавило их.
— Пахорукий! — выругал меня Пашка.
И отошел. За ним все поползли в разные стороны.
На окрашенном повидлом полу лежал растерзанный хлеб. Было такое ощущение, что мы все вгорячах нечаянно убили какое-то животное.
Учительница Ольга Станиславна вошла в класс. По тому, как она отвела глаза, как спросила не сразу, а с еле приметной запинкой, я понял — она голодна тоже.
— Это кто ж такой сытый?
И все те, кого я хотел угостить хлебом, охотно, торжественно, пожалуй, со злорадством объявили:
— Володька Тенков сытый! Он это!..
Я жил в пролетарской стране и хорошо знал, как стыдно быть у нас сытым. Но, к сожалению, я действительно был сыт, мой отец, ответственный служащий, получал ответственный паек. Мать даже пекла белые пироги с капустой и рубленым яйцом!
Ольга Станиславна начала урок.
— В прошлый раз мы проходили правописание… — И замолчала. — В прошлый раз мы… — Она старалась не глядеть на раздавленный хлеб. — Володя Тенков, встань, подбери за собой!
Я покорно встал, не пререкаясь, подобрал хлеб, стер вырванным из тетради листком клюквенное повидло с пола. Весь класс молчал, весь класс дышал над моей головой.
После этого я наотрез отказался брать в школу завтраки.
Вскоре я увидел истощенных людей с громадными кротко-печальными глазами восточных красавиц…
И больных водянкой с раздутыми, гладкими, безликими физиономиями, с голубыми слоновьими ногами…
Истощенных — кожа и кости — у нас стали звать шкилетниками, больных водянкой — слонами.
И вот березовый сквер возле вокзала…
Я кой к чему успел привыкнуть, не сходил с ума.
Не сходил с ума я еще и потому, что знал: те, кто в нашем привокзальном березнячке умирал среди бела дня, — враги. Это про них недавно великий писатель Горький сказал: «Если враг не сдается, его уничтожают». Они не сдавались. Что ж… попали в березняк.
Вместе с другими ребятами я был свидетелем нечаянного разговора Дыбакова с одним шкилетником.
Дыбаков — первый секретарь партии в нашем районе, высокий, в полувоенном кителе с рублено прямыми плечами, в пенсне на тонком горбатом носу. Ходил он, заложив руки за спину, выгнувшись, выставив грудь, украшенную накладными карманами.
В клубе железнодорожников проходила какая-то районная конференция. Все руководство района во главе с Дыбаковым направлялось в клуб по усыпанной толченым кирпичом дорожке. Мы, ребятишки, за неимением других зрелищ тоже сопровождали Дыбакова.
Неожиданно он остановился. Поперек дорожки, под его хромовыми сапогами, лежал оборванец — костяк в изношенной, слишком просторной коже. Он лежал на толченом кирпиче, положив коричневый череп па грязные костяшки рук, глядел снизу вверх, как глядят все умирающие с голоду — с кроткой скорбью в неестественно громадных глазах.
Дыбаков переступил с каблука на каблук, хрустнул насыпной дорожкой, хотел было уже обогнуть случайные мощи, как вдруг эти мощи разжали кожистые губы, сверкнули крупными зубами, сипяще и внятно произнесли:
— Поговорим, начальник.
Обвалилась тишина, стало слышно, как далеко за пустырем возле бараков кто-то от безделья тенорит под балалайку:
Хорошо тому живется,
У кого одна нога,
Сапогов не много надо
И портошина одна.
— Аль боишься меня, начальник?
Из-за спины Дыбакова вынырнул, райкомовский работник товарищ Губанов, как всегда с незастегивающимся портфелем под мышкой:
— Мал-чать! Мал-чать!..
Лежащий кротко глядел на него снизу вверх и жутко скалил зубы. Дыбаков движением руки отмахнул в сторону товарища Губанова.
— Поговорим. Спрашивай — отвечу.
— Перед смертью скажи… за что… за что меня?.. Неужель всерьез за то, что две лошади имел? — шелестящий голос.
— За это, — спокойно и холодно ответил Дыбаков.
— И признаешься! Ну-у, заверюга…
— Мал-чать! — подскочил опять товарищ Губанов.
И снова Дыбаков небрежно отмахнул его в сторону.
— Дал бы ты рабочему хлеб за чугун?
— Что мне ваш чугун, с кашей есть?
— То-то и оно, а вот колхозу он нужен, колхоз готов за чугун рабочих кормить. Хотел ты идти в колхоз? Только честно!
— Не хотел.
— Почему?
— Всяк за свою свободушку стоит.
— Да не свободушка причина, а лошади. Лошадей тебе своих жаль. Кормил, холил — и вдруг отдай. Собственности своей жаль! Разве не так?
Доходяга помолчал, помигал скорбно и, казалось, даже готов был согласиться.
— Отыми лошадей, начальник, и остановись. Зачем же еще и живота лишать? — сказал он.
— А ты простишь нам, если мы отымем? Ты за спиной нож на нас точить не станешь? Честно!
— Кто знает.
— Вот и мы не знаем. Как бы ты с нами поступил, если б чувствовал — мы на тебя нож острый готовим?.. Молчишь?.. Сказать нечего?.. Тогда до свидания.
Дыбаков перешагнул через тощие, как палки, ноги собеседника, двинулся дальше, заложив руки за спину, выставив грудь с накладными карманами. За ним, брезгливо обогнув доходягу, двинулись и остальные.
Он лежал перед нами, мальчишками, — плоский костяк и тряпье, череп на кирпичной крошке, череп, хранящий человеческое выражение покорности, усталости и, пожалуй, задумчивости. Он лежал, а мы осуждающе его разглядывали. Две лошади имел, кровопиец! Ради этих лошадей стал бы точить нож на нас. «Если враг не сдается…» Здорово же его отделал Дыбаков.
И все-таки было жаль злого врага. Наверное, не только мне. Никто из ребятишек не заплясал над ним, не стал дразнить:
Враг-вражина,
Куркуль-кулачина
Кору жрет.
Вошей бьет,
С куркулихой гуляет
Ветром шатает.
Я садился дома за стол, тянулся рукой к хлебу, и память разворачивала картины: направленные вдаль, тихо ошалелые глаза, белые зубы, грызущие кору, клокочущая внутри студенистая туша, разверстый черный рот, хрип, пена… И под горло подкатывала тошнота.
Раньше мать про меня говорила: «На этого не пожалуюсь, что ни поставь — уминает, за ушами трещит». Сейчас она подымала крик:
— Заелись! С жиру беситесь!..
«С жиру бесился» я один, но если мать начинала ругаться, то всегда ругала сразу двоих — меня и брата. Брат был моложе на три года, в свои семь лет умел переживать только за самого себя, а потому ел — «за ушами трещит».
— Беситесь! Супу не хотим, картошки не хотим! Кругом люди черствому сухарю рады-радехоньки. Вам хоть рябчиков подавай.
О рябчиках я только читал стишки: «Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй!» Объявить голодовку, вообще отказаться от еды я не мог. Во-первых, не разрешила бы мать. Во-вторых, тошнота тошнотой, картинки картинками, а есть-то мне все-таки хотелось, и вовсе не буржуйских рябчиков. Меня заставляли проглотить первую ложку, а уж дальше шло само собой, я расправлялся с обедом, вставал из-за стола отяжелевший.
Вот тут-то все и начиналось…
Мне думается, совести свойственно чаще просыпаться в теле сытых людей, чем голодных. Голодный вынужден больше думать о себе, о добывании для себя хлеба насущного, само бремя голода понуждает его к эгоизму. У сытого больше возможности оглянуться вокруг, подумать о других. Большей частью из числа сытых выходили идейные борцы с кастовой сытостью — Гракхи всех времен.
Я вставал из-за стола. Не потому ли в привокзальном сквере люди грызут кору, что я съел сейчас слишком много?
Но это же куркули грызут кору! Ты жалеешь?.. «Если враг не сдается, его уничтожают!» А это «уничтожают» вот так, наверное, и должно выглядеть черепа с глазами, слоновьи ноги, пена из черного рта. Ты просто боишься смотреть правде в глаза.
Отец как-то рассказывал, что в других местах есть деревни, где от голода умерли все жители до единого — взрослые, старики, дети. Даже грудные дети… Про них-то уж никак не скажешь: «Если враг не сдается…»
Я сыт, очень сыт — до отвала. Я съел сейчас столько, что, наверное, пятерым хватило бы спастись от голодной смерти. Не спас пятерых, съел их жизнь. Только чью — врагов или не врагов?..
А кто враг?.. Враг ли тот, кто грызет кору? Он им был — да! — но сейчас ему не до вражды, нет мяса на его костях, нет силы даже в его голосе…
Я съел весь свой обед сам и ни с кем но поделился.
Есть мне приходится по три раза в день.
Как-то под утро я внезапно проснулся. Мне ничего не приснилось, просто взял да открыл глаза, увидел комнату в загадочно-пепельном сумраке, за окном серенький, уютный рассвет.
Далеко на пристанционных путях заносчиво прокричала маневровая «овечка». Ранние синицы попискивали на старой липе. Скворец-папаша прочищал горло, пробовал петь по-соловьиному — бездарь! С болот на задах нежно, убеждающе закуковала кукушка. «Кукушка! Кукушка! Сколько мне жить?» И она роняет и роняет свое «ку-ку», как серебряные яички.
И все это происходит в удивительно покойных сереньких сумерках, в тесном, притушенном, уютном мире. В нечаянно вырванную у сна минуту я вдруг тихо радуюсь очевиднейшему факту — существует на белом свете некий Володька Тенков, человек десяти лет от роду. Существует — как это прекрасно! «Кукушка! Кукушка! Сколько мне?..» «Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!..» Щедра без устали.
В это время далеко, где-то в самом конце нашей улицы загремело. Распарывая сонный поселок, приближалась расхлябанная телега, сминая серебряный голос кукушки, писк синиц, потуги бездарного скворца. Кто это и куда так сердито спешит в такую рань?..
И неожиданно меня ожгло: кто? да ясно! Об этих ранних поездках говорит весь поселок. Комхозовскнй конюх Абрам едет «собирать падалицу». Каждое утро он въезжает на своей телеге прямо в привокзальный березняк, начинает шевелить лежащих — жив или нет? Живых не трогает, мертвых складывает в телегу, как дровяные чурки.
Гремит расхлябанная телега, будит спящий поселок. Громит и стихает.
После нее не слышно птиц. Какую-то минуту просто никого и ничего не слышно. Ничего… Но странно — нет и тишины. «Кукушка! Кукушка!..» Ах, не надо! Не все ли равно, сколько лет проживу на свете? Да так ли уж мне хочется долго жить?..
Но словно ливень из-под крыши, обрушились проснувшиеся воробьи. Зазвенели ведра, раздались женские голоса, заскрипел ворот колодца.
— Крыши чинить! Дрова пилить! Помойки чистить! Любая работа! — Сильный, с вызовом баритон.
— Крыши чинить! Дрова пилить! Помойки чистить! — повторил мальчишеский альт.
Это тоже высланные куркули — отец и сын. Отец — высокий, костлявоплечистый, бородатый, сурово-важный, сын — жилисто-худенький, веснушчатый, очень серьезный, постарше меня года на два, на три.
Каждый наш день начинается с того, что они громко, в два голоса, почти высокомерно предлагают поселку чистить помойки.
Я не должен есть свои обеды один.
Я обязан с кем-то делиться.
С кем?..
Наверное, с самым, самым голодным, даже если он враг.
Кто — самый?.. Как узнать?
Не трудно. Следует пойти в березовый скверик и протянуть руку с куском хлеба первому же попавшемуся. Ошибиться нельзя, там все — самые, самые, иных нет.
Одному протянуть руку, а других не заметить?.. Одного осчастливить, а десятки обидеть отказом? И это будет воистину смертельная обида. Те, к кому рука не протянется, будут вывезены конюхом Абрамом.
Могут ли обойденные согласиться с тобой?.. Не опасно ли открыто протягивать руку помощи?..
Конечно же, я тогда думал не так, не такими словами, какими пишу сейчас, тридцать шесть лет спустя. Скорей всего я тогда вовсе не думал, а остро чувствовал, как животное, интуитивно угадывающее будущие осложнения. Не разумом, а чутьем тогда я осознал: благородное намерение — разломи пополам свой хлеб насущный, поделись с ближним — можно свершить только тайком от других, только воровски!
Я украдкой, воровски не доел то, что поставила передо мной на стол мать. Я воровски загрузил в свои карманы честно сэкономленные три куска хлеба, завернутый в газету комок пшенной каши величиной с кулак и чистый, совершенный, как кристалл, кусочек сахара-рафинада. Среди бела дня я вышел на воровское дело — на тайную охоту на самого, самого голодного.
Я встретил Пашку Быкова, с которым учился в одном классе, жил на одной улице, дружить не дружил, а враждовать остерегался. Я знал, что Пашка голоден всегда — днем и ночью, до обеда и после обеда. Семья Быковых — семь человек, все семеро живут на рабочие карточки отца, который работает сцепщиком на железной дороге. Но я не поделился с Пашкой хлебом — не самый…
Я встретил скрюченную бабку Обноскову, которая жила тем, что собирала на обочинах дорог, на полях, на опушках леса травки и корешки, сушила, варила, парила их… Другие такие одинокие старухи все поумирали. Я не поделился с бабкой — еще не самая.
Мимо меня протрусил Борис Исаакович Зильбербрунер в галошках, привязанных веревочками к грязным лодыжкам. Если б я встретил этого Зильбербрунера раньше, то, как знать, возможно, решил — тот самый. Недавно он был одним из шкилетников, торчащих возле столовки, но приноровился делать рыболовные крючки из проволоки, за них платили даже куриными яйцами.
Наконец я налетел на одного из шатающихся по поселку слонов. Широченный, что платяной шкаф, в просторном мужицком малахае цвета пахотной земли, в запорожской, казацкой шапке — грачиное гнездо, с пышными, голубовато-бледными ногами, которые при каждом шаге тряслись, как овсяный кисель, и смогли бы уместиться только каждая в банной лохани.
Может, и он был еще не тот самый… Продолжи я свою охоту, наверное, наскочил бы на более несчастного, но остатки обеда жгли меня сквозь карманы, требовали: делись немедля!
— Дяденька…
Он остановился, тяжело дыша, нацелил на меня со своей башенной высоты глаза-щелки.
Бледное раздутое лицо вблизи поражало неестественным гигантизмом — какие-то плавающие, словно дряблые ягодицы, щеки, низвергающийся на грудь подбородок, веки, совсем утопившие в себе глаза, широченная, натянутая до труппой синевы переносица. На таком лице ничего нельзя прочесть, ни страха, ни надежды, ни растроганности, ни подозрительности, — подушка.
Терзая карман, я неловко стал освобождать первый кусок хлеба.
Разглаженная физиономия дрогнула, туго надутая, с короткими, грязными, несгибающимися пальцами кисть протянулась, взяла кусок нежно, настойчиво, нетерпеливо. Так берет из руки хлеб теленок с теплым носом и мягкими губами.
— Спасибо, хлопчик, — сказал фистулой слон.
Я выложил ему все, что у меня было.
— Завтра… На пустыре… Возле штабелей… Что-нибудь еще… — пообещал я и кинулся прочь с облегченными карманами и облегченной совестью.
Весь день я был счастлив. Внутри, в подреберье, где живет душа, было прохладно и тихо.
На пустыре, возле штабелей… Да этот раз я нес восемь кусков хлеба, два ломтика сала, старую консервную банку, набитую тушеной картошкой. Все это я должен был съесть сам и не съел, сэкономил, когда отворачивалась мать.
Я бежал к пустырю вприпрыжку, придерживая обеими руками оттопыривающуюся на животе рубаху. Чья-то тень упала мне под ноги.
— Молодой человек! Молодой человек! Молю! Уделите минутку!..
Ко мне ли обращаются столь почтительно?..
Ко мне.
Поперек дороги стояла женщина в пыльной шляпке, известная всем по прозвищу Отрыжка. Она была не слонихой и не шкилетницей, просто инвалидкой, изуродованной какой-то странной болезнью. Все ее сухое тело неестественно измято, скрючено, вывернуто — плечики перекошены, спина откинута, маленькая птичья голова в замусоленной суконной шляпке с тусклым перышком где-то далеко позади всего тела. Время от времени эта голова делает отчаянное встряхивание, словно хозяйка собирается лихо воскликнуть: «Эх! И спляшу вам!» Но Отрыжка не плясала, а обычно начинала сильно-сильно подмигивать всей щекой.
Сейчас она подмигивала мне и говорила страстным, слезливым голосом:
— Молодой человек, поглядите на меня! Не стесняйтесь, не стесняйтесь, вниммательней!.. Вы когда-нибудь видели обиженное богом существо?.. — Она подмигивала и наступала на меня, я пятился. — Я больна, я беспомощна, но у меня дома сын… Я — мать, я люблю его всей душой, я готова на все, чтоб его накормить… Мы оба забыли вкус хлеба, молодой человек! Маленький кусочек, прошу вас!..
Веселое до жути подмигивание всей щекой, черная рука с грязной тряпочкой, чтоб промокнуть глаза… Откуда она узнала, что у меня под рубахой хлеб? Не сказал же ей слон, который ждет меня на пустыре. Слону выгодно молчать.
— Готова встать перед вами па колени. У вас такое доброе… у вас ангельское лицо!..
Как она узнала о хлебе? Нюхом? Колдовством?.. Я не понимал тогда, что не я один пытался подкормить ссыльных куркулей, что у всех простодушных спасителей было красноречиво воровское, виноватое выражение лица.
Устоять перед страстью Отрыжки, перед ее развеселым подмигиванием, перед скомканной грязной тряпицей я не мог. Я отдал весь хлеб с ломтиками сала, оставив вместе с банкой тушеной картошки только один кусок.
— Это я обещал…
Но Отрыжка пожирала сорочьими глазами консервную банку, трясла пыльной шляпкой с перышком, стонала:
— Мы гибнем! Мы гибнем! Я и мой сын — мы гибнем!..
Я отдал ей и картошку. Она засунула банку под кофту, жадно блеснула глазом на оставшийся в моей руке последний ломоть хлеба, дернула головой эх, спляшу! — еще раз подмигнула щекой, пошла прочь, накрененная набок, как тонущая лодка.
Я стоял и разглядывал хлеб в руке. Кусок был мал, завожен в кармане, помят, а ведь я сам позвал — приходи на пустырь, я заставил голодного ждать целые сутки, сейчас я ему поднесу такой вот кусочек. Нет, уж лучше не позориться!..
И я с досады — да и с голода тоже, — не сходя с места, съел хлеб. Он неожиданно был очень вкусен и… ядовит. Целый день после него я чувствовал себя отравленным: как я мог — вырвал изо рта у голодного! Как я мог!..
А утром, выглянув в окно, я похолодел. Под окном у нашей калитки торчал знакомый слон. Он стоял, облаченный в свой необъятный кафтан цвета свежевспаханного поля, сложив жабьи мягкие руки на тучном животе, ветерок шевелил грязный мех на его казацкой шапке, — недвижим и башнеподобен.
Я сразу почувствовал себя гадким лисенком, загнанным в нору собакой. Он может простоять до вечера, может так стоять и завтра и послезавтра, спешить ему некуда, а стояние обещает хлеб.
Я дождался, пока мать ушла из дому, забрался в кухню, отвалил от буханки увесистую горбушку, достал из мешка десяток крупных сырых картофелин и выскочил…
У пахотного кафтана были бездонные карманы, в которых, наверное, могли бы исчезнуть все наши семейные запасы хлеба.
— Сынку, нэ вирь подлой бабе. Немае у нэй никого. Ни сына нэма, ни дочкы.
Я и без него об этом догадывался — Отрыжка обманывала, но попробуй отказать ей, когда стоит перед тобой изломанная, подмигивает щекой и держит в руке грязную тряпицу, чтоб промокнуть глаза.
— Ой, лыхо, сынку, лыхо. Смэрть и та грэбуе… Ой, лыхо, лыхо. — Сипло вздыхая, он медленно отчалил, с натугой волоча пышные ноги по занозистым доскам поселкового тротуара, обширный, как стог, величественный, как обветшалый ветряк. — Ой, лыхо мни, лыхо…
Я повернулся к дому и вздрогнул: передо мной стоял отец, на гладко выбритой голове играет солнечный зайчик, тучновато-плотный, в парусиновой гимнастерке, перехваченной тонким кавказским ремешком с бляшками, лицо не хмурое и глаза не завешаны бровями — спокойное, усталое лицо.
Шагнул на меня, положил на мое плечо тяжелую руку и надолго загляделся куда-то в сторону, наконец спросил:
— Ты дал ему хлеба?
— Дал.
И он снова вглядывался в даль.
Я люблю своего отца и горжусь им.
О великой революции, о гражданской войне сейчас поют песни и складывают сказки. Это о моем отце поют, о нем складывают сказки!
Он из тех солдат, которые первыми отказались воевать за царя, арестовали своих офицеров.
Он слышал Ленина на Финском вокзале. Он видел его стоящим на броневике, живым — не на памятнике.
Он был в гражданскую комиссаром Четыреста шестнадцатого ревполка.
У него на шее рубец от колчаковского осколка.
Он получил в награду именные серебряные часы. Их потом украли, но я сам держал их в руках, видел надпись на крышке: «За проявленную храбрость в боях с контрреволюцией»…
Я люблю отца и горжусь им. И всегда боюсь его молчания. Сейчас вот помолчит и скажет: «Я всю жизнь воюю с врагами, а ты их подкармливаешь. Не предатель ли ты, Володька?»
Но он тихо спросил:
— Почему этому? Почему не другому?
— Этот подвернулся…
— Подвернется другой — дашь?
— Н-не знаю. Наверное, дам.
— А хватит ли у нас хлеба накормить всех?
Я молчал и смотрел в землю.
— У страны не хватает на всех-то. Чайной ложкой море не вычерпаешь, сынок. — Отец легонько подтолкнул меня в плечо. — Иди играй.
Знакомый слон начал вести со мной молчаливый поединок. Он подходил под наше окно и стоял, стоял, стоял, застывший, неряшливый, лишенный лица. Я старался не глядеть на него, терпел, и… слон выигрывал. Я выскакивал к нему с куском хлеба или холодной картофельной оладьей. Он получал дань и медлительно удалялся.
Однажды, выскочив к нему с хлебом и хвостом трески, выловленным из вчерашней похлебки, я вдруг обнаружил, что под нашим забором на пыльной траве валяется еще один слон, укрытый извоженной, когда-то черной железнодорожной шинелью. Он лишь приподнял навстречу мне нечесаную, в колтунах и болячках голову, прохрипел:
— Ма-а-льчик! По-ми-раю!..
И я увидел, что это правда, отдал ему кусок вареной трески.
На следующее утро под нашим забором лежали еще три шкилетника. Я попадал уже в полную осаду, я теперь не мог уже ничего вынести, чтобы откупиться. Пятерых не подкормишь от своих обедов и завтраков, да и запасов у матери на всех недостанет.
Брат бегал смотреть на гостей, возвращался возбужденно-радостный:
— Еще один шкилетник к Володьке приполз!
Мать ругалась:
— Лежку устроили, словно мы всех богаче. Прикормили паразитов, ироды!
Как всегда, она ругала сразу двоих, хотя брат был не виновен ни сном ни духом. Мать ругалась, но выйти и отогнать голодных куркулей не решалась. Молча проходил мимо голодного лежбища и мой отец. Мне он не сказал в упрек ни единого слова.
Мать приказала:
— Вот кувшин — за квасом в столовку сбегай. И быстро мне!
Делать нечего, я принял из ее рук стеклянный кувшин.
Сквозь калитку на волю я проскочил беспрепятственно, не вялым слонам и не еле ползающим шкилетиикам перехватить меня.
Я долго толкался в столовке-чайной, покупал квас. Квас был настоящий, хлебный — никак не витаминный морс, — потому продавался не каждому, кто захочет, а только по спискам. Но торчи не торчи, а возвращаться надо.
Они меня ждали. Все лежачие сейчас торжественно стояли на ногах. Каскады заплат, медь кожи сквозь прорехи, зловещие оскалы заискивающих улыбок, знойные глаза, безглазые физиономии, тянущиеся ко мне руки, тощие, как птичьи лапы, круглые, как мячи, и надтреснутые, шершавые голоса:
— Хлопчик, хлебца…
— По крошечке…
— Помираю, ма-а-альчик. Перед смертью куснуть…
— Хошь, руку свою съем? Хошь? Хошь?..
Я стоял перед ними и прижимал к груди холодный кувшин с мутным квасом.
— Хле-ебца-а…
— Корочку…
— Хошь, руку свою?..
И вдруг со стороны, энергично тряся пером на шляпке, налетела Отрыжка:
— Молодой человек! Молю! На коленях молю!
Она действительно упала передо мной на колени, заламывая не только руки, но и спину и голову, подмигивая куда-то вверх, в синее небо, господу богу.
И это была уже лишка. У меня потемнело в глазах. Из меня рыдающим галопом вырвался чужой, дикий голос:
— Ухо-ди-те! Уходи-те!! Сволочи! Гады! Кровопийцы!! Уходите!
Отрыжка деловито поднялась, стряхнула мусор с юбки. Остальные, разом потухнув, опустив руки, начали поворачиваться ко мне спинами, расползаться без спешки, вяло.
А я не мог остановиться, кричал рыдающе:
— Уходи-те!!
С инструментом на плечах подошли работяги — бородатый, степенный отец с конопатым, очень серьезным сыном, который был старше меня только на два года. Сын небрежно двинул подбородком в сторону разбредавшихся куркулей:
— Шакалы.
Отец важно кивнул в знак согласия, и они оба с откровенным презрением посмотрели на меня, встрепанного, заплаканного, нежно прижимающего к груди кувшин с квасом. Я для них был не жертва, которой нужно сочувствовать, а один из участников шакальей игры.
Они прошли. Отец нес на прямом плече пилу, и та гнулась под солнцем широким полотнищем, выплескивала беззвучные молнии, шаг — и вспышка, шаг и вспышка.
Наверное, моя истерика была воспринята доходягами как полное излечение от мальчишеской жалости. Никто уже больше не выстаивал возле нашей калитки.
Я излечился?.. Пожалуй. Теперь бы я не вынес куска хлеба слону, стой тот перед моим окном хоть до самой зимы.
Мать ахала и охала — ничего не ем, худею, синячищи под глазами… Она трижды на день устраивала мне пытку:
— Опять уставился в тарелку? Опять не угодила? Ешь! Ешь! На молоке сварена, масла положила, посмей только отвернуться!
Из муки, хранившейся к праздникам, она пекла мне пироги с капустой и рубленым яйцом. Я очень любил эти пироги. Я их ел. Ел и страдал.
Теперь я всегда просыпался перед рассветом, никогда не пропускал стука телеги, которую гнал конюх Абрам к привокзальному скверику.
Гремела утренняя телега…
Не спи, вставай, кудрявая!
В цехах звеня…
Гремела телега — знамение времени! Телега, спешившая собрать трупы врагов революционного отечества.
Я слушал ее и сознавал: я дурной, неисправимый мальчишка, ничего не могу с собой поделать — жалею своих врагов!
Как-то вечером мы сидели с отцом дома на крылечке.
У отца в последнее время было какое-то темное лицо, красные веки, чем-то он напоминал мне начальника станции, гулявшего вдоль вокзального сквера в красной шапке.
Неожиданно внизу, под крыльцом, словно из-под земли выросла собака. У нее были пустынно-тусклые, какие-то непромыто желтые глаза и ненормально взлохмаченная на боках, на спине, серыми клоками шерсть. Она минуту-другую пристально глядела на нас своим пустующим взором и исчезла столь же мгновенно, как и появилась.
— Что это у неё шерсть так растет? — спросил я.
Отец помолчал, нехотя пояснил:
— Выпадает… От голода. Хозяин ее сам, наверное, с голодухи плешивеет.
И меня словно обдало банным паром. Я, кажется, нашел самое, самое несчастное существо в поселке. Слонов и шкилетников нет-нет да кто-то и пожалеет, пусть даже тайком, стыдясь, про себя, нет-нет да и найдется дурачок вроде меня, который сунет им хлебца. А собака… Даже отец сейчас пожалел не собаку, а ее неизвестного хозяина — «с голодухи плешивеет». Сдохнет собака, и не найдется даже Абрама, который бы ее прибрал.
На следующий день я с утра сидел на крыльце с карманами, набитыми кусками хлеба. Сидел и терпеливо ждал — не появится ли та самая…
Она появилась, как и вчера, внезапно, бесшумно, уставилась на меня пустыми, немытыми глазами. Я пошевелился, чтоб вынуть хлеб, и она шарахнулась… Но краем глаза успела увидеть вынутый хлеб, застыла, уставилась издалека на мои руки — пусто, без выражения.
— Иди… Да иди же. Не бойся.
Она смотрела и не шевелилась, готовая в любую секунду исчезнуть. Она не верила ни ласковому голосу, ни заискивающим улыбкам, ни хлебу в руке. Сколько я ни упрашивал — не подошла, но и не исчезла.
После получасовой борьбы я наконец бросил хлеб. Не сводя с меня пустых, не пускающих в себя глаз, она боком, боком приблизилась к куску. Прыжок — и… ни куска, ни собаки.
На следующее утро — новая встреча, с теми же пустынными переглядками, с той же несгибаемой недоверчивостью к ласке в голосе, к доброжелательно протянутому хлебу. Кусок был схвачен только тогда, когда был брошен на землю. Второго куска я ей подарить уже не мог.
То же самое и на третье утро, и на четвертое… Мы не пропускали ни одного дня, чтоб не встретиться, но ближе друг другу не стали. Я так и не смог приучить ее брать хлеб из моих рук. Я ни разу не видел в ее желтых, пустых, неглубоких глазах какого-либо выражения — даже собачьего страха, не говоря уже о собачьей умильности и дружеской расположенности.
Похоже, я и тут столкнулся с жертвой времени. Я знал, что некоторые ссыльные питались собаками, подманивали, убивали, разделывали. Наверное, и моя знакомая попадала к ним в руки. Убить ее они не смогли, зато убили в ней навсегда доверчивость к человеку. А мне, похоже, она особенно не доверяла. Воспитанная голодной улицей, могла ли она вообразить себе такого дурака, который готов дать корм просто так, ничего не требуя взамен… даже благодарности.
Да, даже благодарности. Это своего рода плата, а мне вполне было достаточно того, что я кого-то кормлю, поддерживаю чью-то жизнь, значит, и сам имею право есть и жить.
Не облезшего от голода пса кормил я кусками хлеба, а свою совесть.
Не скажу, чтоб моей совести так уж нравилась эта подозрительная пища. Моя совесть продолжала воспаляться, но не столь сильно, не опасно для жизни.
В тот месяц застрелился начальник станции, которому по долгу службы приходилось ходить в красной шапке вдоль вокзального скверика. Он не догадался найти для себя несчастную собачонку, чтоб кормить каждый день, отрывая хлеб от себя.
Документальная реплика.
В самый разгар страшного голода в феврале 1933 года собирается в Москве Первый всесоюзный съезд колхозников-ударников. И на нем Сталин произносит слова, которые на много лет стали крылатыми: «сделаем колхозы большевистскими», «сделаем колхозников — зажиточными».
Самые крайние из западных специалистов считают — на одной лишь Украине умерло тогда от голода шесть миллионов человек. Осторожный Рой Медведев использует данные более объективные: «…вероятно, от 3 до 4 миллионов…» по всей стране.
Но он же, Медведев, взял из ежегодника 1935 года «Сельское хозяйство СССР» (М. 1936, стр. 222) поразительную статистику. Цитирую: «Если из урожая 1928 года было вывезено за границу менее 1 миллиона центнеров зерна, то в 1929 году было вывезено 13, в 1930 году — 48,3, в 1931 году — 51,8, в 1932-м — 18,1 миллиона центнеров. Даже в самом голодном, 1933 году в Западную Европу было вывезено около 10 миллионов центнеров зерна!»
«Сделаем всех колхозников зажиточными!»
1969–1970
* * * * *
11
Александр Грин
«Победитель»
«Победитель»
I
— Наконец-то фортуна пересекает нашу дорогу, — сказал Геннисон, закрывая дверь и вешая промокшее от дождя пальто. — Ну, Джен, — отвратительная погода, но в сердце моем погода хорошая. Я опоздал немного потому, что встретил профессора Стерса. Он сообщил потрясающие новости.
Говоря, Геннисон ходил по комнате, рассеянно взглядывая на накрытый стол и потирая озябшие руки характерным голодным жестом человека, которому не везет и который привык предпочитать надежды обеду; он торопился сообщить, что сказал Стерс.
Джен, молодая женщина с требовательным, нервным выражением сурово горящих глаз, нехотя улыбнулась.
— Ох, я боюсь всего потрясающего, — сказала она, приступая было к еде, но, видя, что муж взволнован, встала и подошла к нему, положив на его плечо руку. — Не сердись. Я только хочу сказать, что когда ты приносишь
«потрясающие» новости, у нас, на другой день, обыкновенно, не бывает денег.
— На этот раз, кажется, будут, — возразил Геннисон. — Дело идет как раз о посещении мастерской Стерсом и еще тремя лицами, составляющими в жюри конкурса большинство голосов. Ну-с, кажется, даже наверное, что премию дадут мне. Само собой, секреты этого дела — вещь относительная; мою манеру так же легко узнать, как Пунка, Стаорти, Бельграва и других, поэтому Стерс сказал: — «Мой милый, это ведь ваша фигура «Женщины, возводящей ребенка вверх по крутой тропе, с книгой в руках»? — Конечно, я отрицал, а он докончил, ничего не выпытав от меня: — «Итак, говоря условно, что ваша, —
эта статуя имеет все шансы. Нам, — заметь, он сказал «нам», — значит, был о том разговор, — нам она более других по душе. Держите в секрете. Я сообщаю вам это потому, что люблю вас и возлагаю на вас большие надежды.
Поправляйте свои дела».
— Разумеется, тебя нетрудно узнать, — сказала Джен, — но, ах, как трудно, изнемогая, верить, что в конце пути будет наконец отдых. Что еще сказал Стерс?
— Что еще он сказал, — я забыл. Я помню только вот это и шел домой в полусознательном состоянии. Джен, я видел эти три тысячи среди небывалого радужного пейзажа. Да, это так и будет, конечно. Есть слух, что хороша также работа Пунка, но моя лучше. У Гизера больше рисунка, чем анатомии. Но отчего Стерс ничего не сказал о Ледане?
— Ледан уже представил свою работу?
— Верно — нет, иначе Стерс должен был говорить о нем. Ледан никогда особенно не торопится. Однако на днях он говорил мне, что опаздывать не имеет права, так как шесть его детей, мал мала меньше, тоже, вероятно, ждут премию. Что ты подумала?
— Я подумала, — задумавшись, произнесла Джен, — что, пока мы не знаем, как справился с задачей Ледан, рано нам говорить о торжестве.
— Милая Джен, Ледан талантливее меня, но есть две причины, почему он не получит премии. Первая: его не любят за крайнее самомнение. Во-вторых, стиль его не в фаворе у людей положительных. Я ведь все знаю. Одним словом,
Стерс еще сказал, что моя «Женщина» — удачнейший символ науки, ведущей младенца — Человечество — к горной вершине Знания.
— Да… Так почему он не говорил о Ледане?
— Кто?
— Стерс.
— Не любит его: просто — не любит. С этим ничего не поделаешь. Так можно лишь объяснить.
Напряженный разговор этот был о конкурсе, объявленном архитектурной комиссией, строящей университет в Лиссе. Главный портал здания было решено украсить бронзовой статуей, и за лучшую представленную работу город обещал три тысячи фунтов.
Геннисон съел обед, продолжая толковать с Джен о том, что они сделают, получив деньги. За шесть месяцев работы Геннисона для конкурса эти разговоры еще никогда не были так реальны и ярки, как теперь. В течение десяти минут Джен побывала в лучших магазинах, накупила массу вещей, переехала из комнаты в квартиру, а Геннисон между супом и котлетой съездил в Европу, отдохнул от унижений и нищеты и задумал новые работы, после которых придут слава и обеспеченность.
Когда возбуждение улеглось и разговор принял не столь блестящий характер, скульптор утомленно огляделся. Это была все та же тесная комната, с грошовой мебелью, с тенью нищеты по углам. Надо было ждать, ждать…
Против воли Геннисона беспокоила мысль, в которой он не мог признаться даже себе. Он взглянул на часы — было почти семь — и встал.
— Джен, я схожу. Ты понимаешь — это не беспокойство, не зависть — нет;
я совершенно уверен в благополучном исходе дела, но… но я посмотрю все-таки, нет ли там модели Ледана. Меня интересует это бескорыстно. Всегда хорошо знать все, особенно в важных случаях.
Джен подняла пристальный взгляд. Та же мысль тревожила и ее, но так же, как Геннисон, она ее скрыла и выдала, поспешно сказав:
— Конечно, мой друг. Странно было бы, если бы ты не интересовался искусством. Скоро вернешься?
— Очень скоро, — сказал Геннисон, надевая пальто и беря шляпу. — Итак, недели две, не больше, осталось нам ждать. Да.
— Да, так, — ответила Джен не очень уверенно, хотя с веселой улыбкой, и, поправив мужу выбившиеся из-под шляпы волосы, прибавила: — Иди же. Я
сяду шить.
II
Студия, отведенная делам конкурса, находилась в здании Школы Живописи и Ваяния, и в этот час вечера там не было уже никого, кроме сторожа Нурса, давно и хорошо знавшего Геннисона. Войдя, Геннисон сказал:
— Нурс, откройте, пожалуйста, северную угловую, я хочу еще раз взглянуть на свою работу и, может быть, подправить кой-что. Ну, как — много ли доставлено сегодня моделей?
— Всего, кажется, четырнадцать. — Нурс стал глядеть на пол. —
Понимаете, какая история. Всего час назад получено распоряжение не пускать никого, так как завтра соберется жюри и, вы понимаете, желают, чтобы все было в порядке.
— Конечно, конечно, — подхватил Геннисон, — но, право, у меня душа не на месте и неспокойно мне, пока не посмотрю еще раз на свое. Вы меня поймите по-человечески. Я никому не скажу, вы тоже не скажете ни одной душе, таким образом это дело пройдет безвредно. И… вот она, — покажите-ка ей место в кассе «Грилль-Рума».
Он вытащил золотую монету — последнюю — все, что было у него, — и положил в нерешительную ладонь Нурса, сжав сторожу пальцы горячей рукой.
— Ну, да, — сказал Нурс, — я это очень все хорошо понимаю… Если, конечно… Что делать — идем.
Нурс привел Геннисона к темнице надежд, открыл дверь, электричество, сам стал на пороге, скептически окинув взглядом холодное, высокое помещение, где на возвышениях, покрытых зеленым сукном, виднелись неподвижные существа из воска и глины, полные той странной, преображенной жизненности, какая отличает скульптуру. Два человека разно смотрели на это.
Нурс видел кукол, в то время как боль и душевное смятение вновь ожили в
Геннисоне. Он заметил свою модель в ряду чужих, отточенных напряжений и стал искать глазами Ледана.
Нурс вышел.
Геннисон прошел несколько шагов и остановился перед белой небольшой статуей, вышиной не более трех футов. Модель Ледана, которого он сразу узнал по чудесной легкости и простоте линий, высеченная из мрамора, стояла меж Пунком и жалким размышлением честного, трудолюбивого Пройса, давшего тупую Юнону с щитом и гербом города. Ледан тоже не изумил выдумкой.
Всего-навсего — задумчивая фигура молодой женщины в небрежно спадающем покрывале, слегка склоняясь, чертила на песке концом ветки геометрическую фигурку. Сдвинутые брови на правильном, по-женски сильном лице отражали холодную, непоколебимую уверенность, а нетерпеливо вытянутый носок стройной ноги, казалось, отбивает такт некоего мысленного расчета, какой она производит.
Геннисон отступил с чувством падения и восторга. — «А! — сказал он, имея, наконец, мужество стать только художником. — Да, это искусство. Ведь это все равно, что поймать луч. Как живет. Как дышит и размышляет».
Тогда — медленно, с сумрачным одушевлением раненого, взирающего на свою рану одновременно взглядом врача и больного, он подошел к той «Женщине с книгой», которую сотворил сам, вручив ей все надежды на избавление. Он увидел некоторую натянутость ее позы. Он всмотрелся в наивные недочеты, в плохо скрытое старание, которым хотел возместить отсутствие точного художественного видения. Она была относительно хороша, но существенно плоха рядом с Леданом. С мучением и тоской, в свете высшей справедливости, которой не изменял никогда, он признал бесспорное право Ледана делать из мрамора, не ожидая благосклонного кивка Стерса.
За несколько минут Геннисон прожил вторую жизнь, после чего вывод и решение могли принять только одну, свойственную ему, форму. Он взял каминные щипцы и тремя сильными ударами обратил свою модель в глину, — без слез, без дикого смеха, без истерики, — так толково и просто, как уничтожают неудавшееся письмо.
— Эти удары, — сказал он прибежавшему на шум Нурсу, — я нанес сам себе, так как сломал только собственное изделие. Вам придется немного здесь подмести.
— Как?! — закричал Нурс, — эту самую… и это — ваша… Ну, а я вам скажу, что она-то мне всех больше понравилась. Что же вы теперь будете делать?
— Что? — повторил Геннисон. — То же, но только лучше, — чтобы оправдать ваше лестное мнение обо мне. Без щипцов на это надежда была плоха. Во всяком случае, нелепый, бородатый, обремененный младенцами и талантом Ледан может быть спокоен, так как жюри не остается другого выбора.
12
Успенский Глеб
Выпрямила
ГЛЕБ УСПЕНСКИЙ
«ВЫПРЯМИЛА»
(Отрывок из записок Тяпушкина.)
I
…Кажется, в «Дыме» устами Потугина И. С. Тургенев сказал такие слова: «Венера Милосская несомненнее принципов восемьдесят девятого года». Что же значит это загадочное слово «несомненнее» Венера Милосская несомненна, а принципы сомненны? И есть ли наконец что-нибудь общего между этими двумя сомненными и несомненными явлениями?
Не знаю, как понимают дело «знатоки», но мне кажется, что не только «принципы» стоят на той самой линии, которая заканчивается «несомненным», но что даже я, Тяпушкин, ныне сельский учитель, даже я, ничтожное земское существо, также нахожусь на той самой линии, где и принципы, где и другие удивительные проявления жаждущей совершенства человеческой души, на той линии, в конце которой, по нынешним временам, я, Тяпушкин, вполне согласен поставить фигуру Венеры Милосской. Да, мы все на одной линии, и если я, Тяпушкин, стою, быть может, на самом отдаленнейшем конце этой линии, если я совершенно неприметен по своим размерам, то это вовсе не значит, чтобы я был сомненнее «принципов» или чтобы принципы были сомненнее Венеры Милосской; все мы — я, Тяпушкин, принципы и Венера — все мы одинаково несомненны, то есть моя, тяпушкинская, душа, проявляя себя в настоящее время в утомительной школьной работе, в массе ничтожнейших, хотя и ежедневных, волнений и терзаний, наносимых на меня народною жизнью, действует и живет в том же самом несомненном направлении и смысле, которые лежат и в несомненных принципах и широко выражаются в несомненности Венеры Милосской.
А то скажите, пожалуйста, что выдумали: Венера Милосская несомненна, «принципы» уже сомненны, а я, Тяпушкин, сидящий почему-то в глуши деревни, измученный ее настоящим, опечаленный и поглощенный ее будущим, — человек, толкующий о лаптях, деревенских кулаках и т. д., — я-то будто бы уж до того ничтожен, что и места на свете мне нет!
Напрасно! Именно потому-то, что я вот в ту самую минуту, когда пишу это, сижу в холодной, по всем углам промерзшей избенке, что у меня благодаря негодяю старосте развалившаяся печка набита сырыми, шипящими и распространяющими угар дровами, что я сплю на голых досках под рваным полушубком, что меня хотят «поедом съесть» чуть не каждый день, — именно потому-то я и не могу, да и не желаю устранить себя с той самой линии, которая и через принципы и через сотни других великих явлений, благодаря которым вырастал человек, приведет его, быть может, к тому совершенству, которое дает возможность чуять Венера Милосская. А то, изволите видеть: «там, мол, красота и правда, а тут, у вас, -только мужицкие лапти, рваные полушубки да блохи!» Извините!..
Все это я пишу по следующему, весьма неожиданному для меня обстоятельству: был я вчера благодаря масленице в губернском городе, частью по делам, частью за книжками, частью посмотреть, что там делается вообще. И за исключением нескольких дельно занятых минут, проведенных в лаборатории учителя гимназии, — минут, посвященных науке, разговору «не от мира сего», напоминавшему монашеский разговор в монашеской келье, — все, что я видел за пределами этой кельи, поистине меня растерзало; я никого не осуждаю, не порицаю, не могу даже выражать согласия или несогласия с убеждениями тех лиц «губернии», губернской интеллигенции, которую я видел, нет! Я изныл душой в каких-нибудь пять, шесть часов пребывания среди губернского общества именно потому, что не видел и признаков этих убеждений, что вместо них есть какая-то печальная, плачевная необходимость уверять себя, всех и каждого в невозможности быть сознающим себя человеком, в необходимости делать огромные усилия ума и совести, чтобы построить свою жизнь на явной лжи, фальши и риторике.
Я уехал из города, ощущая огромный кусок льду в моей груди; ничего не нужно было сердцу, и ум отказывался от всякой работы. И в такую-то мертвую минуту я был неожиданно взволнован следующей сценой:
— Поезд стоит две минуты! — второпях пробегая по вагонам, возвестил кондуктор.
Скоро я узнал, отчего кондуктор должен был так поспешно пробежать по вагонам, как он пробежал: оказалось, что в эти две минуты нужно было посадить в вагоны третьего класса огромную толпу новобранцев последнего призыва из нескольких волостей.
Поезд остановился; был пятый час вечера; сумрак уже густыми тенями лег на землю; снег большими хлопьями падал с темного неба на огромную массу народа, наполнявшую платформу: тут были жены, матери, отцы, невесты, сыновья, братья, дядья — словом, масса народа. Все это плакало, было пьяно, рыдало, кричало, прощалось. Какие-то энергические кулаки, какие-то поднятые локти, жесты пихающих рук, дружно направленные на массу и среди массы, сделали то, что народ валил на вагоны, как испуганное стадо, валился между буферами, бормоча пьяные слова, валялся на платформе, на тормозе вагона, лез и падал, и плакал, и кричал. Послышался треск стекол, разбиваемых в вагонах, битком набитых народом; в разбитые окна высунулись головы, растрепанные, разрезанные стеклом, пьяные, заплаканные, хриплыми голосами кричавшие что-то, вопиявшие о чем-то.
Поезд умчался.
Все это продолжалось буквально две-три минуты; и это потрясающее «мгновение» воистину потрясло меня; точно огромный пласт сырой земли был отодран неведомою силой, оторван каким-то гигантским плугом от своего исконного места, оторван так, что затрещали и оборвались живые корни, которыми этот пласт земли прирос к почве, оторван и унесен неведомо куда… Тысячи изб, семей представились мне как бы ранеными, с оторванными членами, предоставленными собственными средствами залечивать эти раны, «справляться», заращивать раненые места.
Умышленное «заговаривание» хорошими словами душевной неправды, умышленное стремление не жить, а только соблюсти обличье жизни, впечатление, привезенное мною из города, — слившись с этой «сущей правдой» деревенской жизни, мелькнувшей мне в двухминутной сцене, отразились во мне ощущением какого-то беспредельного несчастия, ощущением, не поддающимся описанию.
Воротившись в свой угол, неприветливый, холодный, с промерзлыми подоконниками, с холодной печью, я был так подавлен сознанием этого несчастия вообще, что невольно и сам почувствовал себя самым несчастнейшим из несчастнейших существ. «Вот что вышло!» — подумалось мне, и, припомнив както сразу всю мою жизнь, я невольно глубоко закручинился над нею: вся она представилась мне как ряд неприветливейших впечатлений, тяжелых сердечных ощущений, беспрестанных терзаний, без просвета, без малейшей тени тепла, холодная, истомленная, а сию минуту не дающая возможности видеть и впереди ровно ничего ласкового.
Затопив печку сырыми дровами, я закутался в рваный полушубок и улегся на самодельную деревянную кровать, лицом в набитую соломой подушку. Я заснул, но спал, чувствуя каждую минуту, что «несчастие» сверлит мой мозг, что горе моей жизни точит меня всего каждую секунду. Мне ничего неприятного не снилось, но что-то заставляло глубоко вздыхать во сне, непрестанно угнетало мой мозг и сердце. И вдруг, во сне же, я по чувствовал что-то другое; это другое было так непохоже на то, что я чувствовал до сих пор, что я хотя и спал, а понял, что со мной происходит что-то хорошее; еще секунда — ив сердце у меня шевельнулась какая-то горячая капля, еще секунда — что-то горячее вспыхнуло таким сильным и радостным пламенем, что я вздрогнул всем телом, как вздрагивают дети, когда они растут, и открыл глаза.
Сознания несчастия как не бывало; я чувствовал себя свежо и возбужденно, и все мои мысли тотчас же, как только я вздрогнул и открыл глаза, сосредоточились на одном вопросе:
— Что это такое? Откуда это счастие? Что именно мне вспомнилось? Чему я так обрадовался?
Я так был несчастлив вообще и так был несчастен в последние часы, что мне непременно нужно было восстановить это воспоминание, обрадовавшее меня во сне, мне стало страшно даже думать, что я не вспомню, что для меня опять останется все только то, что было вчера и сегодня, включительно до этого полушубка, холодной печки, неуютной комнаты и этой буквально «мертвой тишины» деревенской ночи.
Не замечая ни холода моей комнаты, ни ее неприветливости, я курил папиросу за папиросой, широко открытыми глазами всматриваясь в тьму и вызывая в моей памяти все, что в моей жизни было в этом роде.
Первое, что припомнилось мне и что чуть-чуть подходило к тому впечатлению, от которого я вздрогнул и проснулся, — странное дело! — была самая ничтожная деревенская картинка. Не ведаю почему, припомнилось мне, как я однажды, проезжая мимо сенокоса в жаркий летний день, засмотрелся на одну деревенскую бабу, которая ворошила сено; вся она, вся ее фигура с подобранной юбкой, голыми ногами, красным повойником на маковке, с этими граблями в руках, которыми она перебрасывала сухое сено справа налево, была так легка, изящна, так «жила», а не работала, жила в полной гармонии с природой, с солнцем, ветерком, с этим сеном, со всем ландшафтом, с которым были слиты и ее тело и ее душа (как я думал), что я долго-долго смотрел на нее, думал и чувствовал только одно:
«как хорошо!»
Напряженная память работала неустанно: образ бабы, отчетливый до мельчайших подробностей, мелькнул и исчез, дав дорогу другому воспоминанию и образу: нет уж ни солнца, ни света, ни аромата полей, а что-то серое, темное, и на этом фоне — фигура девушки строгого, почти монашеского типа. И эту девушку я видел также со стороны, но она оставила во мне также светлое, «радостное» впечатление потому, что та глубокая печаль — печаль о не своем горе, которая была начертана на этом лице, на каждом ее малейшем движении, была так гармонически слита с ее личною, собственною ее печалью, до такой степени эти две печали, сливаясь, делали ее одну, не давая ни малейшей возможности проникнуть в ее сердце, в ее душу, в ее мысль, даже в сон ее чему-нибудь такому, что бы могло «не подойти», нарушить гармонию самопожертвования, которое она олицетворяла, — что при одном взгляде на нее всякое «страдание» теряло свои пугающие стороны, делалось делом простым, легким, успокаивающим и, главное, живым, что вместо слов: «как страшно!» заставляло сказать: «как хорошо!
как славно!»
Но и этот образ ушел куда-то, и долго-долго моя напряженная память ничего не могла извлечь из бесконечного сумрака моих жизненных впечатлений: но она напряженно и непрестанно работала, она металась, словно искала кого-то или что-то по каким-то темным закоулкам и переулкам, и я почувствовал наконец, что вот-вот она куда-то приведет меня, что… вот уж близко… где-то здесь… еще немножко… Что это?
Хотите — верьте, хотите — нет, но я вдруг, не успев опомниться и сообразить, очутился не в своей берлоге с полуразрушенною печью и промерзлыми углами, а ни много, ни мало — в Лувре, в той самой комнате, где стоит она, Венера Милосская… Да, вот она теперь совершенно ясно стоит передо мною, точь-в-точь такая, какою ей быть надлежит, и я теперь ясно вижу, что вот это самое и есть то, от чего я проснулся; и тогда, много лет тому назад, я также проснулся перед ней, также «хрустнул» всем своим существом, как бывает, «когда человек растет», как было и в нынешнюю ночь.
Я успокоился: больше не было в моей жизни ничего такого; ненормальное напряжение памяти прекратилось, и я спокойно стал вспоминать, как было дело.
II
…Как давно это было! Не меньше как двенадцать лет тому назад довелось быть мне в Париже. В то время я давал уроки у Ивана Ивановича Полумракова. Летом семьдесят второго года Иван Иванович вместе с женой и детьми, а также и сестра жены Ивана Ивановича с супругом и детьми, собрались за границу. Предполагалось так, что я буду находиться при детях, а они, Полумраковы и Чистоплюевы, будут «отдыхать». Я считался у них диким нигилистом; но они охотно держали меня при детях, полагая, что нигилисты хотя и вредные люди и притом весьма ограниченного миросозерцания, тупые и узколобые, но во всяком случае «не врут», а Полумраковы и Чистоплюевы и тогда уже чувствовали, что они по отношению к наивным и простым детским вопросам поставлены в положение довольно неловкое: «врать совестно», а «правду сказать» страшно, и принуждены были поэтому на самые жгучие и важные вопросы детей отвечать какими-то фразами среднего смысла, вроде того, что «тебе это рано знать», «ты этого не поймешь», а иногда, когда уже было особенно трудно, то просто говорили: «Ах, какой ты мальчик! Ты видишь, папа занят».
Так вот и предполагалось, что я, нигилист, буду делать ихним детям «определенное», хотя и ограниченное, узколобое миросозерцание, а они, родители, будут гулять по Парижу. Но решительно не знаю, благодаря какой комбинации случилось так, что дамы и дети в сопровождении компаньонки и какого-то старого генерала очутились где-то на морском берегу, а мужья и я остались в Париже «на несколько дней». Замечательно при этом, что и дамы, уезжая, были очень со мною любезны, говорили даже, что оставляют мужей «на мое попечение». Теперь я догадываюсь, что, кажется, и у дам были относительно меня те же взгляды и те же расчеты, которые вообще исповедовали все они относительно нигилистов, то есть, что хотя и туп, и дик, и ограничен, и окурки кладу чуть не в стакан с чаем, но что всетаки мое «ограниченное» миросозерцание заставит как Ивана Ивановича, так и Николая Николаевича вести себя в моем присутствии не так уж развязно, как это, вероятно, было бы, если бы они за отъездом жен остались в Париже одни с своим широким миросозерцанием. «Все-таки они посовестятся его!» — вот, кажется, что именно думали дамы, любезно оставляя меня в Париже с своими мужьями.
Времени, отпущенного нам для отдыха, было чрезвычайно мало, а Париж так велик, огромен, разнообразен, что надобно было дорожить каждой минутой. Помню поэтому какую-то спешную ходьбу по ресторанам, по пассажам, по бульварам, театрам, загородным местам. Некоторое время — куча впечатлений, без всяких выводов, хотя на каждом шагу кто-нибудь из нас непременно произносил фразу: «А у нас, в России…»
А за этой фразой следовало всегда что-нибудь ироническое или даже нелепое, но заимствованное прямо из русской жизни.
Сравнения всегда были не в пользу отечества.
Такая невозможность разобраться в массе впечатлений осложнялась еще тем обстоятельством, что в 1872 г. Париж уже не был исключительно тем разнохарактерным «тру-ля-ля», каким привык его представлять себе русский досужий человек.
Только что кончились война и коммуна, и еще действовали военные версальские суды; за решеткой Вандомской колонны еще валялась груда мусора и камней, напоминая о ее недавнем разрушении; в зеркальных стеклах ресторанов виднелись звездообразные трещины коммунальных пуль; те же следы пуль — маленькие беленькие кружочки с ободком черной копоти — массами пестрили фасады величественных храмов, законодательного собрания, общественных зданий; вот у статуи богини «Правосудие» неведомо куда отскочил нос, да и у «Справедливости» не совсем хорошо на правом виске, и среди всего этого — мрачные развалины Тюльери с высовывающимися рыжими от огня железными жердями, стропилами. Вообще на каждом шагу видно было, что какая-то грубая, жестокая, незнакомая с перчаткою рука нанесла всему этому недавно еще раззолоченному «тру-ля-ля» оглушительную пощечину. Таким образом, хотя Париж «тру-ля-ля» и действовал уже по-прежнему, как ни в чем не бывало, но в этом действовании нельзя было не приметить какого-то усилия; пощечина ярко горела на физиономии, старавшейся быть веселой и беспечной, и сочетание разухабистых звуков возродившейся из пепла шансонетки с звуками «рррран…», раздававшимися в саторийском лагере и свидетельствовавшими о том, что там кого-то убивают, невольно примешивало к разнообразию впечатлений парижского дня неприятное, мешающее свободному их восприятию чувство стыда, даже как бы позора. Вот почему, между прочим, нам и было весьма трудно разобраться в наших впечатлениях:
набегаемся за день, наглядимся, наедимся, насмотримся, наслушаемся, еще раз и два наедимся и напьемся, а воротимся в свою гостиницу — и можем только бормотать что-то очень неопределенное, хотя и разнообразное и даже бесконечно разнообразное.
Решительно не могу припомнить, каким образом удалось нам наконец уловить одну черту, показавшуюся нам весьма существенною, отличающую «нас» от «них», и мы крепко за нее ухватились, как за путеводную нить.
Подал нам, например, слуга завтрак в загородном ресторанчике, а сам тут же, неподалеку от нас, сел читать газету, и мы, руководимые уловленною нами нитью, уже не преминем по окончании завтрака рассуждать об этом обстоятельстве таким образом:
— Да, личность-то человеческая здесь цела и сохранна!
Вот он — лакей, слуга, тарелки подает, служит из-за куска хлеба, но он — человек! Это не то что наш лакей, который даже бесплатно будет перед вами холопствовать; мало того, что будет тарелки подавать, задохнувшись от благоговения, что «едят хорошие господа», но и лицо-то сделает холопское, и будет не ходить, а бросаться с тарелками, вспотеет весь от умиления.
А это далеко не то! Он человек, его все интересует; он берет себе пять процентов с истраченного вами франка — и конец.
Нет, это не лакей!
Кокотки, бульварные дамы также оказались все до единой не только кокотками, но и человеками.
— Это не то что у нас по Невскому несется в участок на извозчике какая-нибудь трагедия с подбитым глазом или совершенно спокойно, как мужик, во все горло выкрикивающий «сбитень хорош!», приглашает среди белого дня пойти с ней погулять, полагая, что это гулянье нечто вроде должности — недаром начальство выдало ей документ. Нет, тут не то! Тут хоть она и занимается «этими делами», но в ней жив человек; она и этими делами займется и книжку почитает. Что ж делать?
Это уж такой строй, ничего не поделаешь! Я как-то совершенно случайно (Иван Иванович сказал эти слова как-то в сторону, да и Николай Николаевич также при этих словах как будто бы покосился куда-то вниз и вбок) разговорился вот тут на бульваре с одной… — не помню уж, мороженое, что ли, ел, — так ведь это, батюшка, ум! Ведь это живая, блестящая беседа! «Этими делами!» Эти дела — сами собой, а человек-то сознает свое человеческое достоинство! Вот в чем штука-то!
Попали мы в версальские военные суды, где в то время «разделывались с коммунарами». Разделывались с ними без всякого милосердия. В полтора часа разбиралось по пятнадцати дел, причем, что бы ни лепетал в свое оправдание подсудимый, большею частью несчастнейшего вида портной, сапожник, подмастерье, господа судьи, обнажив свои головы перед великими словами: «аu nom du peuple francais»[Именем французского народа (фр.). — Ред.], упекали его в Кайену, Нумею… Камер для этих судов было настряпано пропасть; простыми досками были разгорожены огромные казарменные комнаты на четыре, на шесть клетушек, и в каждой клетушке упекали людей.
— Так ведь что ж, батюшка? Тут ведь борьба! Два порядка, два миросозерцания стоят друг против друга. Какие же тут послабления, снисхождения?.. Чья возьмет! Это не то что у нас — упекут в Сибирь бабу, которая, не помня себя, родила и задушила ребенка, а потом сами же упекатели и собирают ей на дорогу.
И несправедливо и глупо. Нет, здесь открыто, ясно, просто — кто кого! Здесь люди, батюшка, люди, каждый шаг свой на земле отстаивающие с борьбой и кровью… Тут нет гуманной болтовни, от которой тошнит, как у нас, и которая вовсе не обеспечивает нас от того, что гуманно болтающий человек не упечет вас к черту на рога по личной злобе, ради мелкой зависти…
Нет! здесь люди — «человеки», живут и делают без фальши, а только по-человечески… Ну, а уж что делать, если человек вообще плох!
Заглянули в парламент, помещавшийся тогда там же, в Версали. И здесь все оказалось вполне по-человечески.
— Это, батюшка, не то что у нас какой-нибудь чинодрал или чинопер, безжизненнейшая, мертвая душа, строчит какието бессмысленнейшие бумаги и не задумается расказнить всякого, кто усомнится в живом значении исписанного бумажного листа. У нас бумага, чернила, сушь, а жизнь — что твой свиной хлев. Здесь совсем не то; здесь везде жизнь — и на улице и в парламенте. Какова есть, такой ее и получите. Вон, посмотрите-ка направо-то: поел, позавтракал — брюхо-то тянет на покой. А Гамбетта, поглядите-ка, по животу-то себе гладит, тоже перекусил парнишка, должно быть, плотно! Что ж? Ничего!..
Три часа — брюхо давно уж разговаривает… Отчего ж не перекусить? А галдят-то! Да все они немножечко подгуляли за завтраком… коньячишко еще не прошел… Право, ничего! Не беспокойтесь! То, что нужно для живого дела, сделают! Живое дело не велико, просто! Это у нас только «не пимши, не емши»
убиваются по целым годам, стулья кожаные просиживают до дыр, издыхают, что называется, за строченьем бумаг, а все толку нет! Нет, здесь жизнь, здесь люди, человеки; здесь, батюшка, все по-человечески! без прикрас, без фраз!
А когда мы на денек, на два попали в Лондон, так уж тут «правда» осадила нас со всех сторон, на каждом шагу, во всех видах и во всех смыслах.
В каком-то «настоящем» английском ресторане, за пять шиллингов, вместо разнообразного пятифранкового парижского обеда нам три раза кряду дали одно и то же блюдо, три раза мы могли потребовать и съесть по хорошему куску мяса какого-то дикого животного, которое в жареном виде разъезжало в каком-то экипаже на колесах по ресторану (где все посетители хранили мертвое молчание), останавливаясь там, где заметна была пустая тарелка.
— Так, именно так! — сказал восторженно Иван Иванович, когда мы действительно наелись до отвала этим блюдом и вышли на улицу. — Раз, продолжал он, — жизнь правдива, без фальши, она должна быть правдива во всем. Человек бегает, трудится, работает настоящим образом от зари до зари, ему нужна настоящая пища, его незачем надувать ордеврами и разносолами. Есть, так уж есть как следует, и вот вам за пять шиллингов одно блюдо! Это великолепно!
Английская «правда» оказывалась гораздо уж выше французской, в чем мы скоро убедились самым неотразимым фактом. Надоумил нас кто-то (кажется, г-н Бедекер) съездить в Гринвич и съесть там знаменитый парламентский обед — «маленькую рыбку». Обед этот ни по своей цене, ни по своей «знаменитости», очевидно, не мог быть тем деловым обедом делового человека, который так нас восхитил своей «правдой». Это уж должно было быть что-то особенно изысканное. Каково же было наше удивление, когда и этот знаменитый обед еще раз убедил нас в том, что там, где в основании жизни лежит «правда», там для лжи, для притворства, для выдумки нет места даже в самых мельчайших проявлениях жизненного обихода. Обед состоял из множества рыбных блюд; маленькая рыбка, гужон, пескарь, фигурировала на первом плане, и блюда с маленькой рыбкой только изредка перемежались блюдом лососины или какой-нибудь другой рыбы. Но ни маленькая рыбка, ни лососина, ни какая другая из числа рыб, появлявшихся за этим обедом, не была подана в каком-нибудь таком «притворном»
и неправдивом виде, чтобы, съев ее, можно было по совести сказать: «как вкусно!» Лососина пахла лососиной, лучше сказать, тем рыбным запахом, которым пахнет бумага или рука, прикоснувшаяся к рыбе. Правдивая английская фантазия не могла сфальшивить так, как сфальшивила бы французская. Точно таким же натуральным, правдиво-рыбьим запахом отдавали и все прочие посторонние кусочки посторонних рыб, появлявшиеся за обедом.
Что же касается героя обеда, «пескаря», то безукоризненно правдивая английская мысль и тут не могла подняться до шарлатанства и выдумки, и единственно на что у нее хватило смелости, так это только на то, чтобы дать одному блюду маленькой рыбки хоть какое-нибудь отличие от другого. Это отличие и было сделано помощью перца: то рыбка является обжаренною в простом перце, то в кайенском, то в легкой пропорции, то посильнее, то еще полегче или еще позабористее, причем рыбка сама собой сохранила свой натуральный рыбий запах и непременно пахла черт знает чем. После десятка таких тонких блюд, когда уже и усы, и салфетки, и платки, и руки — словом, все, что на вас и около вас, стало пахнуть рыбой и речной водой, появился последний, заключительный экземпляр маленькой рыбки, который, как оказалось впоследствии, достойно увенчал здание правдивого обеда. Эта последняя рыбка, чрезвычайно маленькая, лежала на большой белой тарелке без всяких украшений и аксессуаров, как-то одиноко и загадочно: ее маленькое тело было искривлено как бы предсмертной конвульсией, да и одиночество ее на белой тарелке было также несколько таинственно; всматриваясь в этот венец здания, я, однако, не нашел ничего особенно таинственного, за исключением каких-то крошечных красненьких пылинок, которые усеивали все ее тщедушное тело. Но когда, взяв ее за хвост, все мы открыли рты и, думая проглотить это ничтожество, беспечно понесли его куда следовало, то рты наши уже не могли закрыться; маленькая тварь вонзилась в горло, как раскаленная игла, жгла рот, гортань и, после страшных усилий проскользнув далее, обожгла все горло и, как миноноска, зашмыгала в желудке, пытаясь взорвать его в двадцати местах.
Минуты две мы отпивались от этого «кушанья» сельтерской, содовой водой и вином и, только очувствовавшись, наконец могли издавать членораздельные звуки.
— Да! — сказал Иван Иванович довольно загадочно и вновь припал к содовой воде.
— Вот черт-то! — сказал Николай Николаевич, который почему-то начал чихать и, отчихавшись, прибавил: — это уж не перец… а это что-то… бенгальский огонь какой-то… дьявол его возьми!
— Но не правда ли, до какой степени они глубоко правдивы? — сказал наконец Иван Иванович. — Ведь из этакого обеда чего бы только не натворил француз? Ведь это было бы вавилонское столпотворение! А эти — нет! Не хватает на выдумку, на притворство… Дело, дело, дело! Реальная деловая мысль работает упорно, безостановочно, по вершочку идет вперед и вперед… а вот на соус, на куплет, на курбет неспособна!
Правда! правда! вот где корень всей этой жизни!
И затем по пословице: «на ловца и зверь бежит», все, что мы ни видели в Лондоне, все поражало нас со стороны неподдельной правды и полной безыскусственности.
Если попадалась нищета, так уж это была такая голь, такой ужас, такая грязь, что можно было только остановиться, остолбенеть и глядеть в истинном ужасе на безукоризненно ясное явление жизни; даже той приличной внешности, которою французская парижская нищета может прикрывать себя, покупая за три-четыре франка рубашку, блузу, шапку и туфли, и той здесь нет и помину; целые гирлянды нищих детей, целые кучи их, кучи какой-то рвани, грязи лепешками на больных лицах, грязи в лысых местах больной головы, — копошатся по нищенским переулкам. Да, это уж точно нищета! Неприкрытая! Гляди — и всю жизнь не забудешь этой «правды» теперешнего человеческого общества.
Но зато уж и богатство, так тоже настоящее богатство!
Посмотрите-ка вот на этого белотелого истукана с сигарою в углу рта, пробирающегося, вероятно, в парк на каком-то необыкновенном инструменте (нельзя сказать: «экипаже»).
Истукан сидит на каком-то крошечном сиденьице, из-под которого в разные стороны вылезают какие-то стальные нити, как огромные ноги паука. Он весь на воздухе, высоко над толпой, а под ним как будто ничего нет, только блистают на солнце какие-то стальные иглы, а что это — колеса или ноги стального паука — не разберешь. Поглядите на него, и один вид, одна «порода», которая видна в нем, скажет вам, что он органически не может понять, что такое за существа копошатся у колес его паукообразного инструмента. Он органически безжалостен к нищете, к этим маленьким, заморенным, почерневшим от каменноугольного дыма человечкам.
Словом, из Лондона мы вывезли довольно ценное впечатление: «Вот она, жизнь, в основе которой лежит неприкрашенная правда человеческая! Гляди и учись!»
III
Однако, несмотря на обилие материала, почерпнутого нами в эти дни беготни и касавшегося правды человеческих отношений, до которых успело дожить человечество, по возвращении в Париж нам стало почему-то скучно. В один серенький день, продолжая «досматривать» недосмотренное, мы лазили без малейшего удовольствия в парижских катакомбах, где множество боковых галерей было еще охраняемо стражей или загорожено цепями; это делалось для того, чтобы иностранец не наткнулся в этих запутанных галереях на трупы коммунаров, которые, говорят, бросились в катакомбы спасаться от версальцев, заблудились там и погибли в большом количестве.
Видели также и в тот же день знаменитый морг с массою трупов, положенных перед глазами зрителей весьма прилично и невозмутительно; только вот тряпье, рвань, снятая с этих мертвецов, утонувших, угоревших, застрелившихся, отравившихся, — рвань, развешанная тут же около трупов на веревочках, для того чтобы можно было узнать погибшего по платью, если нельзя было узнать по лицу, — этот хлам говорил о горькой, безысходной бедности. У одной молодой женщины подошвы ног, обращенные к публике, были сплошной мозолью — поработала бедняга на своем веку! Хотели было идти в знаменитые клоаки, но путеводитель так расписал их, что просто дух захватило: можете представить, что одних (прошу извинить за неэстетическую картину) выкидышей человеческих, которые плавают там, в этих смрадных водах (извините, сделайте милость), он считал десятками тысяч.
Иван Иванович уж не говорил, что «а все-таки неприкрытая правда гляди, страдай и учись»; напротив, он предложил рассеяться от этих впечатлений дня — все трупы! В одних катакомбах три миллиона скелетов, в морге с десяток «свежих»
покойников да в клоаках сулили тысячи мертвецов. Следовало немножко и отдохнуть от всего этого, «человеческого», на чем-нибудь не столь мрачном. Но когда вечером мы уселись на железных стульях какого-то кафе-концерта в Елисейских полях, и когда перед нами началось веселое кривлянье (повторяю, не утратившее еще следа недавнего удара), и когда вспомнилось, что, может быть, тут же, в клоаке, проходящей под Елисейскими полями, плывут тысячи неродившихся, когда вспомнилось, что в Версали раздается еще «ррррран…» — когда вспомнилось все это, так и совсем стало скучно.
На следующее утро я ушел из гостиницы, не дожидаясь, когда проснутся мои патроны; мне было чрезвычайно тяжело, тяжко, одиноко до последней степени, и весь я ощущал, что в результате всей виденной мною «правды» получилось ощущение какой-то холодной, облипающей тело, промозглой дряни.
Что-то горькое, что-то страшное и в то же время несомненно подлое угнетало мою душу; без цели и без малейшего определенного желания идти по той или другой улице я исходил по Парижу десятки верст, нося в своей душе этот груз горького, подлого и страшного, и совершенно неожиданно доплелся до Лувра; без малейшей нравственной потребности вошел я в сени музея; войдя в музей, я машинально ходил туда и сюда, машинально смотрел на античную скульптуру, в которой, разумеется, по моему, тяпушкинскому, положению ровно ничего не понимал, а чувствовал только усталость, шум в ушах и колотье в висках; — и вдруг, в полном недоумении, сам не зная почему, пораженный чем-то необычайным, непостижимым, остановился перед Венерой Милосской в той большой комнате, которую всякий бывший в Лувре знает и, наверное, помнит во всех подробностях.
Я стоял перед ней, смотрел на нее и непрестанно спрашивал самого себя: «что такое со мной случилось?» Я спрашивал себя об этом с первого момента, как только увидел статую, потому что с этого же момента я почувствовал, что со мною случилась большая радость… До сих пор я был похож (я так ощутил вдруг) вот на эту скомканную в руке перчатку. Похожа ли она видом на руку человеческую? Нет, это просто какой-то кожаный комок. Но вот я дунул в нее, и она стала похожа на человеческую руку. Что-то, чего я понять не мог, дунуло в глубину моего скомканного, искалеченного, измученного существа и выпрямило меня, мурашками оживающего тела пробежало там, где уже, казалось, не было чувствительности, заставило всего «хрустнуть» именно так, когда человек растет, заставило также бодро проснуться, не ощущая даже признаков недавнего сна, и наполнило расширившуюся грудь, весь выросший организм свежестью и светом.
Я в оба глаза глядел на эту каменную загадку, допытываясь, отчего это так вышло? Что это такое? Где и в чем тайна этого твердого, покойного, радостного состояния всего моего существа, неведомо как влившегося в меня? И решительно не мог ответить себе ни на один вопрос; я чувствовал, что нет на человеческом языке такого слова, которое могло бы определить животворящую тайну этого каменного существа. Но я ни минуты не сомневался в том, что сторож, толкователь луврских чудес, говорит сущую правду, утверждая, что вот на этом узеньком диванчике, обитом красным бархатом, приходил сидеть Гейне, что здесь он сидел по целым часам и плакал: это непременно должно было быть; точно так же я понял, что администрация Лувра сделала великое для всего мира дело, спрятав эту каменную загадку во время франко-прусской войны в деревянный дубовый ящик и схоронив этот ящик в глубине непроницаемых для прусских бомб подвалов; представить себе, что какойто кусок чугуна, пущенный дураком, наевшимся гороховой колбасы, мог бы раздробить это в мелкие дребезги, мне казалось в эту минуту таким злодейством, за которое нельзя отомстить всеми жестокостями, изобретенными на свете. Разбить это! Да ведь это все равно что лишить мир солнца; тогда жить не стоит, если нельзя будет хоть раз в жизни не ощущать этого! Какие подлецы! Еле-еле домучаются до гороховой колбасы и смеют! Нет, ее нужно беречь как зеницу ока, нужно хранить каждую пылинку этого пророчества. Я не знал «почему», но я знал, что в этих витринах, хранящих обломки рук, лежат действительные сокровища; что надо во что бы то ни стало найти эти руки, что тогда будет еще лучше жить на свете, что вот тогда-то уж будет радость настоящая.
Долго ли я недоумевал над выяснением причин, так неожиданно расширивших, выпрямивших, свежестью и спокойствием наполнивших мою душу, я не помню. Появление какого-то россиянина, вся фигура которого говорила, что он уже вполне разлакомлен бульварными прелестями, а развязный взгляд этого человека, очевидно только что позавтракавшего, стал так бесцеремонно «обшаривать» мою загадку, не находя, по-видимому, ничего особенного по своей части (такие ли он уж видал виды!), заставило меня уйти из этой комнаты. Я мог оскорбиться на этого развязного человека, а мне невозможно было даже мысли допустить, чтобы в эту минуту я мог даже подумать жить чем-нибудь таким, что составляло простую житейскую необходимость той поры, то есть того времени, когда я был скомканной перчаткой. Опять позволить скомкать себя так, как это было час тому назад и всю жизнь до этого часа? Нет, нет! Я не мог даже есть, пить в этот день, до такой степени мне казалось это ненужным и обидным для того нового, которое я в себе самом бережно принес в мою комнату.
С этого дня я почувствовал не то что потребность, а прямо необходимость, неизбежность самого, так сказать, безукоризненного поведения: сказать что-нибудь не то, что должно, хотя бы даже для того, чтобы не обидеть человека, смолчать о чем-нибудь нехорошем, затаив его в себе, сказать пустую, ничего не значащую фразу, единственно из приличия, делать какое-нибудь дело, которое могло бы отозваться в моей душе малейшим стеснением или, напротив, могло малейшим образом стеснить чужую душу, теперь, с этого памятного дня, сделалось немыслимым; это значило потерять счастие ощущать себя человеком, которое мне стало знакомо и которое я не смел желать убавить даже на волосок. Дорожа моей душевной радостью, я не решался часто ходить в Лувр и шел туда только в таком случае, если чувствовал, что могу «с чистою совестью»
принять в себя животворную тайну. Обыкновенно я в такие дни просыпался рано, уходил из дому без разговоров с кем бы то ни было и входил в Лувр первым, когда еще никого там не было.
И тогда я так боялся потерять вследствие какой-нибудь случайности способность во всей полноте ощущать то, что я ощутил здесь, что я при малейшей душевной нескладице не решался подходить к статуе близко, а придешь, заглянешь издали, увидишь, что она тут, та же самая, скажешь сам себе: «ну, слава богу, еще можно жить на белом свете!» — и уйдешь.
И все-таки я бы не мог определить, в чем заключается тайна этого художественного произведения и что именно, какие черты, какие линии животворят, «выпрямляют» и расширяют скомканную человеческую душу. Я постоянно думал об этом и все-таки ничего не мог бы передать и высказать определенного. Не знаю, долго ли бы я протомился так, если бы одно совершенно случайное обстоятельство не вывело меня, как мне кажется, на настоящую дорогу и не дало мне наконец-таки возможности ответить себе на неразрешимый для меня вопрос: в чем тут дело, в чем тайна?
Совершенно случайно припомнилось мне старинное стихотворение в «Современнике» 55 — 56 годов; стихотворение носило название «Венера Милосская» и, кажется, принадлежит г-ну А. Фету. Когда-то я знал это стихотворение наизусть, но теперь не мог припомнить всего и вспомнил только несколько строк, не имеющих никакой друг с другом связи. Мне вспомнились такие стихи: «До чресл сияя наготой, цветет смеющееся тело неувядаемой красой…» С словом красой рифмовала совершенно одиноко возникшая в моей памяти строчка: «И млея пеною морской» или «млея негою одной». Наконец припомнилась и еще строчка: «И вся кипя (а может быть, и не так) пафосской (и это, может быть, неверно) страстью…»
Вот и все, что мне припомнилось; но то, что рисовали эти строчки «кипя страстью… смеющееся тело… млея пеною морской» или «негою одной», «цветет неувядаемой красой», — все это до такой степени было не то сравнительно с моим ощущением, что мне даже стало смешно.
В самом деле, всякий раз, когда я чувствовал неодолимую потребность «выпрямить» мою душу и идти в Лувр взглянуть, «все ли там благополучно», я никогда так ясно не понимал, как худо, плохо и горько жить человеку на белом свете сию минуту.
Никакая умная книга, живописующая современное человеческое общество, не дает мне возможности так сильно, так сжато и притом совершенно ясно понять «горе» человеческой души, «горе» всего человеческого общества, всех человеческих порядков, как один только взгляд на эту каменную загадку. Правда, я еще не могу найти связи между этой загадкой, выпрямляющей мою душу, и мыслью о том, как худо жить человеку, являющейся непосредственно вслед за ощущением, даваемым загадкой, но я положительно знаю собственным своим опытом, что в то же мгновение, когда я почувствую себя «выпрямленным», я немедленно же почему-то начинаю думать о том, как несчастлив человек, представляю себе все несчастие этой шумящей за стенами Лувра улицы и невольно, в смысле этого «человеческого горя», начинаю группировать все мною пережитое, виденное, слышанное до последней минуты сегодняшнего дня включительно, но я не ощущаю ни малейшей возможности сосредоточиться хотя на одну минуту на каких-нибудь частностях собственно женской красоты видимой мною загадки.
Просто в голову даже не приходит думать, что перед тобой что-то «по части» тела, а напротив, непостижимо, почему думаешь, например, о том, что Иван Иванович Полумраков, сказавши, что вот этот лакей, несмотря на свое лакейство, всетаки сохранил в себе человека, решительно не понимал, какую огромную подлость лепетали его уста. Как! человек — и лакей?
Человек — и принужден подавать тарелки? Это человек-то должен безмолвно исполнять ваши прихоти, чтобы получить три су на пропитание? Вот как, вдруг, переиначивалась во мне фраза Ивана Ивановича «о человеческом достоинстве», переиначивалась мгновенно, от одного только взгляда на загадку, заставлявшую ощутить радость сознания себя человеком.
Вчера я, может быть, еще мог бы радоваться вместе с Иваном Ивановичем, что вот эта уличная женщина сохраняет свое «человеческое достоинство», но сейчас я понять не могу, каким образом можно было допустить, чтобы человеческое достоинство, чтобы человек был так глубоко оскорблен.
Человека, и сметь так осрамить! Человека-то сделать таким несчастным, так его всего скомкать, испачкать грязью!..
Нет, не «правда человеческая» рисуется передо мною теперь, не «правда», до которой, по словам Ивана Ивановича, дожило человечество, а самая страшная неправда, и никогда мне так не ясна она, эта неправда, как сейчас. Униженным, осрамленным представляется мне этот человек и в виде того лондонского богача, один вид которого дал Ивану Ивановичу возможность сказать, что во всей его породе и природе нет фальши: теперь этот породистый тип казался мне унижением человека; как можно было довести человека до такого типа, до такого душевного состояния, которое даже органически не может понимать, что такое за мразь человеческая копошится у колес его экипажа? Как можно было довести человека до типа этой мрази, этого ничтожества, обрекающего себя на каторжный труд, на голод, на грязь, на безграничное душевное отчаяние? Все это ужасная неправда для человека; во всех этих неподходящих друг к другу положениях видно только, что «человек» скомкан, изуродован, «осрамлен» в своих человеческих побуждениях; изуродован необходимостью унижать себя до раба, до торговли своим телом, до желания наложить на себя руки, до потребности прекратить чужую жизнь, убив такого же, как и сам, человека, до потребности ограбить человека, до потребности, наконец, щеголять чрезвычайной добротою. Во всем этом, то есть во всем, что только ни видит ваш глаз, все одно унижение, все попрание в человеке человека… И страшно становилось за душевную участь теперешнего человека, за искалеченное, а потому постоянно опечаленное существо его души… И обо всем этом думалось благодаря «каменной загадке», она «выпрямляла» во мне скомканную теперешнею жизнью душу человеческую, знакомила, неведомо как и в чем, с радостию и широтою этого ощущения.
Не «смеющееся тело», и не «пена», и не «кипя», и не «сияя», — очевидно, не они выпрямляли и выпрямляют в этом художественном произведении душу человеческую; очевидно, что автор стихотворения не только не овладел всей огромностью впечатления, но даже к краешку его не прицепился, а, соблазненный, так сказать, «званием» Венеры, как бы уже не мог не воспрославить женской красоты и без малейшего основания заставил смеяться несмеющееся, млеть немлеющее и кипеть некипящее. И в самом деле, как же изобразить очарование женской красоты (ведь это Венера!), если не воспеть тела, если не разнежить им зрителя, заставив это тело млеть, заставив его волноваться страстью? Какими же чертами, какими красками описывать женскую, божественную красоту? И г-н Фет все это так точно и воспел, и все это совершенно несправедливо, то есть на воспевание только этого он не имел никакого права.
В самом деле, если говорить о женской красоте, о красоте женского тела, «неувядаемой» прелести, так ведь уж одно то, что Венера Милосская — калека безрукая, не позволяет поэту млеть и раскисать; тут же в коридоре, ведущем к Венере Милосской, вот близ тех, других «Венер», которых там так много, зритель, точно, может размышлять по части наготы тела; там женские черты выделены с большою тщательностью и лезут в глаза прежде всего; вот этим (также знаменитым) Венерам действительно под стать и млеть, и кипеть, и щеголять смеющимся телом, и глазками, и ручками, «этаким вот» пафосским манером изображающими жесты стыдливости… Там, «у тех Венер», любитель «женской прелести» найдет на что посмотреть и перед чем помлеть, а здесь? Да посмотрите, пожалуйста, на это лицо! Такие ли, по части красоты женского лица, сейчас, сию минуту, тут же рядом, в Елисейских полях, можно получить живые экземпляры? Вот тут, в Елисейских-то полях, действительно могут встретиться такие смеющиеся тела, женственность которых чувствуется зевакой даже издали, несмотря на то, что и наготы-то никакой не видно, вся она закрыта самым тщательным образом. Здесь, в парижских-то Венерах, эта часть разработана необычайно, а у этой? Посмотрите, повторяю, на этот нос, на этот лоб, на эти… право, сказать совестно, почти мужицкие завитки волос по углам лба…
Положительно сейчас, сию минуту в Париже найдутся тысячи тысяч дам, которые за пояс заткнут Венеру Милосскую по части смеющегося естества.
Мало-помалу я окончательно уверил себя, что г-н Фет без всяких резонов, а единственно только под впечатлением слова «Венера», обязывающего воспевать женскую прелесть, воспел то, что не составляет в Венере Милосской даже маленького краешка в общей огромности впечатления, которое она производит. В самом деле, если художник хотел поразить нас красотой женского тела (которая, по словам г-на Фета, и млеет, и цветет, и смеется, и кипит страстью), зачем он завязал это тело «до чресл»? Уж коли тело, так давай его все, целиком; тут уж и пятка какая-нибудь, сияющая «неувядаемой красотой», должна потрясти простых смертных. Вот новые французские скульпторы, так те не то что «красоту», а «истину», «милосердие», «отчаяние» — все изображают в самом голом виде, без прикрышки. Прочтешь в каталоге: «Истина», а глаза-то смотрят совсем не туда… «Отчаяние»… подойдешь, поглядишь и думаешь вовсе не об «отчаянии», а о том, что «эко, мол, бабато… растянулась — словно белуга».
А тут, задавши себе задачу ослепить нас неувядаемой красотой женского тела, смеющегося, кипящего, млеющего, взять да и закутать ее чуть не всю, до самых чресл! Что же это такое?
Что руководило художником? Но это еще не все: закутав тело своего создания «до чресл», что он дал по части женской красоты — лицу, лбу, носу, выражению глаз?
И как бы вы тщательно ни разбирали этого великого создания с точки зрения «женской прелести», вы на каждом шагу будете убеждаться, что творец этого художественного произведения имел какую-то другую, высшую цель.
Да, он потому (так стало казаться мне) и закрыл свое создание до чресл, чтобы не дать зрителю права проявить привычные шаблонные мысли, ограниченные пределами шаблонных представлений о женской красоте.
Ему нужно было и людям своего времени, и всем векам, и всем народам вековечно и нерушимо запечатлеть в сердцах и умах огромную красоту человеческого существа, ознакомить человека — мужчину, женщину, ребенка, старика — с ощущением счастия быть человеком, показать всем нам и обрадовать нас видимой для всех нас возможностью быть прекрасными — вот какая огромная цель владела его душой и руководила рукой.
Он брал то, что для него было нужно, и в мужской красоте и в женской, не думая о поле, а пожалуй, даже и о возрасте, и ловя во всем этом только человеческое; из этого многообразного материала он создавал то истинное в человеке, что составляет смысл всей его работы, то, чего сейчас, сию минуту нет ни в ком, ни в чем и нигде, но что есть в то же время в каждом человеческом существе, в настоящее время похожем на скомканную перчатку, а не на распрямленную.
И мысль о том, когда, как, каким образом человеческое существо будет распрямлено до тех пределов, которые сулит каменная загадка, не разрешая вопроса, тем не менее рисует в вашем воображении бесконечные перспективы человеческого совершенствования, человеческой будущности и зарождает в сердце живую скорбь о несовершенстве теперешнего человека.
Художник создал вам образчик такого человеческого существа, которое вы, считающий себя человеком и живя в теперешнем человеческом обществе, решительно не можете себе представить способным принять малейшее участие в том порядке жизни, до которого вы дожили. Ваше воображение отказывается представить себе это человеческое существо в каком бы то ни было из теперешних человеческих положений, не нарушая его красоты. Но так как нарушить эту красоту, скомкать ее, искалечить ее в теперешний человеческий тип — дело немыслимое, невозможное, то мысль ваша, печалясь о бесконечной «юдоли» настоящего, не может не уноситься мечтою в какое-то бесконечно светлое будущее. И желание выпрямить, высвободить искалеченного теперешнего человека для этого светлого будущего, даже и очертаний уже определенных не имеющего, радостно возникает в душе.
IV
Вот, стало быть, и я, Тяпушкин, всею моею жизнью обреченный на то, чтобы не жить личною жизнью, а исчезнуть, пропасть в каком-то не моем, но трудном деле ближнего, — был глубоко рад, что великое художественное произведение укрепляет меня в моем тогдашнем желании идти в темную массу народа. Теперь благодаря всему, чему великое художественное произведение научило меня, я знаю, что мне по моим силам и можно и должно «идти туда».
— Я пойду туда и буду стремиться к тому, чтобы начинающий жить человек-народ не позволил себя унизить до размеров той «сущей правды», которая так обрадовала Ивана Ивановича в Европе! Есть из-за чего, в самом деле, мучиться, чтобы не то что сохранить свое человеческое достоинство, будучи лакеем, банщиком, нищим, кокоткой, а чтобы унизить себя до необходимости переносить все эти уродства!
…Года через четыре я опять был в Париже и опять «жаждал»
ощутить «радость» существования, посетить Лувр, но, увы, не мог этого сделать: я уже опять был скомкан, скомкан крепкой, сильной, неумолимой рукой действительности и чувствовал, что теперь меня уж не выпрямишь… Попробовал было я пойти в Лувр, подошел даже к самым воротам, но просто совестно стало идти: «что ж я пойду понапрасну беспокоить ее? Все равно ничего не выйдет, а ее только сконфузишь!..» Постоял и пошел в русскую библиотеку упиваться газетными известиями о градобитиях и неурожаях.
А теперь вот опять — да где? в глухой, занесенной снегом деревушке, в скверной, неприветливой избе, в темноте и тоске безмолвной томительной зимней ночи — вспомнилась радостная минута и оживила. Бывают же случаи, когда оживают члены, разбитые параличом. Теперь я употреблю все старания, чтобы мне не утратить проснувшегося ощущения как можно дольше; я куплю себе фотографию, повешу ее тут на стене, и когда меня задавит, обессилит тяжкая деревенская жизнь, взгляну на нее, вспомню все, ободрюсь и… такую сделаю «овацию» волостному старшине Полуптичкину, что он у меня обеими руками начнет строчить донесения!..
13
Викентий Викентьевич Вересаев
Состязание
I
Когда состязание было объявлено, никто в городе не сомневался, что выполнить задачу способен только Дважды-Венчанный — на весь мир прославленный художник, гордость города. И только сам он чувствовал в душе некоторый страх: он знал силу молодого Единорога, своего ученика.
Глашатаи ходили по городу и привычно зычными голосами возвещали на перекрестках состоявшееся постановление народного собрания: назначить состязание на картину, изображающую красоту женщины; картина эта, огромных размеров, будет водружена в центральной нише портика на площади Красоты, чтоб каждый проходящий издалека мог видеть картину и неустанно славить творца за данную им миру радость.
Ровно через год, в месяц винограда, картины должны быть выставлены на всенародный суд. Чья картина окажется достойною украсить собою лучшую площадь великого города, тот будет награжден щедрее, чем когда-то награждали цари: тройной лавровый венок украсит его голову, и будет победителю имя — Трижды-Венчанный.
Так выкликали глашатаи на перекрестках и рынках города, а Дважды-Венчанный, в дорожной шляпе и с котомкою за плечами, с кизилевою палкою в руке и с золотом в поясе, уже выходил из города. Седая борода его шевелилась под ветром, большие, всегда тоскующие глаза смотрели вверх, в горы, куда поднималась меж виноградников каменистая дорога.
Он шел искать по миру высшую Красоту, запечатленную творцом в женском образе.
У хижины за плетнем чернокудрый юноша рубил секирою хворост на обрубке граба. Он увидел путника, выпрямился, откинул кудри с загорелого лица и радостно сверкнул зубами и белками глаз.
— Учитель, радуйся! — весело приветствовал он путника.
— Радуйся, сын мой! — ответствовал Дважды-Венчанный и узнал Единорога, любимого своего ученика.
— В далекий путь идешь ты, учитель. Шляпа у тебя на голове и котомка за плечами, и сандалии у тебя из тяжелой буйволовой кожи. Куда идешь ты? Зайди под мой кров, отец мой, осушим с тобою по кружке доброго вина, чтоб мне пожелать тебе счастливой дороги.
И с большою поспешностью ответил Дважды-Венчанный:
— Охотно, сын мой!
Единорог с размаху всадил блестящую секиру в обрубок и крикнул, ликуя:
— Зорька! Скорее сюда! Неси нам лучшего вина, сыру, винограду!.. Великая радость нисходит на дом наш: учитель мой идет ко мне!
Они сели перед хижиною, в тени виноградных лоз, свешивавших над их головами черные свои гроздья. С робким благоговением поглядывая на великого, Зорька поставила на стол кувшин с вином, деревянные тарелки с сыром, виноградом и хлебом.
И спросил Единорог:
— Куда собрался ты, учитель?
Дважды-Венчанный поставил кружку и удивленно поглядел на него.
— Разве ты не слышал, о чем третий день кричат глашатаи на площадях и перекрестках города?
— Слышал.
— И… думаешь выступить на состязании?
— Да, учитель. Знаю, что придется бороться с тобою, но такая борьба не может быть тебе обидна. Знаю, что трудна будет борьба, но не художник тот, кто бы испугался ее.
— Я так и думал. Знаю и я, что борьба предстоит трудная и победить тебя будет нелегко. Когда же идешь ты в путь?
— Куда?
— Как куда? Искать ту высшую Красоту, которая где-нибудь да должна же быть. Отыскивать ее, в кого бы она ни была вложена — в гордую ли царевну, в дикую ли пастушку, в смелую ли рыбачку, или в тихую дочь виноградаря.
Единорог беззаботно усмехнулся.
— Я уж нашел ее.
Сердце Дважды-Венчанного забилось медленными, сильными толчками, груди стало мало воздуха, а седая голова задрожала. Он осторожно спросил, не надеясь получить правдивого ответа:
— Где же ты нашел ее?
— А вот она!
И Единорог указал на Зорьку, свою возлюбленную. Взгляд его был прям, и в нем не было лукавства.
Дважды-Венчанный в изумлении смотрел на него.
— Она?
— Ну да!
Голова старика перестала дрожать, и сердце забилось ровно. И заговорило в нем чувство учителя.
— Сын мой! Твоя возлюбленная мила, я не спорю. Счастлив тот, чью шею обнимают эти стройные золотистые руки, к чьей груди прижимается эта прелестная грудь. Но, подумай, та ли эта красота, которая должна повергнуть перед собою мир.
— Да, именно та самая. Нет в мире и не может быть красоты выше красоты золотой моей Зорьки, — восторженно сказал Единорог.
И взяло на минуту сомнение Дважды-Венчанного: не обманул ли его опытный его глаз, не просмотрел ли он чего в этой девушке, потупленно стоявшей в горячей тени виноградных лоз? Осторожно и испытующе он оглядел ее. Обыкновеннейшая девушка, каких везде можно встретить десятки. Широкое лицо, немножко косо прорезанные глаза, немножко редко поставленные зубы. Глаза милые, большие, но и в них ничего особенного… Как слепы влюбленные!
В груди учителя забился ликующий смех, но лицо осталось серьезным. Он встал и, пряча лукавство, сказал:
— Может быть, ты и прав. Блажен ты, что так близко нашел то, что мне предстоит искать так далеко и долго… Радуйся! И ты радуйся, счастливая меж дев!
Когда Дважды-Венчанный вышел на дорогу, он вздохнул облегченно и успокоенно: единственный опасный соперник сам, в любовном своем ослеплении, устранил себя с его пути. Спина старика выпрямилась, и, сокращая путь, он бодро зашагал в гору по белым камням русла высохшего горного ручья.
II
Дважды-Венчанный переходил из города в город, из деревни в деревню, переплывал с острова на остров. Не зная усталости, искал он деву, в которую природа вложила лучшую свою красоту. Он искал в виноградниках и рыбачьих хижинах, в храмах и на базарах, в виллах знатных господ, в дворцах восточных царей. Славное имя его открывало перед ним все двери, делало его повсюду желанным гостем. Но нигде не находил он той, которую искал.
Однажды, в месяц ветров, за морем, он увидел у городских ворот едущую на мулах восточную царевну и остановился и с минуту жадно смотрел на ее сверкающую красоту.
И подумал в колебании:
«Может быть, она?»
Но сейчас же преодолел себя, отвернулся и решительно зашагал дальше.
—
Может быть? Значит, не она… Истинная красота, как светляк, — сказал он себе. — Когда ночью ищешь в лесу светляков, часто бывает: вдруг остановишься — «Стой! Кажется, светляк!» Кажется?.. Не останавливайся, иди дальше. Это белеет в темноте камушек или цветок анемона, это клочок лунного света упал в чаще на увядший листок. Когда ясным своим светом, пронзая темноту, засветится светляк, — тогда не спрашиваешь себя, тогда прямо и уверенно говоришь: это он!
Месяц шел за месяцем. Отшумели на море равноденственные бури, осыпались листья с дубов. Все ниже стало ходить солнце, все глубже заглядывать в окна хижин. Туманные тени поползли по волнам остывающего моря. Горы надели на головы белые шапки, ледяной ветер гнал по долинам сухой, шуршащий снег. И опять солнце стало ходить выше. Перед утреннею зарею выбегал из-за гор небесный Стрелец и целился стрелою в изогнутую спину сверкающего Скорпиона. Больше пригревало теплом.
А Дважды-Венчанный странствовал.
Был месяц фиалок. Путник расположился, на ночлег на песчаном берегу бухты. Отпил из фляги вина, перекусил куском черствого ячменного хлеба с овечьим сыром, сделал себе ложе: нагреб для изголовья возвышение из морского песку, разостлал волосяной свой плащ и склонился на ложе головою.
В теле была усталость, в душе — отчаяние. Никогда, никогда, казалось ему, не найдет он того, чего ищет. Не найдет, потому что не способен найти.
С полуденной стороны, от гор, дул теплый ветер, и весь он был пропитан запахом фиалок. Там, на горных перевалах, лесные поляны покрыты сплошными коврами фиалок. Сегодня вечером он шел тропинкою по этим перевалам и любовался всем, что кругом, и вдыхал целомудренные запахи ранней весны. А теперь, когда сумерки одели горы, когда в теплом ветре издалека несся запах фиалок, ему казалось: там все прекраснее, таинственнее и глубже, чем он сумел увидеть вблизи. А пойдет туда, — и опять красота отодвинется, и опять будет хорошо, но не то… Что же это за колдовство в мировой красоте, что она вечно ускользает от человека, вечно недоступна и непостижима и не укладывается целиком ни в какие формы природы?
Оглянулся Дважды-Венчанный на все, что сотворил за свою жизнь, что сделало его славным на весь мир, и припал лицом к изголовью. Противно стало ему и стыдно за неумелые его намеки на то великое и непостигаемое, что носилось перед его тоскующими глазами и чего никогда он не смог воплотить в формы и краски.
Так он и заснул, уткнувшись лицом в жесткий свой плащ. С гор все дул теплый ветер, пропитанный запахом фиалок, и вздыхало вдоль берега вечно тоскующее, не знающее спокойствия море.
Когда Дважды-Венчанный проснулся, над морем занималась зеленовато-золотистая заря. Горы, кусты, колючая трава на берегу стояли в ровном сумеречном свете, — мягко светящиеся, объединенные; свет обнимался с тенью. Потом запылал над морем огромный, ясный костер, без дыма и чада, медленно вылетело из него солнце и ударило лучами по земле. И отшатнулся свет от тени, и разъединились они. Ярче стал свет, чернее тень.
Дважды-Вечанный взглянул на мрачные, утонувшие в тени горы. Взглянул — и вскочил на ноги быстро, как юноша. С предгорного холма, залитая лучами солнца, спускалась стройная дева в венке из фиалок. И сотряслась душа художника до самых глубин, и сразу, без колебаний, без вопросов, с ликованием воскликнула душа:
— Это — она!
Дважды-Венчанный упал на колени и в молитвенном восторге простер руки к светозарной деве.III
Настал месяц винограда. Площадь Красоты, как море, шумела народом. В глубине площади возвышались два огромных, одинаковой величины, прямоугольника, завешенных полотном. Возле одного стоял Дважды-Венчанный, возле другого — Единорог. Толпа с обожанием смотрела на уверенное, сурово-спокойное лицо Дважды-Венчанного и посмеивалась, глядя на бледное под загаром лицо красавца Единорога.
Граждане кричали:
— Единорог! Беги со своею мазнею, не срамись.
Единорог в ответ встряхивал курчавыми волосами и вызывающе усмехался, сверкая зубами.
Старец в пурпуровом плаще и с золотым обручем на голове ударил палочкой из слоновой кости по серебряному колоколу.
Все притихли. Старец простер палочку к картине Дважды-Венчанного. Полотно скользнуло вниз.
Высоко над толпою стояла спускающаяся с высоты, озаренная восходящим солнцем дева в венке из фиалок. За нею громоздились темносерые выступы суровых гор, еще не тронутых солнцем. По толпе пронесся гул, и вдруг стало на площади тихо, как знойным полднем в горном лесу.
Божественно-спокойная, стояла дева и смотрела на толпу большими глазами, ясными, как утреннее небо после ночной грозы. Никто никогда еще не видал в мире такой красоты. Она слепила взгляд, хотелось прикрыть глаза, как от солнца, только что вышедшего из моря. Но падала рука, не дошедши до глаз, потому что не могли глаза оторваться от созерцания. А когда отрывались и смотрели по сторонам, было с ними, как после взгляда на солнце, только что вышедшее из моря: все вокруг казалось темным и смутным. Тело, какого еще не обнимала ни одна мужская рука, сквозило сквозь легкую ткань. Но не было вожделения. Было только молитвенное склонение и блаженная, нездешняя печаль.
Темные горы были за девой, и темно стало кругом на площади. Девы и жены пристыженно отвращали лица в сторону, а юноши и мужи глядели на Фиалковенчанную, переносили взгляд на своих возлюбленных и спрашивали себя: что же нравилось им в этих нескладных телах и обыденных лицах, в этих глазах, тусклых, как коптящий ночник?
Старый погонщик мулов, с брюзгливым лицом и щетиною на подбородке, искоса оглядывал свою старуху; была она жирная, с отвислым подбородком и огромною грудью, с лицом, красным от кухонного чада. Взглянул он опять на Фиалковенчанную и опять на жену. Больно ущемила тоска по красоте его жесткое, как подошва, сердце, и страшно стало ему, с кем суждено проводить ему его трудную, серую жизнь.
Долго стояли люди в благоговейном молчании, и смотрели, и что-то шептали. И всеобщий вздох священной, великой тоски пронесся над толпою.
Старец в красном плаще стряхнул с себя очарование и встал. Было лицо его строго и торжественно. С усилием, как бы свершая вынужденное кощунство, протянул он палочку ко второй картине.IV
Покров упал.
Ропот недоумения и негодования прошел по площади. На скамье, охватив колено руками, подавшись лицом вперед, сидела и смотрела на толпу — Зорька! Люди не верили глазам и не верили, чтоб до такой наглости мог дойти Единорог. Да, Зорька! Та самая Зорька, что по утрам возвращается с рынка, неся в корзине полдесятка кефалей, пучки чесноку и петрушки; та самая Зорька, что мотыжит за городом свой виноградник и по вечерам доит на дворике коз. Сидит, охватив колено руками, и смотрит на толпу. За нею — полуоблупившаяся стена хижины и косяк двери, над головою — виноградные листья, красные по краям, меж них — тяжелые, сизые гроздья, а вокруг нее — горячая, напоенная солнцем тень. И все. И была она на картине такая же большая, локтей в двадцать, как и божественная дева на соседней картине.
— Хоть с гору величиной нарисуй, лучше не станет! — крикнул озорной голос.
И все засмеялись. Раздался свист, шип. Кто-то завопил:
— Камнями его!
И другие подхватили:
— Побить камнями!
Но вот шум начал понемногу затихать. Кричащие и хохочущие рты сомкнулись, поднятые с камнями руки опустились. И вдруг стало тихо. Так иногда неожиданно налетит с гор ветер, — завоет, завьется, поднимет к небу уличную пыль — и вдруг упадет, как в землю уйдет.
Люди смотрели на Зорьку, и Зорька смотрела на них. Один юноша в недоумении пожал плечами и сказал другому:
— А знаешь, я до сих пор не замечал, что Зорька так прелестна. Ты не находишь?
И другой ответил задумчиво:
— Странно, но так. Глаз не могу оторвать.
Высоко подняв брови, как будто прислушиваясь к чему-то, Зорька смотрела перед собою. Чуть заметная счастливая улыбка замерла на губах, в глазах был стыдливый испуг и блаженное недоумение перед встающим огромным счастьем. Она противилась, упиралась и, однако, вся устремилась вперед в радостном, неодолимом порыве. И вся светилась изнутри. Как будто кто-то, втайне давно любимый, неожиданно наклонился к ней и тихо-тихо прошептал:
— Зорька! Люблю!
Люди молчали и смотрели. Они забыли, что это — та самая Зорька, которая носит в корзине тускло поблескивающую рыбу и серебряные пучки чесноку, не замечали, что лицо ее несколько широко, а глаза поставлены немного косо. Казалось, будь она безобразна, как дочь кочевника, с приплюснутым носом и глазами, как щелки, — само безобразие, освещенное изнутри этим чудесным светом, претворилось бы в красоту небывалую.
Как будто солнце взошло высоко над площадью. Радостный, греющий свет лился от картины и озарял все кругом. Вспомнились каждому лучшие минуты его любви. Тем же светом, что сиял в Зорьке, светилось вдруг преобразившееся лицо его возлюбленной в часы тайных встреч, в часы первых чистых и робких ласк, когда неожиданно выходит на свет и широко распускается глубоко скрытая, вечная, покоряющая красота, заложенная творцом во всякую без исключения женщину.
Прояснилось лицо старого брюзги-погонщика, взглянул он на свою старуху, и улыбнулся, и толкнул ее сухим локтем в жирный бок.
— А помнишь, старуха… Гы-гы!.. У водопоя-то? Ты поила коз, а я перепрыгнул через плетень… Молодой месяц стоял над горой, цвели дикие сливы…
И, застенчиво улыбнувшись, взглянули на него с оплывшего, багрового лица знакомые, милые, давно забытые глаза, и осветилось это лицо отблеском того вечного света, который шел от Зорьки. Погонщик хихикал и грязною рукою вытирал слезы на гноящихся своих глазах. И казалось ему, — не умел он ценить того, что у него было, и по собственной вине сделал свою жизнь серою и безрадостною.
Это был он, который первым крикнул на всю площадь:
— Да будет Единорог Трижды-Венчанным!
1919
14
Викентий Вересаев
Легенда
Эту легенду мне когда-то рассказал путешественник-англичанин.
Однажды пароход заночевал из-за туманов близ острова Самоа. Толпа веселых, подвыпивших моряков съехала на берег. Вошли в лес, стали разводить костер. Нарезали сучьев, срубили и свалили кокосовое дерево, чтобы сорвать орехи. Вдруг они услышали в темноте кругом тихие стоны и оханья. Жуть их взяла. Всю ночь моряки не спали и жались к костру. И всю ночь вокруг них раздавался судорожный какой-то шорох, вздохи и стоны.
А когда рассвело, они увидели вот что. Из ствола и из пня срубленной пальмы сочилась кровь, стояли красные лужи. Оборванные лианы корчились на земле, как перерезанные змеи. Из обрубленных сучьев капали алые капли. Это был священный лес. В Самоа есть священные леса, деревья в них живые, у них есть душа, в волокнах бежит кровь. В таком лесу туземцы не позволяют себе сорвать ни листочка.
Веселые моряки не погибли. Они воротились на пароход. Но всю остальную жизнь они никогда уже больше не улыбались.
Мне представляется: наша жизнь– это такой же священный лес. Мы входим в него так себе, чтобы развлечься, позабавиться. А кругом все живет, все чувствует глубоко и сильно. Мы ударим топором, ждем – побежит бесцветный, холодный сок, а начинает хлестать красная, горячая кровь… Как все это сложно, глубоко и таинственно! Да, в жизнь нужно входить не веселым гулякою, как в приятную рощу, а с благоговейным трепетом, как в священный лес, полный жизни и тайны.
15
Рэй Брэдбери. Улыбка
————————————————————————
Ray Bradbury. The Smile.
————————————————————————
На главной площади очередь установилась еще в пять часов, когда за
выбеленными инеем полями пели далекие петухи и нигде не было огней. Тогда
вокруг, среди разбитых зданий, клочьями висел туман, но теперь, в семь
утра, рассвело, и он начал таять. Вдоль дороги по-двое, по-трое
подстраивались к очереди еще люди, которых приманил в город праздник и
базарный день.
Мальчишка стоял сразу за двумя мужчинами, которые громко разговаривали
между собой, и в чистом холодном воздухе звук голосов казался вдвое
громче.
Мальчишка притопывал на месте и дул на свои красные, в цыпках, руки,
поглядывая то на грязную, из грубой мешковины, одежду соседей, то на
длинный ряд мужчин и женщин впереди.
— Слышь, парень, ты-то что здесь делаешь в такую рань? — сказал человек
за его спиной.
— Это мое место, я тут очередь занял, — ответил мальчик.
— Бежал бы ты, мальчик, отсюда, уступил бы свое место тому, кто знает в
этом толк!
— Оставь в покое парня, — вмешался, резко обернувшись, один из мужчин,
стоящих впереди.
— Я же пошутил. — Задний положил руку на голову мальчишки. Мальчик
угрюмо стряхнул ее. — Просто подумал, чудно это-ребенок, такая рань а он
не спит.
— Этот парень знает толк в искусстве, ясно? — сказал заступник, его
фамилия была Григсби. — Тебя как звать-то, малец?
— Том.
— Наш Том, уж он плюнет что надо, в самую точку-верно. Том?
— Точно!
Смех покатился по шеренге людей.
Впереди кто-то продавал горячий кофе в треснувших чашках. Поглядев
туда. Том увидел маленький жаркий костер и бурлящее варево в ржавой
кастрюле. Это был не настоящий кофе. Его заварили из каких-то ягод,
собранных на лугах за городом, и продавали по пенни чашка, согреть
желудок» но мало кто покупал, мало кому это было по карману.
Том устремил взгляд туда, где очередь пропадала за разваленной взрывом
каменной стеной.
— Говорят, она _улыбается_, — сказал мальчик.
— Ага, улыбается, — ответил Григсби.
— Говорят, она сделана из краски и холста.
— Точно. Потому-то и сдается мне, что она не подлинная. Та, настоящая,
— я слышал — была на доске нарисована, в незапамятные времена.
— Говорят, ей четыреста лет.
— Если не больше. Коли. уж на то пошло, никому не известно, какой
сейчас год.
— Две тысячи шестьдесят первый!
— Верно, так говорят, парень, говорят. Брешут. А может, трехтысячный!
Или пятитысячный! Почем мы можем знать? Сколько времени одна сплошная
катавасия была… И достались нам только рожки да ножки.
Они шаркали ногами, медленно продвигаясь вперед по холодным камням
мостовой.
— Скоро мы ее увидим? — уныло протянул Том.
— Еще несколько минут, не больше. Они огородили ее, повесили на четырех
латунных столбиках бархатную веревку, все честь по чести, чтобы люди не
подходили слишком близко. И учти, Том, никаких камней, они запретили
бросать в нее камни.
— Ладно, сэр.
Солнце поднималось все выше по небосводу, неся тепло, и мужчины
сбросили с себя измазанные дерюги и грязные шляпы.
— А зачем мы все тут собрались? — спросил, подумав, Том. — Почему мы
должны плевать?
Тригсби и не взглянул на него, он смотрел на солнце, соображая, который
час.
— Э, Том, причин уйма. — Он рассеянно протянул руку к карману, которого
уже давно не было, за несуществующей сигаретой. Том видел это движение
миллион раз. — Тут все дело в ненависти, ненависти ко всему, что связано с
Прошлым. Ответь-ка ты мне, как мы дошли до такого состояния? Города—труды
развалин, дороги от бомбежек-словно пила, вверх-вниз, поля по ночам
светятся, радиоактивные… Вот и скажи, Том, что это, если не последняя
подлость?
— Да, сэр, конечно.
— То-то и оно… Человек ненавидит то, что его сгубило, что ему жизнь
поломало. Так уж он устроен. Неразумно, может быть но такова человеческая
природа.
— А если хоть кто-нибудь или что-нибудь, чего бы мы не ненавидели? —
сказал Том.
— Во-во! А все эта орава идиотов, которая заправляла миром в Прошлом!
Вот и стоим здесь с самого утра, кишки подвело, стучим от холода
зубами-ядовитые троглодиты, ни покурить, ни выпить, никакой тебе утехи,
кроме этих наших праздников. Том. Наших праздников…
Том мысленно перебрал праздники, в которых участвовал за последние
годы. Вспомнил, как рвали и жгли книги на площади, и все смеялись, точно
пьяные. А праздник науки месяц тому назад, когда притащили в город
последний автомобиль, потом бросили жребий, и счастливчики могли по одному
разу долбануть машину кувалдой!..
— Помню ли я, Том? Помню ли? Да ведь я же разбил переднее
стекло-стекло, слышишь? господи, звук-то какой был, прелесть! Тррахх!
Том и впрямь словно услышал, как стекло рассыпается сверкающими
осколками.
— А Биллу Гендерсону досталось мотор раздолбать. Эх, и лихо же он это
сработал, прямо мастерски. Бамм! Но лучше всего, — продолжал вспоминать
Григсби, — было в тот раз, когда громили завод, который еще пытался
выпускать самолеты. И отвели же мы душеньку! А потом нашли типографию и
склад боеприпасов-и взорвали их вместе! Представляешь себе. Том? — —
Том подумал.
— Ага.
Полдень. Запахи разрушенного города отравляли жаркий воздух, что-то
копошилось среди обломков зданий.
— Сэр, это больше никогда не вернется?
— Что-цивилизация? А кому она нужна? Во всяком случае не мне!
— А я так готов ее терпеть, — сказал один из очереди. — Не все,
конечно, но были и в ней свои хорошие стороны…
— Чего зря болтать-то! — крикнул Григсби. — Все равно впустую.
— Э, — упорствовал один из очереди, — не торопитесь. Вот увидите: еще
появится башковитый человек, который ее подлатает. Попомните мои слова.
Человек с душой.
— Не будет того, сказал — Григсби.
— А я говорю, появится. Человек, у которого душа лежит к красивому. Он
вернет нам-нет, не старую, а, так сказать, ограниченную цивилизацию,
такую, чтобы мы могли жить мирно.
— Не успеешь и глазом моргнуть, как опять война!
— Почему же? Может, на этот раз все будет иначе. Наконец и они вступили
на главную площадь. Одновременно в город въехал верховой; держа в руке
листок бумаги, Огороженное пространство было в самом центре площади. Том,
Григсби и все остальные, копя слюну, подвигались вперед — шли,
изготовившись, предвкушая, с расширившимися зрачками. Сердце Тома билось
часто-часто, и земля жгла его босые пятки.
— Ну, Том, сейчас наша очередь, не зевай! — По углам огороженной
площадки стояло четверо полицейских-четверо мужчин с желтым шнурком на
запястьях, знаком их власти над остальными. Они должны были следить за
тем, чтобы не бросали камней.
— Это для того, — уже напоследок объяснил Григсби, — чтобы каждому
досталось плюнуть по разку, понял, Том? Ну, давай!
Том замер перед картиной, глядя на нее.
— Ну, плюй же!
У мальчишки пересохло во рту.
— Том, давай! Живее!
— Но, — медленно произнес Том, — она же красивая!
— Ладно, я плюну за тебя!
Плевок Григсби блеснул в лучах солнца. Женщина на картине улыбалась
таинственно-печально, и Том, отвечая на ее взгляд, чувствовал, как
колотится его сердце, а в ушах будто звучала музыка.
— Она красивая, — повторил он.
— Иди уж, пока полиция…
— Внимание!
Очередь притихла. Только что они бранили Тома — стал как пень! — а
теперь все повернулись к верховому.
— Как ее звать, сэр? — тихо спросил Том.
— Картину-то? Кажется, «Мона Лиза»… Точно: «Мона Лиза».
— Слушайте объявление, — сказал верховой. — Власти постановили, что
сегодня в полдень портрет на площади будет передан в руки здешних жителей,
дабы они могли принять участие в уничтожении…
Том и ахнуть не успел, как толпа, крича, толкаясь, мечась, понесла его
к картине. Резкий звук рвущегося холста… Полицейские бросились наутек.
Толпа выла, и руки клевали портрет, словно голодные птицы. Том
почувствовал, как его буквально швырнули сквозь разбитую раму. Слепо
подражая остальным, он вытянул руку, схватил клочок лоснящегося холста,
дернул и упал, а толчки и пинки вышибли его из толпы на волю. Весь в
ссадинах, одежда разорвана, он смотрел, как старухи жевали куски холста,
как мужчины разламывали раму, поддавали ногой жесткие лоскуты, рвали их в
мелкие-мелкие клочья.
Один Том стоял притихший в стороне от этой свистопляски. Он глянул на
свою руку. Она судорожно притиснула к груди кусок холста, пряча его.
— Эй, Том, ты что же! — крикнул Григсби. Не говоря ни слова,
всхлипывая. Том побежал прочь. За город, на испещренную воронками дорогу,
через поле, через мелкую речушку, он бежал и бежал, не оглядываясь, и
сжатая в кулак рука была спрятана под куртку.
На закате он достиг маленькой деревушки и пробежал через нее. В девять
часов он был у разбитого здания фермы. За ней, в том, что осталось от
силосной башни, под навесом, его встретили звуки, которые сказали ему, что
семья спит-спит мать, отец, брат. Тихонько, молча, он скользнул в узкую
дверь и лег, часто дыша.
— Том? — раздался во мраке голос матери.
— Да.
— Где ты болтался? — рявкнул отец. — Погоди, вот я тебе утром всыплю…
Кто-то пнул его ногой. Его собственный брат, которому пришлось сегодня
в одиночку трудиться на их огороде.
— Ложись! — негромко прикрикнула на него мать.
Еще пинок.
Том дышал уже ровнее. Кругом царила тишина. Рука его была плотно-плотно
прижата к груди. Полчаса лежал он так, зажмурив глаза.
Потом ощутил что-то: холодный белый свет. Высоко в небе плыла луна, и
маленький квадратик света полз по телу Тома. Только теперь его рука
ослабила хватку. Тихо, осторожно, прислушиваясь к движениям спящих, Том
поднял ее. Он помедлил, глубоко-глубоко вздохнул, потом, весь ожидание,
разжал пальцы и разгладил клочок закрашенного холста.
Мир спал, освещенный луной.
А на его ладони лежала Улыбка.
Он смотрел на нее в белом свете, который падал с полуночного неба. И
тихо повторял про себя, снова и снова: «Улыбка, чудесная улыбка…»
Час спустя он все еще видел ее, даже после того как осторожно сложил ее
и спрятал. Он закрыл глаза, и снова во мраке перед ним — Улыбка. Ласковая,
добрая, она была Там и тогда, когда он уснул, а мир был объят безмолвием,
и луна плыла в холодном небе сперва вверх, потом вниз, навстречу утру.
16
МИХАИЛ ЗОЩЕНКО
ОБЕЗЬЯНИЙ ЯЗЫК
Трудный этот русский язык, дорогие граждане! Беда, какой трудный.
Главная причина в том, что иностранных слов в нём до чёрта. Ну, взять французскую речь. Всё хорошо и понятно. Кескёсе, мерси, комси — всё, обратите ваше внимание, чисто французские, натуральные, понятные слова.
А нуте-ка, сунься теперь с русской фразой — беда. Вся речь пересыпана словами с иностранным, туманным значением.
От этого затрудняется речь, нарушается дыхание и треплются нервы.
Я вот на днях слышал разговор. На собрании было. Соседи мои разговорились.
Очень умный и интеллигентный разговор был, но я, человек без высшего образования, понимал ихний разговор с трудом и хлопал ушами.
Началось дело с пустяков.
Мой сосед, не старый ещё мужчина, с бородой, наклонился к своему соседу слева и вежливо спросил:
— А что, товарищ, это заседание пленарное будет али как?
— Пленарное,— небрежно ответил сосед.
— Ишь ты,— удивился первый,— то-то я и гляжу, что такое? Как будто оно и пленарное.
— Да уж будьте покойны,— строго ответил второй.— Сегодня сильно пленарное и кворум такой подобрался — только держись.
— Да ну? — спросил сосед.— Неужели и кворум подобрался?
— Ей-богу,— сказал второй.
— И что же он, кворум-то этот?
— Да ничего,— ответил сосед, несколько растерявшись.— Подобрался, и всё тут.
— Скажи на милость,— с огорчением покачал головой первый сосед.— С чего бы это он, а?
Второй сосед развёл руками и строго посмотрел на собеседника, потом добавил с мягкой улыбкой:
— Вот вы, товарищ, небось, не одобряете эти пленарные заседания… А мне как-то они ближе. Всё как-то, знаете ли, выходит в них минимально по существу дня… Хотя я, прямо скажу, последнее время отношусь довольно перманентно к этим собраниям. Так, знаете ли, индустрия из пустого в порожнее.
— Не всегда это,— возразил первый.— Если, конечно, посмотреть с точки зрения. Вступить, так сказать, на точку зрения и оттеда, с точки зрения, то да — индустрия конкретно.
— Конкретно фактически,— строго поправил второй.
— Пожалуй,— согласился собеседник.— Это я тоже допущаю. Конкретно фактически. Хотя как когда…
— Всегда,— коротко отрезал второй.— Всегда, уважаемый товарищ. Особенно, если после речей подсекция заварится минимально. Дискуссии и крику тогда не оберёшься…
На трибуну взошёл человек и махнул рукой. Всё смолкло. Только соседи мои, несколько разгорячённые спором, не сразу замолчали. Первый сосед никак не мог помириться с тем, что подсекция заваривается минимально. Ему казалось, что подсекция заваривается несколько иначе.
На соседей моих зашикали. Соседи пожали плечами и смолкли. Потом первый сосед снова наклонился ко второму и тихо спросил:
— Это кто ж там такой вышедши?
— Это? Да это президиум вышедши. Очень острый мужчина. И оратор первейший. Завсегда остро говорит по существу дня.
Оратор простёр руку вперёд и начал речь.
И когда он произносил надменные слова с иностранным, туманным значением, соседи мои сурово кивали головами. Причём второй сосед строго поглядывал на первого, желая показать, что он всё же был прав в только что законченном споре.
Трудно, товарищи, говорить по-русски!
1925
17
Анна Ахматова — Мужество: Стих
Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова,
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки.
18
Одухотворённые люди
Автор:Андрей Платонов
http://detectivebooks.ru/book/9456890/?page=1
19
Андрей Платонов
ЮШКА
Давно, в старинное время, жил у нас на улице старый на вид человек. Он работал в кузнице при большой московской дороге; он работал подручным помощником у главного кузнеца, потому что он плохо видел глазами и в руках у него мало было силы. Он носил в кузницу воду, песок и уголь, раздувал мехом горн, держал клещами горячее железо на наковальне, когда главный кузнец отковывал его, вводил лошадь в станок, чтобы ковать ее, и делал всякую другую работу, которую нужно было делать. Звали его Ефимом, но все люди называли его Юшкой. Он был мал ростом и худ; на сморщенном лице его, вместо усов и бороды, росли по отдельности редкие седые волосы; глаза же у него были белые, как у слепца, и в них всегда стояла влага, как неостывающие слезы.Юшка жил на квартире у хозяина кузницы, на кухне. Утром он шел в кузницу, а вечером шел обратно на ночлег. Хозяин кормил его за работу хлебом, щами и кашей, а чай, сахар и одежда у Юшки были свои; он их должен покупать за свое жалованье — семь рублей и шестьдесят копеек в месяц. Но Юшка чаю не пил и сахару не покупал, он пил воду, а одежду носил долгие годы одну и ту же без смены: летом он ходил в штанах и в блузе, черных и закопченных от работы, прожженных искрами насквозь, так что в нескольких местах видно было его белое тело, и босой, зимою же он надевал поверх блузы еще полушубок, доставшийся ему от умершего отца, а ноги обувал в валенки, которые он подшивал с осени, и носил всякую зиму всю жизнь одну и ту же пару.Когда Юшка рано утром шел по улице в кузницу, то старики и старухи подымались и говорили, что вон Юшка уж работать пошел, пора вставать, и будили молодых. А вечером, когда Юшка проходил на ночлег, то люди говорили, что пора ужинать и спать ложиться — вон и Юшка уж спать пошел.А малые дети и даже те, которые стали подростками, они, увидя тихо бредущего старого Юшку, переставали играть на улице, бежали за Юшкой и кричали:— Вон Юшка идет! Вон Юшка!Дети поднимали с земли сухие ветки, камешки, сор горстями и бросали в Юшку.— Юшка! — кричали дети. — Ты правда Юшка?Старик ничего не отвечал детям и не обижался на них; он шел так же тихо, как прежде, и не закрывал своего лица, в которое попадали камешки и земляной сор.Дети удивлялись Юшке, что он живой, а сам не серчает на них. И они снова окликали старика:— Юшка, ты правда или нет?Затем дети снова бросали в него предметы с земли, подбегали к нему, трогали его и толкали, не понимай, почему он не поругает их, не возьмет хворостину и не погонится за ними, как все большие люди делают. Дети не знали другого такого человека, и они думали — вправду ли Юшка живой? Потрогав Юшку руками или ударив его, они видели, что он твердый и живой.Тогда дети опять толкали Юшку и кидали в него комья земли, — пусть он лучше злится, раз он вправду живет на свете. Но Юшка шел и молчал. Тогда сами дети начинали серчать на Юшку. Им было скучно и нехорошо играть, если Юшка всегда молчит, не пугает их и не гонится за ними. И они еще сильнее толкали старика и кричали вкруг него, чтоб он отозвался им злом и развеселил их. Тогда бы они отбежали от него и в испуге, в радости снова бы дразнили его издали и звали к себе, убегая затем прятаться в сумрак вечера, в сени домов, в заросли садов и огородов. Но Юшка не трогал их и не отвечал им.Когда же дети вовсе останавливали Юшку или делали ему слишком больно, он говорил им:— Чего вы, родные мои, чего вы, маленькие!.. Вы, должно быть, любите меня!.. Отчего я вам всем нужен?.. Обождите, не надо меня трогать, вы мне в глаза землей попали, я не вижу.Дети не слышали и не понимали его. Они по-прежнему толкали Юшку и смеялись над ним. Они радовались тому, что с ним можно все делать, что хочешь, а он им ничего не делает.Юшка тоже радовался. Он знал, отчего дети смеются над ним и мучают его. Он верил, что дети любят его, что он нужен им, только они не умеют любить человека и не знают, что делать для любви, и поэтому терзают его.Дома отцы и матери упрекали детей, когда они плохо учились или не слушались родителей: «Вот ты будешь такой же, как Юшка! — Вырастешь, и будешь ходить летом босой, а зимой в худых валенках, и все тебя будут мучить, и чаю с сахаром не будешь пить, а одну воду!»Взрослые пожилые люди, встретив Юшку на улице, тоже иногда обижали его. У взрослых людей бывало злое горе или обида, или они были пьяными, тогда сердце их наполнялось лютой яростью. Увидев Юшку, шедшего в кузницу или ко двору на ночлег, взрослый человек говорил ему:— Да что ты такой блажно́й, непохожий ходишь тут? Чего ты думаешь такое особенное?Юшка останавливался, слушал и молчал в ответ.— Слов у тебя, что ли, нету, животное такое! Ты живи просто и честно, как я живу, а тайно ничего не думай! Говори, будешь так жить, как надо? Не будешь? Ага!.. Ну ладно!И после разговора, во время которого Юшка молчал, взрослый человек убеждался, что Юшка во всем виноват, и тут же бил его. От кротости Юшки взрослый человек приходил в ожесточение и бил его больше, чем хотел сначала, и в этом зле забывал на время свое горе.Юшка потом долго лежал в пыли на дороге. Очнувшись, он вставал сам, а иногда за ним приходила дочь хозяина кузницы, она подымала его и уводила с собой.— Лучше бы ты умер, Юшка, — говорила хозяйская дочь. — Зачем ты живешь?Юшка глядел на нее с удивлением. Он не понимал, зачем ему умирать, когда он родился жить.— Это отец-мать меня родили, их воля была, — отвечал Юшка, — мне нельзя помирать, и я отцу твоему в кузне помогаю.— Другой бы на твое место нашелся, помощник какой!— Меня, Даша, народ любит!Даша смеялась.— У тебя сейчас кровь на щеке, а на прошлой неделе тебе ухо разорвали, а ты говоришь — народ тебя любит!..— Он меня без понятия любит, — говорил Юшка. — Сердце в людях бывает слепое.— Сердце-то в них слепое, да глаза у них зрячие! — произносила Даша. — Иди скорее, что ль! Любят-то они по сердцу, да бьют тебя по расчету.— По расчету они на меня серчают, это правда, — соглашался Юшка. — Они мне улицей ходить не велят и тело калечат.— Эх ты, Юшка, Юшка! — вздыхала Даша. — А ты ведь, отец говорил, нестарый еще!— Какой я старый!.. Я грудью с детства страдаю, это я от болезни на вид оплошал и старым стал…По этой своей болезни Юшка каждое лето уходил от хозяина на месяц. Он уходил пешим в глухую дальнюю деревню, где у него жили, должно быть, родственники. Никто не знал, кем они ему приходились.Даже сам Юшка забывал, и в одно лето он говорил, что в деревне у него живет вдовая сестра, а в другое, что там племянница. Иной раз он говорил, что идет в деревню, а в иной, что в самоё Москву. А люди думали, что в дальней деревне живет Юшкина любимая дочь, такая же незлобная и лишняя людям, как отец.В июне или августе месяце Юшка надевал на плечи котомку с хлебом и уходил из нашего города. В пути он дышал благоуханием трав и лесов, смотрел на белые облака, рождающиеся в небе, плывущие и умирающие в светлой воздушной теплоте, слушал голос рек, бормочущих на каменных перекатах, и больная грудь Юшки отдыхала, он более не чувствовал своего недуга — чахотки. Уйдя далеко, где было вовсе безлюдно, Юшка не скрывал более своей любви к живым существам. Он склонялся к земле и целовал цветы, стараясь не дышать на них, чтоб они не испортились от его дыхания, он гладил кору на деревьях и подымал с тропинки бабочек и жуков, которые пали замертво, и долго всматривался в их лица, чувствуя себя без них осиротевшим. Но живые птицы пели в небе, стрекозы, жуки и работящие кузнечики издавали в траве веселые звуки, и поэтому на душе у Юшки было легко, в грудь его входил сладкий воздух цветов, пахнущих влагой и солнечным светом.По дороге Юшка отдыхал. Он садился в тень подорожного дерева и дремал в покое и тепле. Отдохнув, отдышавшись в поле, он не помнил более о болезни и шел весело дальше, как здоровый человек. Юшке было сорок лет от роду, но болезнь давно уже мучила его и состарила прежде времени, так что он всем казался ветхим.И так каждый год уходил Юшка через поля, леса и реки в дальнюю деревню или в Москву, где его ожидал кто-то или никто не ждал, — об этом никому в городе не было известно.Через месяц Юшка обыкновенно возвращался обратно в город и опять работал с утра до вечера в кузнице. Он снова начинал жить по-прежнему, и опять дети и взрослые, жители улицы, потешались над Юшкой, упрекали его за безответную глупость и терзали его.Юшка смирно жил до лета будущего года, а среди лета надевал котомку за плечи, складывал в отдельный мешочек деньги, что заработал и накопил за год, всего рублей сто, вешал тот мешочек себе за пазуху на грудь и уходил неизвестно куда и неизвестно к кому.Но год от году Юшка все более слабел, потому шло и проходило время его жизни и грудная болезнь мучила его тело и истощала его. В одно лето, когда Юшке уже подходил срок отправляться в свою дальнюю деревню, он никуда не пошел. Он брел, как обычно вечером, уже затемно из кузницы к хозяину на ночлег. Веселый прохожий, знавший Юшку, посмеялся над ним:— Чего ты землю нашу топчешь, божье чучело! Хоть бы ты помер, что ли, может, веселее бы стало без тебя, а то я боюсь соскучиться…И здесь Юшка осерчал в ответ — должно быть, первый раз в жизни.— А чего я тебе, чем я вам мешаю!.. Я жить родителями поставлен, я по закону родился, я тоже всему свету нужен, как и ты, без меня тоже, значит, нельзя…Прохожий, не дослушав Юшку, рассердился на него:— Да ты что! Ты чего заговорил? Как ты смеешь меня, самого меня с собой равнять, юрод негодный!— Я не равняю, — сказал Юшка, — а по надобности мы все равны…— Ты мне не мудруй! — закричал прохожий. — Я сам помудрей тебя! Ишь, разговорился, я тебя выучу уму!Замахнувшись, прохожий с силой злобы толкнул Юшку в грудь, и тот упал навзничь.— Отдохни, — сказал прохожий и ушел домой пить чай.Полежав, Юшка повернулся вниз лицом и более не пошевелился и не поднялся.Вскоре проходил мимо один человек, столяр из мебельной мастерской. Он окликнул Юшку, потом переложил его на спину и увидел во тьме белые открытые неподвижные глаза Юшки. Рот его был черен; столяр вытер уста Юшки ладонью и понял, что это была спекшаяся кровь. Он опробовал еще место, где лежала голова Юшки лицом вниз, и почувствовал, что земля там была сырая, ее залила кровь, хлынувшая горлом из Юшки.— Помер, — вздохнул столяр. — Прощай, Юшка, и нас всех прости. Забраковали тебя люди, а кто тебе судья!..Хозяин кузницы приготовил Юшку к погребению. Дочь хозяина Даша омыла тело Юшки, и его положили на стол в доме кузнеца. К телу умершего пришли проститься с ним все люди, старые и малые, весь народ, который знал Юшку и потешался над ним и мучил его при жизни.Потом Юшку похоронили и забыли его. Однако без Юшки жить людям стало хуже. Теперь вся злоба и глумление оставались среди людей и тратились меж ними, потому что не было Юшки, безответно терпевшего всякое чужое зло, ожесточение, насмешку и недоброжелательство.Снова вспомнили про Юшку лишь глубокой осенью. В один темный непогожий день в кузницу пришла юная девушка и спросила у хозяина-кузнеца: где ей найти Ефима Дмитриевича?— Какого Ефима Дмитриевича? — удивился кузнец. — У нас такого сроду тут и не было.Девушка, выслушав, не ушла, однако, и молча ожидала чего-то. Кузнец поглядел на нее: что за гостью ему принесла непогода. Девушка на вид была тщедушна и невелика ростом, но мягкое чистое лицо ее было столь нежно и кротко, а большие серые глаза глядели так грустно, словно они готовы были вот-вот наполниться слезами, что кузнец подобрел сердцем, глядя на гостью, и вдруг догадался:— Уж не Юшка ли он? Так и есть — по паспорту он писался Дмитричем…— Юшка, — прошептала девушка. — Это правда. Сам себя он называл Юшкой.Кузнец помолчал.— А вы кто ему будете? — Родственница, что ль?— Я никто. Я сиротой была, а Ефим Дмитриевич поместил меня, маленькую, в семейство в Москве, потом отдал в школу с пансионом… Каждый год он приходил проведывать меня и приносил деньги на весь год, чтоб я жила и училась. Теперь я выросла, я уже окончила университет, а Ефим Дмитриевич в нынешнее лето не пришел меня проведать. Скажите мне, где же он, — он говорил, что работал у вас двадцать пять лет…— Половина полвека прошло, состарились вместе, — сказал кузнец.Он закрыл кузницу и повел гостью на кладбище. Там девушка припала к земле, в которой лежал мертвый Юшка, человек, кормивший ее с детства, никогда не евший сахара, чтоб она ела его.Она знала, чем болел Юшка, и теперь сама окончила ученье на врача и приехала сюда, чтобы лечить того, кто ее любил больше всего на свете и кого она сама любила всем теплом и светом своего сердца…С тех пор прошло много времени. Девушка-врач осталась навсегда в нашем городе. Она стала работать в больнице для чахоточных, она ходила по домам, где были туберкулезные больные, и ни с кого не брала платы за свой труд. Теперь она сама уже тоже состарилась, однако по-прежнему весь день она лечит и утешает больных людей, не утомляясь утолять страдание и отдалять смерть от ослабевших. И все ее знают в городе, называя дочерью доброго Юшки, позабыв давно самого Юшку и то, что она не приходилась ему дочерью.
20
Катаев Валентин
Флаг
Валентин Петрович КАТАЕВ
ФЛАГ
Рассказ
Несколько шиферных крыш виднелось в глубине острова. Над ними подымался узкий треугольник кирхи с черным прямым крестом, врезанным в пасмурное небо.
Безлюдным казался каменистый берег. Море на сотни миль вокруг казалось пустынным. Но это было не так.
Иногда далеко в море показывался слабый силуэт военного корабля или транспорта. И в ту же минуту бесшумно и легко, как во сне, как в сказке, отходила в сторону одна из гранитных глыб, открывая пещеру. Снизу в пещере плавно поднимались три дальнобойных орудия. Они поднимались выше уровня моря, выдвигались вперед и останавливались. Три ствола чудовищной длины сами собой поворачивались, следуя за неприятельским кораблем, как за магнитом. На толстых стальных срезах, в концентрических желобах блестело тугое зеленое масло.
В казематах, выдолбленных глубоко в скале, помещались небольшой гарнизон форта и все его хозяйство. В тесной нише, отделенной от кубрика фанерной перегородкой, жили начальник гарнизона форта и его комиссар.
Они сидели на койках, вделанных в стену. Их разделял столик. На столике горела электрическая лампочка. Она отражалась беглыми молниями в диске вентилятора. Сухой ветер шевелил ведомости. Карандашик катался по карте, разбитой на квадраты. Это была карта моря. Только что командиру доложили, что в квадрате номер восемь замечен вражеский эсминец. Командир кивнул головой.
Простыни слепящего оранжевого огня вылетали из орудий. Три залпа подряд потрясли воду и камень. Воздух туго ударил в уши. С шумом чугунного шара, пущенного по мрамору, снаряды уходили один за другим вдаль. А через несколько мгновений эхо принесло по воде весть о том, что они разорвались.
Командир и комиссар молча смотрели друг на друга. Все было понятно без слов: остров со всех сторон обложен: коммуникации порваны; больше месяца горсточка храбрецов защищает осажденный форт от беспрерывных атак с моря и воздуха; бомбы с яростным постоянством бьют в скалы; торпедные катера и десантные шлюпки шныряют вокруг; враг хочет взять остров штурмом. Но гранитные скалы стоят непоколебимо; тогда враг отступает далеко в море; собравшись с силами и перестроившись, он снова бросается на штурм; он ищет слабое место и не находит его.
Но время шло.
Боеприпасов и продовольствия становилось все меньше. Погреба пустели. Часами командир и комиссар просиживали над ведомостями. Они комбинировали, сокращали. Они пытались оттянуть страшную минуту. Но развязка приближалась. И вот она наступила.
— Ну? — сказал наконец комиссар.
— Вот тебе и ну, — сказал командир. — Все.
— Тогда пиши.
Командир, не торопясь, открыл вахтенный журнал, посмотрел на часы и записал аккуратным почерком: «20 октября. Сегодня с утра вели огонь из всех орудий. В 17 часов 45 минут произведен последний залп. Снарядов больше нет. Запас продовольствия на одни сутки».
Он закрыл журнал — эту толстую бухгалтерскую книгу, прошнурованную и скрепленную сургучной печатью, подержал его некоторое время на ладони, как бы определяя его вес, и положил на полку.
— Такие-то дела, комиссар, — сказал он без улыбки.
В дверь постучали.
— Войдите.
Дежурный в глянцевитом плаще, с которого текла вода, вошел в комнату. Он положил на стол небольшой алюминиевый цилиндрик.
— Вымпел?
— Точно.
— Кем сброшен?
— Немецким истребителем.
Командир отвинтил крышку, засунул в цилиндр два пальца и вытащил бумагу, свернутую трубкой. Он прочитал ее и нахмурился. На пергаментном листке крупным, очень разборчивым почерком, зелеными ализариновыми чернилами было написано следующее:
«Господин коммандантий совецки форт и батареи. Вы есть окружени зовсех старон. Вы не имеет больше боевых припаси и продукты. Во избегания напрасни кровопролити предлагаю вам капитулирование. Условия: весь гарнизон форта зовместно коммандантий и командиры оставляют батареи форта полный сохранность и порядок и без оружия идут на площадь возле кирха там сдаваться. Ровно в 6.00 часов по среднеевропейски время на вершина кирхе должен есть быть бели флаг. За это я обещаю вам подарить жизнь. Противни случай смерть. Здавайтесь.
Командир немецки десант контр-адмирал
ф о н Э в е р ш а р п».
Командир протянул условия капитуляции комиссару. Комиссар прочел и сказал дежурному:
— Хорошо. Идите.
Дежурный вышел.
— Они хотят видеть флаг на кирхе, — сказал командир задумчиво.
— Да, — сказал комиссар.
— Они его увидят, — сказал командир, надевая шинель. — Большой флаг на кирхе. Как ты думаешь, комиссар, они заметят его? Надо, чтобы они его непременно приметили. Надо, чтобы он был как можно больше. Мы успеем?
— У нас есть время, — сказал комиссар, отыскивая фуражку. — Впереди ночь. Мы не опоздаем. Мы успеем его сшить. Ребята поработают. Он будет громадный. За это я тебе ручаюсь.
Они обнялись и поцеловались в губы, командир и комиссар. Они поцеловались крепко, по-мужски, чувствуя на губах вкус обветренной, горькой кожи. Они поцеловались первый раз в жизни. Они торопились. Они знали, что времени для этого больше никогда не будет.
Комиссар вошел в кубрик и приподнял с тумбочки бюст Ленина. Он вытащил из-под него плюшевую малиновую салфетку. Затем он встал на табурет и снял со стены кумачовую полосу с лозунгом.
Всю ночь гарнизон форта шил флаг, громадный флаг, который едва помещался на полу кубрика. Его шили большими матросскими иголками и суровыми матросскими нитками из кусков самой разнообразной красной материи, из всего, что нашлось подходящего в матросских сундучках.
Незадолго до рассвета флаг размером, по крайней мере, в шесть простынь был готов.
Тогда моряки в последний раз побрились, надели чистые рубахи и один за другим, с автоматами на шее и карманами, набитыми патронами, стали выходить по трапу наверх.
На рассвете в каюту фон Эвершарпа постучался вахтенный начальник. Фон Эвершарп не спал. Он лежал, одетый, на койке. Он подошел к туалетному столику, посмотрел на себя в зеркало, вытер одеколоном мешки под глазами. Лишь после этого он разрешил вахтенному начальнику войти. Вахтенный начальник был взволнован. Он с трудом сдерживал дыханье, поднимая для приветствия руку.
— Флаг на кирхе? — отрывисто спросил фон Эвершарп, играя витой, слоновой кости, рукояткой кинжала.
— Так точно. Они сдаются.
— Хорошо, — сказал фон Эвершарп. — Вы принесли мне превосходную весть. Я вас не забуду. Отлично. Свистать всех наверх.
Через минуту он стоял, расставив ноги, на боевой рубке. Только что рассвело. Это был темный ветреный рассвет поздней осени. В бинокль фон Эвершарп увидел на горизонте маленький гранитный остров. Он лежал среди серого, некрасивого моря. Угловатые волны с диким однообразием повторяли форму прибрежных скал. Море казалось высеченным из гранита.
Над силуэтом рыбачьего поселка подымался узкий треугольник кирхи с черным прямым крестом, врезанным в пасмурное небо. Большой флаг развевался на шпиле. В утренних сумерках он был совсем темный, почти черный.
— Бедняги, — сказал фон Эвершарп, — им, вероятно, пришлось отдать все свои простыни, чтобы сшить такой большой белый флаг. Ничего не поделаешь. Капитуляция имеет свои неудобства.
Он отдал приказ.
Флотилия десантных шлюпок и торпедных катеров направилась к острову. Остров вырастал, приближался. Теперь уже простым глазом можно было рассмотреть кучку моряков, стоявших на площади возле кирхи.
В этот миг показалось малиновое солнце. Оно повисло между небом и водой, верхним краем уйдя в длинную дымчатую тучу, а нижним касаясь зубчатого моря. Угрюмый свет озарил остров. Флаг на кирхе стал красным, как раскаленное железо.
— Черт возьми, это красиво, — сказал фон Эвершарп, — солнце хорошо подшутило над большевиками. Оно выкрасило белый флаг в красный цвет. Но сейчас мы опять заставим его побледнеть.
Ветер гнал крупную зыбь. Волны били в скалы. Отражая удары, скалы звенели, как бронза. Тонкий звон дрожал в воздухе, насыщенном водяной пылью. Волны отступали в море, обнажая мокрые валуны. Собравшись с силами и перестроившись, они снова бросались на приступ. Они искали слабое место, они врывались в узкие извилистые промоины. Они просачивались в глубокие трещины. Вода булькала, стеклянно журчала, шипела. И вдруг, со всего маху ударившись в незримую преграду, с пушечным выстрелом вылетала обратно, взрываясь целым гейзером кипящей розовой пыли.
Десантные шлюпки выбросились на берег. По грудь в пенистой воде, держа над головой автоматы, прыгая по валунам, скользя, падая и снова подымаясь, бежали немцы к форту. Вот они уже на скале. Вот они уже спускаются в открытые люки батарей.
Фон Эвершарп стоял, вцепившись пальцами в поручни боевой рубки. Он не отрывал глаз от берега. Он был восхищен. Его лицо подергивали судороги.
— Вперед, мальчики, вперед!
И вдруг подземный взрыв чудовищной силы потряс остров. Из люков полетели вверх окровавленные клочья одежды и человеческие тела. Скалы наползали одна на другую, раскалывались. Их корежило, поднимало на поверхность из глубины, из недр острова, и с поверхности спихивало в открывшиеся провалы, где грудами обожженного металла лежали механизмы взорванных орудий.
Морщина землетрясения прошла по острову.
— Они взрывают батареи! — крикнул фон Эвершарп. — Они нарушили условия капитуляции! Мерзавцы!
В эту минуту солнце медленно вошло в тучу. Туча поглотила его. Красный свет, мрачно озарявший остров и море, померк. Все вокруг стало монотонного гранитного цвета. Все — кроме флага на кирхе. Фон Эвершарп подумал, что он сходит с ума. Вопреки всем законам физики, громадный флаг на кирхе продолжал оставаться красным. На сером фоне пейзажа его цвет стал еще интенсивней. Он резал глаза. Тогда фон Эвершарп понял все. Флаг никогда не был белым. Он всегда был красным. Он не мог быть иным. Фон Эвершарп забыл, с кем он воюет. Это не был оптический обман. Не солнце обмануло фон Эвершарпа. Он обманул сам себя.
Фон Эвершарп отдал новое приказание.
Эскадрильи бомбардировщиков, штурмовиков, истребителей поднялись в воздух. Торпедные катера, эсминцы и десантные шлюпки со всех сторон ринулись на остров. По мокрым скалам карабкались новые цепи десантников. Парашютисты падали на крыши рыбачьего поселка, как тюльпаны. Взрывы рвали воздух в клочья.
И посреди этого ада, окопавшись под контрфорсами кирхи, тридцать советских моряков выставили свои автоматы и пулеметы на все четыре стороны света — на юг, на восток, на север и на запад. Никто из них в этот страшный последний час не думал о жизни. Вопрос о жизни был решен. Они знали, что умрут. Но, умирая, они хотели уничтожить как можно больше врагов. В этом состояла боевая задача. И они выполнили ее до конца. Они стреляли точно и аккуратно. Ни один выстрел не пропал даром. Ни одна граната не была брошена зря. Сотни немецких трупов лежали на подступах к кирхе.
Но силы были слишком неравны.
Осыпаемые осколками кирпича и штукатурки, выбитыми разрывными пулями из стен кирхи, с лицами, черными от копоти, залитыми потом и кровью, затыкая раны ватой, вырванной из подкладки бушлатов, тридцать советских моряков падали один за другим, продолжая стрелять до последнего вздоха.
Над ними развевался громадный красный флаг, сшитый большими матросскими иголками и суровыми матросскими нитками из кусков самой разнообразной красной материи, из всего, что нашлось подходящего в матросских сундучках. Он был сшит из заветных шелковых платочков, из красных косынок, шерстяных малиновых шарфов, розовых кисетов, из пунцовых одеял, маек, даже трусов. Алый коленкоровый переплет первого тома «Истории гражданской войны» был также вшит в эту огненную мозаику.
На головокружительной высоте, среди движущихся туч, он развевался, струился, горел, как будто незримый великан-знаменосец стремительно нес его сквозь дым сражения вперед к победе.
1942
21
Старый повар. Константин Паустовский
В один из зимних вечеров 1786 года на окраине Вены в маленьком деревянном доме умирал слепой старик — бывший повар графини Тун. Собственно говоря, это был даже не дом, а ветхая сторожка, стоявшая в глубине сада. Сад был завален гнилыми ветками, сбитыми ветром. При каждом шаге ветки хрустели, и тогда начинал тихо ворчать в своей будке цепной пёс. Он тоже умирал, как и его хозяин, от старости и уже не мог лаять.
Несколько лет назад повар ослеп от жара печей. Управляющий графини поселил его с тех пор в сторожке и выдавал ему время от времени несколько флоринов.
Вместе с поваром жила его дочь Мария, девушка лет восемнадцати. Всё убранство сторожки составляли кровать, хромые скамейки, грубый стол, фаянсовая посуда, покрытая трещинами, и, наконец, клавесин — единственное богатство Марии.
Клавесин был такой старый, что струны его пели долго и тихо в ответ в ответ на все возникавшие вокруг звуки. Повар, смеясь, называл клавесин «сторожем своего дома». Никто не мог войти в дом без того, чтобы клавесин не встретил его дрожащим, старческим гулом.
Когда Мария умыла умирающего и надела на него холодную чистую рубаху, старик сказал:
— Я всегда не любил священников и монахов. Я не могу позвать исповедника, между тем мне нужно перед смертью очистить свою совесть.
— Что же делать? — испуганно спросила Мария.
— Выйди на улицу, — сказал старик, — и попроси первого встречного зайти в наш дом, чтобы исповедать умирающего. Тебе никто не откажет.
— Наша улица такая пустынная… — прошептала Мария, накинула платок и вышла.
Она пробежала через сад, с трудом открыла заржавленную калитку и остановилась. Улица была пуста. Ветер нёс по ней листья, а с тёмного неба падали холодные капли дождя.
Мария долго ждала и прислушивалась. Наконец ей показалось, что вдоль ограды идёт и напевает человек. Она сделала несколько шагов ему навстречу, столкнулась с ним и вскрикнула. Человек остановился и спросил:
— Кто здесь?
Мария схватила его за руку и дрожащим голосом передала просьбу отца.
— Хорошо, — сказал человек спокойно. — Хотя я не священник, но это всё равно. Пойдёмте.
Они вошли в дом. При свече Мария увидела худого маленького человека. Он сбросил на скамейку мокрый плащ. Он был одет с изяществом и простотой — огонь свечи поблёскивал на его чёрном камзоле, хрустальных пуговицах и кружевном жабо.
Он был ещё очень молод, этот незнакомец. Совсем по-мальчишески он тряхнул головой, поправил напудренный парик, быстро придвинул к кровати табурет, сел и, наклонившись, пристально и весело посмотрел в лицо умирающему.
— Говорите! — сказал он. — Может быть, властью, данной мне не от бога, а от искусства, которому я служу, я облегчу ваши последние минуты и сниму тяжесть с вашей души.
— Я работал всю жизнь, пока не ослеп, — прошептал старик. — А кто работает, у того нет времени грешить. Когда заболела чахоткой моя жена — её звали Мартой — и лекарь прописал ей разные дорогие лекарства и приказал кормить её сливками и винными ягодами и поить горячим красным вином, я украл из сервиза графини Тун маленькое золотое блюдо, разбил его на куски и продал. И мне тяжело теперь вспоминать об этом и скрывать от дочери: я её научил не трогать ни пылинки с чужого стола.
— А кто-нибудь из слуг графини пострадал за это? — спросил незнакомец.
— Клянусь, сударь, никто, — ответил старик и заплакал. — Если бы я знал, что золото не поможет моей Марте, разве я мог бы украсть!
— Как вас зовут? — спросил незнакомец.
— Иоганн Мейер, сударь.
— Так вот, Иоганн Мейер, — сказал незнакомец и положил ладонь на слепые глаза старика, — вы невинны перед людьми. То, что вы совершили, не есть грех и не является кражей, а, наоборот, может быть зачтено вам как подвиг любви.
— Аминь! — прошептал старик.
— Аминь! — повторил незнакомец. — А теперь скажите мне вашу последнюю волю.
— Я хочу, чтобы кто-нибудь позаботился о Марии.
— Я сделаю это. А еще чего вы хотите?
Тогда умирающий неожиданно улыбнулся и громко сказал:
— Я хотел бы ещё раз увидеть Марту такой, какой я встретил её в молодости. Увидеть солнце и этот старый сад, когда он зацветет весной. Но это невозможно, сударь. Не сердитесь на меня за глупые слова. Болезнь, должно быть, совсем сбила меня с толку.
— Хорошо, — сказал незнакомец и встал. — Хорошо, — повторил он, подошёл к клавесину и сел перед ним на табурет. — Хорошо! — громко сказал он в третий раз, и внезапно быстрый звон рассыпался по сторожке, как будто на пол бросили сотни хрустальных шариков.
— Слушайте,- сказал незнакомец. — Слушайте и смотрите.
Он заиграл. Мария вспоминала потом лицо незнакомца, когда первый клавиш прозвучал под его рукой. Необыкновенная бледность покрыла его лоб, а в потемневших глазах качался язычок свечи.
Клавесин пел полным голосом впервые за многие годы. Он наполнял своими звуками не только сторожку, но и весь сад. Старый пёс вылез из будки, сидел, склонив голову набок, и, насторожившись, тихонько помахивал хвостом. Начал идти мокрый снег, но пёс только потряхивал ушами.
— Я вижу, сударь! — сказал старик и приподнялся на кровати. — Я вижу день, когда я встретился с Мартой и она от смущения разбила кувшин с молоком. Это было зимой, в горах. Небо стояло прозрачное, как синее стекло, и Марта смеялась. Смеялась, — повторил он, прислушиваясь к журчанию струн.
Незнакомец играл, глядя в чёрное окно.
— А теперь, — спросил он, — вы видите что-нибудь?
Старик молчал, прислушиваясь.
— Неужели вы не видите, — быстро сказал незнакомец, не переставая играть, — что ночь из чёрной сделалась синей, а потом голубой, и тёплый свет уже падает откуда-то сверху, и на старых ветках ваших деревьев распускаются белые цветы. По-моему, это цветы яблони, хотя отсюда, из комнаты, они похожи на большие тюльпаны. Вы видите: первый луч упал на каменную ограду, нагрел её, и от неё поднимается пар. Это, должно быть, высыхает мох, наполненный растаявшим снегом. А небо делается всё выше, всё синее, всё великолепнее, и стаи птиц уже летят на север над нашей старой Веной.
— Я вижу всё это! — крикнул старик.
Тихо проскрипела педаль, и клавесин запел торжественно, как будто пел не он, а сотни ликующих голосов.
— Нет, сударь, — сказала Мария незнакомцу, — эти цветы совсем не похожи на тюльпаны. Это яблони распустились за одну только ночь.
— Да, — ответил незнакомец, — это яблони, но у них очень крупные лепестки.
— Открой окно, Мария, — попросил старик.
Мария открыла окно. Холодный воздух ворвался в комнату. Незнакомец играл очень тихо и медленно.
Старик упал на подушки, жадно дышал и шарил по одеялу руками. Мария бросилась к нему. Незнакомец перестал играть. Он сидел у клавесина не двигаясь, как будто заколдованный собственной музыкой.
Мария вскрикнула. Незнакомец встал и подошёл к кровати. Старик сказал, задыхаясь:
— Я видел всё так ясно, как много лет назад. Но я не хотел бы умереть и не узнать… имя. Имя!
— Меня зовут Вольфганг Амадей Моцарт, — ответил незнакомец.
Мария отступила от кровати и низко, почти касаясь коленом пола, склонилась перед великим музыкантом.
Когда она выпрямилась, старик был уже мёртв. Заря разгоралась за окнами, и в её свете стоял сад, засыпанный цветами мокрого снега.
22
Татьяна Толстая
Река Оккервиль
Когда знак зодиака менялся на Скорпиона, становилось совсем уж ветрено, темно и дождливо. Мокрый, струящийся, бьющий ветром в стекла город за беззащитным, незанавешенным, холостяцким окном, за припрятанными в межоконном холоду плавлеными сырками казался тогда злым петровским умыслом, местью огромного, пучеглазого, с разинутой пастью, зубастого царя-плотника, все догоняющего в ночных кошмарах, с корабельным топориком в занесенной длани, своих слабых, перепуганных подданных. Реки, добежав до вздутого, устрашающего моря, бросались вспять, шипящим напором отщелкивали чугунные люки и быстро поднимали водяные спины в музейных подвалах, облизывая хрупкие, разваливающиеся сырым песком коллекции, шаманские маски из петушиных перьев, кривые заморские мечи, шитые бисером халаты, жилистые ноги злых, разбуженных среди ночи сотрудников. В такие-то дни, когда из дождя, мрака, прогибающего стекла ветра вырисовывался белый творожистый лик одиночества, Симеонов, чувствуя себя особенно носатым, лысеющим, особенно ощущая свои нестарые года вокруг лица и дешевые носки далеко внизу, на границе существования, ставил чайник, стирал рукавом пыль со стола, расчищал от книг, высунувших белые язычки закладок, пространство, устанавливал граммофон, подбирая нужную по толщине книгу, чтобы подсунуть под хромой его уголок, и заранее, авансом блаженствуя, извлекал из рваного, пятнами желтизны пошедшего конверта Веру Васильевну – старый, тяжелый, антрацитом отливающий круг, не расщепленный гладкими концентрическими окружностями – с каждой стороны по одному романсу.
– Нет, не тебя! так пылко! я! люблю! – подскакивая, потрескивая и шипя, быстро вертелась под иглой Вера Васильевна; шипение, треск и кружение завивались черной воронкой, расширялись граммофонной трубой, и, торжествуя победу над Симеоновым, несся из фестончатой орхидеи божественный, темный, низкий, сначала кружевной и пыльный, потом набухающий подводным напором, восстающий из глубин, преображающийся, огнями на воде колыхающийся, – пщ-пщ-пщ, пщ-пщ-пщ, – парусом надувающийся голос, – все громче, – обрывающий канаты, неудержимо несущийся, пщ-пщ-пщ, каравеллой по брызжущей огнями ночной воде – все сильней, – расправляющий крылья, набирающий скорость, плавно отрывающийся от отставшей толщи породившего его потока, от маленького, оставшегося на берегу Симеонова, задравшего лысеющую, босую голову к гигантски выросшему, сияющему, затмевающему полнеба, исходящему в победоносном кличе голосу, – нет, не его так пылко любила Вера Васильевна, а все-таки, в сущности, только его одного, и это у них было взаимно. Х-щ-щ-щ-щ-щ-щ-щ.
Симеонов бережно снимал замолкшую Веру Васильевну, покачивал диск, обхватив его распрямленными, уважительными ладонями; рассматривал старинную наклейку: э-эх, где вы теперь, Вера Васильевна? Где теперь ваши белые косточки? И, перевернув ее на спину, устанавливал иглу, прищуриваясь на черносливовые отблески колыхающегося толстого диска, и снова слушал, томясь, об отцветших давно, щщщ, хризантемах в саду, щщщ, где они с нею встретились, и вновь, нарастая подводным потоком, сбрасывая пыль, кружева и годы, потрескивала Вера Васильевна и представала томной наядой – неспортивной, слегка полной наядой начала века, – о сладкая груша, гитара, покатая шампанская бутыль!
А тут и чайник закипал, и Симеонов, выудив из межоконья плавленый сыр или ветчинные обрезки, ставил пластинку с начала и пировал по-холостяцки, на расстеленной газете, наслаждался, радуясь, что Тамара сегодня его не настигнет, не потревожит драгоценного свидания с Верой Васильевной. Хорошо ему было в его одиночестве, в маленькой квартирке, с Верой Васильевной наедине, и дверь крепко заперта от Тамары, и чай крепкий и сладкий, и почти уже закончен перевод ненужной книги с редкого языка, – будут деньги, и Симеонов купит у одного крокодила за большую цену редкую пластинку, где Вера Васильевна тоскует, что не для нее придет весна, – романс мужской, романс одиночества, и бесплотная Вера Васильевна будет петь его, сливаясь с Симеоновым в один тоскующий, надрывный голос. О блаженное одиночество! Одиночество ест со сковородки, выуживает холодную котлету из помутневшей литровой банки, заваривает чай в кружке – ну и что? Покой и воля! Семья же бренчит посудным шкафом, расставляет западнями чашки да блюдца, ловит душу ножом и вилкой, – ухватывает под ребра с двух сторон, – душит ее колпаком для чайника, набрасывает скатерть на голову, но вольная одинокая душа выскальзывает из-под льняной бахромы, проходит ужом сквозь салфеточное кольцо и – хоп! лови-ка! она уже там, в темном, огнями наполненном магическом кругу, очерченном голосом Веры Васильевны, она выбегает за Верой Васильевной, вслед за ее юбками и веером, из светлого танцующего зала на ночной летний балкон, на просторный полукруг над благоухающим хризантемами садом, впрочем, их запах, белый, сухой и горький – это осенний запах, он уже заранее предвещает осень, разлуку, забвение, но любовь все живет в моем сердце больном, – это больной запах, запах прели и грусти, где-то вы теперь, Вера Васильевна, может быть, в Париже или Шанхае, и какой дождь – голубой парижский или желтый китайский – моросит над вашей могилой, и чья земля студит ваши белые кости? Нет, не тебя так пылко я люблю! (Рассказывайте! Конечно же, меня, Вера Васильевна!)
Мимо симеоновского окна проходили трамваи, когда-то покрикивавшие звонками, покачивавшие висячими петлями, похожими на стремена, – Симеонову все казалось, что там, в потолках, спрятаны кони, словно портреты трамвайных прадедов, вынесенные на чердак; потом звонки умолкли, слышался только перестук, лязг и скрежет на повороте, наконец, краснобокие твердые вагоны с деревянными лавками поумирали, и стали ходить вагоны округлые, бесшумные, шипящие на остановках, можно было сесть, плюхнуться на охнувшее, испускающее под тобой дух мягкое кресло и покатить в голубую даль, до конечной остановки, манившей названием: «Река Оккервиль». Но Симеонов туда никогда не ездил. Край света, и нечего там было ему делать, но не в том даже дело: не видя, не зная дальней этой, почти не ленинградской уже речки, можно было вообразить себе все, что угодно: мутный зеленоватый поток, например, с медленным, мутно плывущим в ней зеленым солнцем, серебристые ивы, тихо свесившие ветви с курчавого бережка, красные кирпичные двухэтажные домики с черепичными крышами, деревянные горбатые мостики – тихий, замедленный как во сне мир; а ведь на самом деле там наверняка же склады, заборы, какая-нибудь гадкая фабричонка выплевывает перламутрово-ядовитые отходы, свалка дымится вонючим тлеющим дымом, или что-нибудь еще, безнадежное, окраинное, пошлое. Нет, не надо разочаровываться, ездить на речку Оккервиль, лучше мысленно обсадить ее берега длинноволосыми ивами, расставить крутоверхие домики, пустить неторопливых жителей, может быть, в немецких колпаках, в полосатых чулках, с длинными фарфоровыми трубками в зубах… а лучше замостить брусчаткой оккервильские набережные, реку наполнить чистой серой водой, навести мосты с башенками и цепями, выровнять плавным лекалом гранитные парапеты, поставить вдоль набережной высокие серые дома с чугунными решетками подворотен – пусть верх ворот будет как рыбья чешуя, а с кованых балконов выглядывают настурции, поселить там молодую Веру Васильевну, и пусть идет она, натягивая длинную перчатку, по брусчатой мостовой, узко ставя ноги, узко переступая черными тупоносыми туфлями с круглыми, как яблоко, каблуками, в маленькой круглой шляпке с вуалькой, сквозь притихшую морось петербургского утра, и туман по такому случаю подать голубой.
Подать голубой туман! Туман подан, Вера Васильевна проходит, постукивая круглыми каблуками, весь специально приготовленный, удерживаемый симеоновским воображением мощеный отрезок, вот и граница декорации, у режиссера кончились средства, он обессилен, и, усталый, он распускает актеров, перечеркивает балконы с настурциями, отдает желающим решетку с узором как рыбья чешуя, сощелкивает в воду гранитные парапеты, рассовывает по карманам мосты с башенками, – карманы распирает, висят цепочки, как от дедовских часов, и только река Оккервиль, сужаясь и расширяясь, течет и никак не может выбрать себе устойчивого облика.
Симеонов ел плавленые сырки, переводил нудные книги, вечерами иногда приводил женщин, а наутро, разочарованный, выпроваживал их – нет, не тебя! – запирался от Тамары, все подступавшей с постирушками, жареной картошкой, цветастыми занавесочками на окна, все время тщательно забывавшей у Симеонова важные вещи, то шпильки, то носовой платок, – к ночи они становились ей срочно нужны, и она приезжала за ними через весь город, – Симеонов тушил свет и не дыша стоял, прижавшись к притолоке в прихожей, пока она ломилась, – и очень часто сдавался, и тогда ел на ужин горячее и пил из синей с золотом чашки крепкий чай с домашним напудренным хворостом, а Тамаре ехать назад, было, конечно, поздно, последний трамвай ушел, и до туманной речки Оккервиль ему уж тем более было не доехать, и Тамара взбивала подушки, пока Вера Васильевна, повернувшись спиной, не слушая оправданий Симеонова, уходила по набережной в ночь, покачиваясь на круглых, как яблоко, каблуках.
Осень сгущалась, когда он покупал у очередного крокодила тяжелый, сколотый с одного краешка диск, – поторговались, споря об изъяне, цена была очень уж высока, а почему? – потому что забыта напрочь Вера Васильевна, ни по радио не прозвучит, ни в викторинах не промелькнет короткая, нежная ее фамилия, и теперь только изысканные чудаки, снобы, любители, эстеты, которым охота выбрасывать деньги на бесплотное, гоняются за ее пластинками, ловят, нанизывают на штыри граммофонных вертушек, переписывают на магнитофоны ее низкий, темный, сияющий, как красное дорогое вино, голос. А ведь старуха еще жива, сказал крокодил, живет где-то в Ленинграде, в бедности, говорят, и безобразии, и недолго же сияла она и в свое-то время, потеряла бриллианты, мужа, квартиру, сына, двух любовников, и, наконец, голос, – в таком вот именно порядке, и успела с этими своими потерями уложиться до тридцатилетнего возраста, с тех и не поет, однако живехонька. Вот как, думал, отяжелев сердцем, Симеонов, и по пути домой, через мосты и сады, через трамвайные пути, все думал: вот как… И, заперев дверь, заварив чаю, поставил на вертушку купленное выщербленное сокровище, и, глядя в окно на стягивающиеся на закатной стороне тяжелые цветные тучи, выстроил, как обычно, кусок гранитной набережной, перекинул мост, – и башенки нынче отяжелели, и цепи были неподъемно чугунны, и ветер рябил и морщил, волновал широкую, серую гладь реки Оккервиль, и Вера Васильевна, спотыкаясь больше положенного на своих неудобных, придуманных Симеоновым, каблуках, заламывала руки и склоняла маленькую гладко причесанную головку к покатому плечику, – тихо, так тихо светит луна, а дума тобой роковая полна, – луна не поддавалась, мылом выскальзывала из рук, неслась сквозь рваные оккервильские тучи, – на этом Оккервиле всегда что-то тревожное с небом, – как беспокойно мечутся прозрачные, прирученные тени нашего воображения, когда сопение и запахи живой жизни проникают в их прохладный, туманный мир!
Глядя на закатные реки, откуда брала начало и река Оккервиль, уже зацветавшая ядовитой зеленью, уже отравленная живым старушечьим дыханием, Симеонов слушал спорящие голоса двух боровшихся демонов: один настаивал выбросить старуху из головы, запереть покрепче двери, изредка приоткрывая их для Тамары, жить, как и раньше жил, в меру любя, в меру томясь, внимая в минуты одиночества чистому звуку серебряной трубы, поющему над неведомой туманной рекой, другой же демон – безумный юноша с помраченным от перевода дурных книг сознанием – требовал идти, бежать, разыскать Веру Васильевну – подслеповатую, бедную, исхудавшую, сиплую, сухоногую старуху, – разыскать, склониться к ее почти оглохшему уху и крикнуть ей через годы и невзгоды, что она – одна-единственная, что ее, только ее так пылко любил он всегда, что любовь все живет в его сердце больном, что она, дивная пери, поднимаясь голосом из подводных глубин, наполняя паруса, стремительно проносясь по ночным огнистым водам, взмывая ввысь, затмевая полнеба, разрушила и подняла его – Симеонова, верного рыцаря, – и, раздавленные ее серебряным голосом, мелким горохом посыпались в разные стороны трамваи, книги, плавленые сырки, мокрые мостовые, птичьи крики, Тамары, чашки, безымянные женщины, уходящие года, вся бренность мира. И старуха, обомлев, взглянет на него полными слез глазами: как? вы знаете меня? не может быть? боже мой! неужели это кому-нибудь еще нужно! и могла ли я думать! – и, растерявшись, не будет знать, куда и посадить Симеонова, а он, бережно поддерживая ее сухой локоть и целуя уже не белую, всю в старческих пятнах руку, проводит ее к креслу, вглядываясь в ее увядшее, старинной лепки лицо. И, с нежностью и с жалостью глядя на пробор в ее слабых белых волосах, будет думать: о, как мы разминулись в этом мире! («Фу, не надо», – кривился внутренний демон, но Симеонов склонялся к тому, что надо.)
Он буднично, оскорбительно просто – за пятак – добыл адрес Веры Васильевны в уличной адресной будке; сердце стукнуло было: не Оккервиль? конечно, нет. И не набережная. Он купил хризантем на рынке – мелких, желтых, обернутых в целлофан. Отцвели уж давно. И в булочной выбрал тортик. Продавщица, сняв картонную крышку, показала выбранное на отведенной руке: годится? – но Симеонов не осознал, что берет, отпрянул, потому что за окном булочной мелькнула – или показалось? – Тамара, шедшая брать его на квартире, тепленького. Потом уж в трамвае развязал покупку, поинтересовался. Ну, ничего. Фруктовый. Прилично. Под стеклянистой желейной гладью по углам спали одинокие фрукты: там яблочный ломтик, там – угол подороже – ломтик персика, здесь застыла в вечной мерзлоте половинка сливы, и тут – угол шаловливый, дамский, с тремя вишенками. Бока присыпаны мелкой кондитерской перхотью. Трамвай тряхнуло, тортик дрогнул, и Симеонов увидел на отливавшей водным зеркалом желейной поверхности явственный отпечаток большого пальца – нерадивого ли повара, неуклюжей ли продавщицы. Ничего, старуха плохо видит. И я сразу нарежу. («Вернись, – печально качал головой демон-хранитель, – беги, спасайся».) Симеонов завязал опять, как сумел, стал смотреть на закат. Узким ручьем шумел (шумела? шумело?) Оккервиль, бился в гранитные берега, берега крошились, как песчаные, оползали в воду. У дома Веры Васильевны он постоял, перекладывая подарки из руки в руку. Ворота, в которые предстояло ему войти, были украшены поверху рыбьей узорной чешуей. За ними страшный двор. Кошка шмыгнула. Да, так он и думал. Великая забытая артистка должна жить вот именно в таком дворе. Черный ход, помойные ведра, узкие чугунные перильца, нечистота. Сердце билось. Отцвели уж давно. В моем сердце больном.
Он позвонил. («Дурак», – плюнул внутренний демон и оставил Симеонова.) Дверь распахнулась под напором шума, пения и хохота, хлынувшего из недр жилья, и сразу же мелькнула Вера Васильевна, белая, огромная, нарумяненная, черно– и густобровая, мелькнула там, за накрытым столом, в освещенном проеме, над грудой остро, до дверей пахнущих закусок, над огромным шоколадным тортом, увенчанным шоколадным зайцем, громко хохочущая, раскатисто смеющаяся, мелькнула – и была отобрана судьбой навсегда. Пятнадцать человек за столом хохотали, глядя ей в рот: у Веры Васильевны был день рождения, Вера Васильевна рассказывала, задыхаясь от смеха, анекдот. Она начала его рассказывать, еще когда Симеонов поднимался по лестнице, она изменяла ему с этими пятнадцатью, еще когда он маялся и мялся у ворот, перекладывая дефектный торт из руки в руку, еще когда он ехал в трамвае, еще когда запирался в квартире и расчищал на пыльном столе пространство для ее серебряного голоса, еще когда впервые с любопытством достал из пожелтевшего рваного конверта тяжелый, черный, отливающий лунной дорожкой диск, еще когда никакого Симеонова не было на свете, лишь ветер шевелил траву и в мире стояла тишина. Она не ждала его, худая, у стрельчатого окна, вглядываясь в даль, в стеклянные струи реки Оккервиль, она хохотала низким голосом над громоздящимся посудой столом, над салатами, огурцами, рыбой и бутылками, и лихо же пила, чаровница, и лихо же поворачивалась туда-сюда тучным телом. Она предала его. Или это он предал Веру Васильевну? Теперь поздно было разбираться.
– Еще один! – со смехом крикнул кто-то, по фамилии, как выяснилось тут же, Поцелуев. – Штрафную! – И торт с отпечатком, и цветы отобрали у Симеонова, и втиснули его за стол, заставив выпить за здоровье Веры Васильевны, здоровье, которого, как он убеждался с неприязнью, ей просто некуда было девать. Симеонов сидел, машинально улыбался, кивал головой, цеплял вилкой соленый помидор, смотрел, как и все, на Веру Васильевну, выслушивал ее громкие шутки – жизнь его была раздавлена, переехана пополам; сам дурак, теперь ничего не вернешь, даже если бежать; волшебную диву умыкнули горынычи, да она и сама с удовольствием дала себя умыкнуть, наплевала на обещанного судьбой прекрасного, грустного, лысоватого принца, не пожелала расслышать его шагов в шуме дождя и вое ветра за осенними стеклами, не пожелала спать, уколотая волшебным веретеном, заколдованная на сто лет, окружила себя смертными, съедобными людьми, приблизила к себе страшного этого Поцелуева – особо, интимно приближенного самим звучанием его фамилии, – и Симеонов топтал серые высокие дома на реке Оккервиль, крушил мосты с башенками и швырял цепи, засыпал мусором светлые серые воды, но река вновь пробивала себе русло, а дома упрямо вставали из развалин, и по несокрушимым мостам скакали экипажи, запряженные парой гнедых.
– Курить есть? – спросил Поцелуев. – Я бросил, так с собой не ношу. – И обчистил Симеонова на полпачки. – Вы кто? Поклонник-любитель? Это хорошо. Квартира своя? Ванна есть? Гут. А то тут общая только. Будете возить ее к себе мыться. Она мыться любит. По первым числам собираемся, записи слушаем. У вас что есть? «Темно-зеленый изумруд» есть? Жаль. Который год ищем, прямо несчастье какое-то. Ну нигде буквально. А эти ваши широко тиражировались, это неинтересно. Вы «Изумруд» ищите. У вас связей нет колбасы копченой доставать? Нет, ей вредно, это я так… себе. Вы цветов помельче принести не могли, что ли? Я вот розы принес, вот с мой кулак буквально. – Поцелуев близко показал волосатый кулак. – Вы не журналист, нет? Передачку бы про нее по радио, все просится Верунчик-то наш. У, морда. Голосина до сих пор как у дьякона. Дайте ваш адрес запишу. – И, придавив Симеонова большой рукой к стулу, – сидите, сидите, не провожайте, – Поцелуев выбрался и ушел, прихватив с собой симеоновский тортик с дактилоскопической отметиной.
Чужие люди вмиг населили туманные оккервильские берега, тащили свой пахнущий давнишним жильем скарб – кастрюльки и матрасы, ведра и рыжих котов, на гранитной набережной было не протиснуться, тут и пели уже свое, выметали мусор на уложенную Симеоновым брусчатку, рожали, размножались, ходили друг к другу в гости, толстая чернобровая старуха толкнула, уронила бледную тень с покатыми плечами, наступила, раздавив, на шляпку с вуалькой, хрустнуло под ногами, покатились в разные стороны круглые старинные каблуки, Вера Васильевна крикнула через стол: «Грибков передайте!» и Симеонов передал, и она поела грибков.
Он смотрел, как шевелится ее большой нос и усы под носом, как переводит она с лица на лицо большие, черные, схваченные старческой мутью глаза, тут кто-то включил магнитофон, и поплыл ее серебряный голос, набирая силу, – ничего, ничего, – думал Симеонов. Сейчас доберусь до дому, ничего. Вера Васильевна умерла, давным-давно умерла, убита, расчленена и съедена этой старухой, и косточки уже обсосаны, я справил бы поминки, но Поцелуев унес мой торт, ничего, вот хризантемы на могилу, сухие, больные, мертвые цветы, очень к месту, я почтил память покойной, можно встать и уйти.
У дверей симеоновской квартиры маялась Тамара – родная! – она подхватила его, внесла, умыла, раздела и накормила горячим. Он пообещал Тамаре жениться, но под утро, во сне, пришла Вера Васильевна, плюнула ему в лицо, обозвала и ушла по сырой набережной в ночь, покачиваясь на выдуманных черных каблуках. А с утра в дверь трезвонил и стучал Поцелуев, пришедший осматривать ванную, готовить на вечер. И вечером он привез Веру Васильевну к Симеонову помыться, курил симеоновские папиросы, налегал на бутерброды, говорил: «Да-а-а… Верунчик – это сила! Сколько мужиков в свое время ухойдакала – это ж боже мой!» А Симеонов против воли прислушивался, как кряхтит и колышется в тесном ванном корыте грузное тело Веры Васильевны, как с хлюпом и чмоканьем отстает ее нежный, тучный, налитой бок от стенки влажной ванны, как с всасывающим звуком уходит в сток вода, как шлепают по полу босые ноги, и как, наконец, откинув крючок, выходит в халате красная, распаренная Вера Васильевна: «Фу-ух. Хорошо.» Поцелуев торопился с чаем, а Симеонов, заторможенный, улыбающийся, шел ополаскивать после Веры Васильевны, смывать гибким душем серые окатыши с подсохших стенок ванны, выколупывать седые волосы из сливного отверстия. Поцелуев заводил граммофон, слышен был дивный, нарастающий, грозовой голос, восстающий из глубин, расправляющий крылья, взмывающий над миром, над распаренным телом Верунчика, пьющего чай с блюдечка, над согнувшимся в своем пожизненном послушании Симеоновым, над теплой, кухонной Тамарой, над всем, чему нельзя помочь, над подступающим закатом, над собирающимся дождем, над ветром, над безымянными реками, текущими вспять, выходящими из берегов, бушующими и затопляющими город, как умеют делать только реки.
23
Константин Георгиевич Паустовский
Степная гроза
Серый от старости деревянный дом приткнулся к склону оврага. Вверху по краю оврага шумели от весеннего ветра голые вербы, а внизу бормотал и переливался через погнутую немецкую каску мелкий ручей. Каска валялась в ручье давно, больше года, заржавела, но мальчишки со Слободки ее не трогали. Может быть, потому, что они без надобности не выходили из дому, а может быть, потому, что были теперь опытные насчет мин. Тронешь такую каску, грохнет рядом мина – и тогда «бенц»! Слово «бенц» на языке мальчишек означало всякую неожиданность, в том числе и внезапную смерть.
В доме жил старый учитель географии Иван Лукич, по прозвищу Патагонец. Прозвали его так за высокий рост и за красноватое, обветренное лицо. Иван Лукич, человек одинокий и неразговорчивый, до войны много времени проводил в лодке на Днепре – удил рыбу.
Кроме Ивана Лукича, в доме жил сейчас десятилетний Юрка, единственный сын вдового рыбака с Карантинного острова. Почти каждое лето Патагонец навещал отца Юрки – Никифора Бесперечного, ездил с ним в днепровские плавни ловить сазанов.
Перед приходом немцев Никифор отвел Юрку в Херсон, к Ивану Лукичу, сказал, что сам он, Никифор, уходит на шаланде с рыбаками на Кинбурн, будет там биться с немцами, как бились в стародавние годы с турками «вечной памяти запорожские хлопцы».
Напоследок Никифор притянул к себе Юрку, взъерошил ему волосы, сказал:
– Дожидайся тут отцовского возврата. Слухай Ивана Лукича, потому что он знает, в чем наша пропорция.
Никифор любил выражаться торжественно и туманно.
Через день после ухода Никифора Иван Лукич собрался уходить с Юркой от немцев, но пришлось остаться – не на чем было переправиться через Днепр. Лодку свою Иван Лукич отдал бойцам, а моста не было.
Немцы в Слободку заходили редко. Их не интересовали хибарки, залатанные ржавой жестью, маленькие сырые огороды. Немцы расположились в городе, рубили на дрова городской сад, насаженный еще при Екатерине, уводили в степь евреев, открыли в городском театре казино с музыкой для офицеров.
Иван Лукич и Юрка голодали. Юрка собирал по оврагу щавель – только щавелем и жили. Был еще небольшой запас пыльных сухарей и немного картошки. Ловить рыбу на Днепре немцы запретили. Иван Лукич очень от этого страдал. Огорчался и Юрка – с малых лет он привык к бою щук под крутоярами, к запаху очерета.
Днем и в городе, и на Слободке всегда бывало неспокойно. По ночам было не лучше, но Ивану Лукичу и Юрке ночи казались безопаснее, будто темнота в овраге отделяла их от немцев крепостной стеной. В сумерки Иван Лукич закладывал дверь железным засовом, завешивал окна, зажигал старинный медный ночник, ставил по сторонам его на столе тяжелые тома переплетенной «Нивы» и впервые за весь день спокойно закуривал толстую крученую папиросу из махорки, смешанной с сушеной крапивой.
Юрка сидел у стола, смотрел на комнату Ивана Лукича, и все в ней представлялось ему интересным и живым: огромный атлас Петри на столе в зеленом переплете с золотом, пыльные колбы с семенами, дубовый книжный шкаф и часы в виде швейцарского домика. Около домика стояла глиняная девушка в зеленом корсаже и красной юбке с оборками и кормила таких же глиняных белых барашков. Часы эти отставали на четыре часа в сутки. На стенах висели картины: «Переход Суворова через Сен-Готард» Сурикова, «Девятый вал» Айвазовского и портрет путешественника Миклухо-Маклая – страшно худого человека с бородой, похожего на Ивана Лукича.
Иван Лукич садился в потертое ковровое кресло, доставал из ящика письменного стола железную коробку от икры с рыболовными принадлежностями, долго рассматривал крючки, поплавки, грузила, блесны – вздыхал.
От письменного стола пахло табаком и лекарствами. В ящиках лежала стопками пожелтевшая линованная бумага, стереоскоп с видами всех европейских столиц, медный бинокль и много других приятных вещей.
С каждым месяцем этих вещей становилось меньше. Иван Лукич продавал их на маленьком базаре, барахолке, и сам удивлялся, что находились на них покупатели.
Но, несмотря на продажу вещей, Иван Лукич быстро слабел и вскоре перестал быть похожим на патагонца. Кожа на лице посерела, припухла. Иван Лукич жаловался на холод и спал, не снимая шапки.
Освобождение приближалось. С востока надвигалась Красная Армия, и Иван Лукич все чаще мерил старым циркулем карту, соображал, когда советские части дойдут до города.
Однажды ночью Иван Лукич долго не спал, ворочался, даже вставал. Было тихо. Только изредка прошумят и стихнут старые вербы или прогудит высоко над домом неизвестно чей самолет. На рассвете Иван Лукич разбудил Юрку, сказал:
– Вставай! У тебя слух лучше моего.
Юрка вскочил, подошел к окну. Утро было темное, серое. Юрка протер рукавом запотевшее стекло, прижался к нему лбом. Стекло тихонько звякнуло, и далекий, но мощный гул медленно прошел мимо дома и затих в овраге. Потом прошел второй гул, третий. На окне в деревянной плошке взошел посаженный Иваном Лукичом овес. Тоненькие его травинки наклонились к стеклу, будто тоже прислушивались к канонаде, вздрагивали.
Утром Иван Лукич ушел на базар, чтобы разузнать новости. Юрка остался один. Он сидел на теплом от солнца полу и рассматривал «Ниву» за 1907 год. Кто-то подошел к окну, постучал. Юрка закрылся томом «Нивы», осторожно выглянул из-за него. За окном стояла соседка, бабка Федосья.
Юрка открыл ей дверь. Бабка вошла, покрестилась на портрет Миклухо-Маклая, зашептала:
– Немцы тревожатся. Ходят скрозь по домам, ищут детей и родичей партизанских. Видно, тронулась их власть, и они перед концом хотят полютовать над людьми. Где Иван Лукич?
– На базаре, – шепотом ответил Юрка.
– Ну, смотри! – сказала бабка Федосья. – Все мы знаем, что ты внучек Ивана Лукича, а может, найдется на Слободке подлюга, который и больше нашего знает и расскажет немцам, кто ты есть на самом деле. Тогда убьют немцы обоих вас в первой балочке.
– А его за что? – спросил Юрка; губы его тряслись.
– За то, что сховал тебя при родном отце партизане, – ответила бабка. – Конечно, за его доброту. В степь подаваться надо вам обоим. Придет Иван Лукич, скажи ему. Тебя найдут – и его кончат. И дом спалят.
– А одного его не кончат? – спросил Юрка. – Без меня?
– Откуда я знаю! – ответила бабка. – Может, одного и не кончат. Надо думать, хлопчик, что и справди не кончат, потому не будет у них нияких доказательств. А ты – доказательство!
Бабка ушла. Юрка постоял среди комнаты, схватил свой кожушок и шапку, вышел, припер дверь палкой и побежал низом по оврагу в степь.
Степь только что начала просыхать от весенней грязи. Всюду в балках бежала вода, и желтые цветы мать-и-мачехи уже раскрывались на солнцепеке.
Юрка пробирался подальше от хуторов. К северу ушли, затерялись телеграфные столбы железной дороги на Николаев. Потом перед собой в степи он увидел людей и свернул на юг. Люди копались в земле – должно быть, рыли окопы или рвы против танков.
Остановился Юрка около старого шалаша-куреня. В курене никого не было, только валялись гнилой хворост и прошлогодние арбузные корки. Наверное, здесь был когда-то баштан, и в этом курене сидел старый сторож, такой же, как дед Лысуха на Карантинном острове.
Дед Лысуха был подслеповатый и глухой. Он ничего не видел и потому, сидя у куреня, все время покрикивал наудачу на воображаемых воров – мальчишек: «А ну, марш с баштана, голота! Вот выдерну с плетня дрючок да встану – тогда будете знать!» Крик деда на пустом баштане веселил рыбаков. «До чего старательный, – говорили они. – Кричит весь день, а у него из-под постолов хлопчики тянут дыни. Да бог с ним, пусть сторожит. Надо же старому пропитание».
Юрка подобрал сухие арбузные корки, вытер о кожушок, начал жевать. Они были твердые, как кожа, но все же их можно было разжевать в кисловатую кашицу.
Днем небо затянулось облачной скатертью, задул ветер, закачал слабую весеннюю траву. Юрка залез в шалаш, переворошил хворост, сел, засунул руки в рукава кожушка и задумался.
Что делать дальше? Вот он ушел из города, чтобы из-за него, из-за Юрки, немцы не убили Ивана Лукича, ушел и не взял ни одного сухаря, в смятении забыл про еду. «Буду тихо сидеть в курене, не двигаться, дышать носом, как советовал Иван Лукич, – думал Юрка, – а выходить только в балочку за водой. Тогда продержусь целую неделю. А за неделю, может, и выбьют наши германцев и ихних полицаев, и не успеют они меня приколоть. А как же Иван Лукич?»
Юрка начал краснеть. Жар бросился ему в щеки.
Что он подумает, Иван Лукич? Ушел, бросил его одного, старенького, напугался. Где ему догадаться, что Юрка ушел, чтобы отвести от него опасность! И записку никак нельзя было оставить: придут немцы, найдут – тогда верная смерть. Что же делать? Отец всегда говорил, что нет на свете худшего «злодеянства», как бросить своего человека в беде. В качестве примера он рассказывал историю о Казачьем кургане, где похоронены запорожцы, перебитые турками. Запорожцев выдал туркам из трусости свой же казак, и, как говорил Никифор, «того казака, что выдал товарыство, турки вбылы первого».
– И за дело вбылы, Юрка! За дело! – добавлял Никифор.
Как же быть? Побежать разве обратно в город, объяснить Ивану Лукичу, почему он, Юрка, ушел в степь…
В степи потемнело, ветер задувал все сильней. С юга, с моря нагоняло низкие тучи.
«Подожду до ночи, – решил Юрка. – Ночью вернусь в город, тогда меня никто не увидит, не схватит. И уйдем опять в степь вместе с Иваном Лукичом».
Юрка обнял колени, опустил на них голову, затих, задремал.
Очнулся он в темноте. Ветра не было. Юрка осторожно выглянул. Мгла лежала над степью, а на востоке глухо гремело – должно быть, подходила гроза. «Лишь бы дождя не было», – подумал Юрка и посмотрел на крышу куреня. Она была сложена из дерна. В темноте мутно белели дыры в тех местах, где дерн обвалился.
Далеко в степи закричал человек. Юрка задержал дыхание, прислушался. Крик повторился, но уже дальше. Человек, должно быть, ходил по степи, спотыкался, искал кого-то, звал жалобным голосом.
«Сумасшедший! – подумал Юрка. – Разве здоровый будет ходить в такую ночь по степи, кричать на верную смерть».
Юрка поднял голову, ждал. Крик не повторялся. Было опять тихо, даже гром не гремел, и Юрка слышал, как тяжело, до искр в глазах, колотится его сердце.
Может быть, сумасшедший заметил курень, замолчал и подкрадывается к нему?
Юрка вылез из куреня, пополз по сырой земле, путаясь в ботве. Кто-то, громко топая сапогами, пробежал в темноте, остановился, сказал, задыхаясь: «Вот гадюки, чтоб их громом убило!» – и побежал дальше. Еще никогда Юрка не видел такой страшной ночи.
Небо было как сажа, и все кругом было как сажа, и хоть бы одна звезда загорелась в небе!
Неожиданно мутным красным огнем вспыхнула чернота, осветился курень – он был совсем близко, – снова накатилась ночь, и такой гром ударил по земле, что у Юрки дернулась и заболела голова. Накатываясь друг на друга, торопясь и перебивая, загрохотали разрывы, зашумел ветер, засвистела дикая ночь.
Юрка вскочил и побежал в степь. Он спотыкался, падал. Что-то черное и мокрое зашумело по земле, по кожушку, и Юрка не сразу понял, что начался дождь. А с востока все чаще разверзались залпы, будто великаны разрывали небо, и за ним открывалось другое небо из угрюмого страшного пламени. Каждый раз, когда вспыхивал этот свет, Юрка видел, как косматое и зловещее солнце несется, вертясь и мигая, за пологом черных туч и гаснет тотчас, как только гаснут залпы.
Солнце как будто мчалось в вышине с яростной быстротой, но вместе с тем оставалось на месте.
«Сон, что ли?» – подумал Юрка, ударился обо что-то большое, темное и упал. «Хата, – подумал Юрка. – Вся кривая, разбитая». Он схватился за угол хаты, попал рукой в густую грязь, и под слоем грязи пальцы его наткнулись на холодную сталь. Зажегся залп, и Юрка увидел забитые глиной гусеницы танка у себя над головой. Они висели, разорванные взрывом, тяжелые и неподвижные. Пахло гарью, бензином.
Юрка шарахнулся, бросился назад, нога у него подвернулась. Он упал и услышал, как далеко в непроглядной ночи кричали сотни людей. «Сошлись!» – вскрикнул Юрка и больше уже ничего не слышал – только земля скрипела у него на зубах.
Когда он открыл глаза, над головой в чистом утреннем небе нехотя плыли, будто хотели остановиться, но не останавливались, легкие облака. На их белые верхушки нельзя было смотреть – так они светились от солнца. Хотелось лечь на край такого облака и плыть над степью.
Юрка скосил глаза, но земли не увидел. Со всех сторон медленно плыли облака, будто он лежал в воздухе, и огромное небо задумчиво вращалось вокруг него, как облачная карусель. Свиристела рядом маленькая степная птица.
Юрка поднял голову и увидел, что лежит на сухой соломе в грузовой машине. Машина стояла.
Потом над бортом машины показалась стальная каска. Юрка сжался, смотрел на каску; сердце его колотилось.
Каска медленно подымалась, и вскоре под ней появилось веснушчатое лицо бойца с выгоревшими бровями. Боец молча посмотрел на Юрку, таинственно ему подмигнул. Юрка улыбнулся.
– Ага! – сказал боец. – Итак, значит, живы-здоровы?
Юрка молчал.
– Петров! – сказал боец кому-то, кто сидел, очевидно, на земле около машины. – Похоже, что этот гражданин из колонии глухонемых.
– Не! – сказал Юрка таким сиплым голосом, что ему самому стало неловко. – Я не глухой. Я из Херсона. А вы откуда?
– Мы? – спросил боец. – Мы костромские. Прибыли в ваше расположение для организации немецкого драпа.
Глухой бас из-под машины сказал:
– С добрым утром, молодой человек. Не желаете ли консервов? Свино-бобовых?
– Здравствуйте, – тихо ответил Юрка и сел. – Я сейчас слезу.
Юрка вылез. Низко по горизонту стлался дым. Около машины сидел на куче щебня высокий бородатый боец и открывал консервную банку. Он посмотрел на Юрку и кивнул ему головой. Маленький чернявый водитель вытирал тряпкой стекла в кабине.
– Арутюн, – позвал бородатый, – иди, садись, режь хлеб. Бобы мировые.
– Я резать хлеб не могу, – ответил водитель. – Я весь горючим пропах. Около меня даже курить опасно.
Так началось знакомство Юрки с бойцами. Они рассказали ему, как подобрали его на рассвете, чуть начало синеветь над степью. А Юрка, поев консервов, осмелев, рассказал им о Никифоре, об Иване Лукиче, о том, как он, Юрка, жил в Херсоне и убежал, чтобы не подвести Ивана Лукича под немецкий расстрел. Бойцы слушали, ковыряли в жестянке ложками.
– Итак, – сказал боец в веснушках, – допросом установлено, что указанный гражданин, – боец сделал свирепое лицо и посмотрел на Юрку, – есть сын рыбака, партизанящего на Кинбурне, и воспитанник старого педагога, каковой педагог в свободное от служебных занятий время интересуется ужением рыбы на Днепре. Правильно я вас понял, молодой человек?
– Правильно, – неуверенно ответил Юрка и на всякий случай спросил: – А вы кто такие?
– Мы члены общества любителей соловьиного пения, – ответил боец с веснушками.
Юрка улыбнулся – очень забавно разговаривал веснушчатый. Но бородатый боец и водитель, должно быть, привыкли к его разговорам и продолжали ковыряться в банке с бобами, не обращая внимания на веснушчатого. Только водитель сказал:
– Брось морочить мальчику голову. Мы связисты.
– Вот что, хлопчик, – сказал бородатый боец, – ты до Херсона один не дотопаешь. Определенно не дотопаешь. Всего еще много – и мин, и одиночных немцев по степи, и черт его знает чего. Лезь в кузов! Мы поедем до моря, а оттуда Арутюн вернется в Херсон. И тебя доставит. Сговорились?
– Сговорились, – ответил Юрка. – А вам зачем к морю?
– Много будешь знать – облысеешь!
Вскоре машина тронулась. Ветер зашумел в ушах. Из-под колес на молодые травы полетели комья грязи. Чем дальше шла машина, тем сильнее дул ветер, тем громче пел веснушчатый боец незнакомую Юрке песню:
Эх, позарастали стежки-дорожки!
Юрке уже казалось, что война где-то далеко и что не было здесь никаких немцев. Казалось, может быть, потому, что бойцы ничего не говорили о войне, а может быть, потому, что машина бежала на юг, к морю, по глухой проселочной дороге, а бой шел в стороне, на западе. И если бы не толпа пленных немцев, которых вели всего два конвоира, то Юрка совсем бы позабыл о войне. Немцы были почернелые, будто копченые, и тяжело месили грязь низкими сапогами.
Машина остановилась около рыбачьей лачуги. Юрка выскочил и прищурился – широко летел в лицо разгонистый ветер, а под обрывом, совсем рядом, бежало навстречу море, разливалось зеркалами по пескам, несло соленую пыль.
Пока бойцы вытаскивали из машины связки проволоки и ящики, Юрка сбежал на берег. Волны подымались, вода просвечивала зеленым бутылочным цветом. Потом они с громом падали на песок и уходили, уволакивая голыши, медную гильзу от снаряда и мандариновую кожуру.
Вдали желтел низкий берег. Над ним расплывались в небе темные шары разрывов.
«Кинбурн, – подумал Юрка. – Там еще немцы. Должно быть, отец бьется с ними, выбивает последних, гонит прямо в Черное море дельфинам на ужин».
Водитель позвал Юрку, сказал, что пора ехать. Юрка зашел в лачугу попрощаться с бойцами. Внутри было пусто, мусорно, стояла старая лавка, и только в углу висела такая же икона, как и у них в хате на Карантинном острове: черный дед в серебряной ризе, святитель Николай из Мир Ликийских, заступник рыбацкого племени. За икону была заткнута сухая ветка вербы, а рядом на стене висела немецкая пилотка.
Веснушчатый боец подметал лачугу веником из полыни. Он сдернул пилотку со стены, бросил в печь – там уже горел огонь под котелком. Но бородатый боец вытащил пилотку щепкой, вынес и выбросил в степь.
– Кулеш, – сказал он, – дело чистое. Не годится чадить около него немецким барахлом.
Юрка поблагодарил бойцов, попрощался с ними.
– Погоди! – сказал веснушчатый. – Есть разговор.
Он вынул из вещевого мешка коробку от печенья, развязал ее, осторожно порылся в ней и протянул Юрке три раскрашенных гусиных поплавка. На одном были синие, оранжевые и желтые полосы, на другом – крошечные цветы и травы, а на третьем – множество разноцветных точек, мелких, как маковые зерна.
– Сам красил, – сказал веснушчатый. – Я тоже рыболов. Всюду с собой их таскаю. Устану – разверну их, погляжу, потрогаю, и как будто и не было утомления. Пустая вещь поплавок, а вот подумай, какая от него поддержка. Вспомнишь зарю на нашем озере, кусты, вода стоит тихая, пар над ней по утрам, журавли курлычут на болотах. Хорошо! Знаменито! И сразу у меня легче становится шаг. Один поплавок возьми себе, другой – твоему папаше, а вот этот, с цветами, – учителю твоему. Так и скажешь: от Семечкина Ивана, рыболова и бойца. В знак почтения.
Юрка спрятал поплавки в шапку и ушел сконфуженный и радостный.
В середине дня машина остановилась при въезде в город около Слободки. Юрка выскочил, попрощался с водителем и побежал к себе в овраг. Дым еще стоял над городом. В небе звенели серебряные самолеты, и Юрка видел на их крыльях маленькие красные звезды.
Юрка спустился в овраг, перескочил через ручей, увидел Слободку и остановился. Облупленные и серые слободские хаты сверкали, как снег. Женщины в подоткнутых платьях мазали стены квачами, обводили синей каймой окна, а одна – Христина, белозубая и дерзкая на язык, – даже нарисовала над каждым окном пышные пионы.
– Здоров! – крикнула Христина Юрке. – Всей Слободкой после немцев мажемся. Теперь наша Слободка – как небесный рай. И Иван Лукич мажется.
Юрка побежал к дому Ивана Лукича. Он издали увидел, как Иван Лукич стоит на табурете и мажет кистью высоко под крышей. Окна в доме впервые были открыты настежь, и только что вымытые фикусы блестели на солнце.
– Иван Лукич! – крикнул Юрка и заплакал. – Здравствуйте!
Больше он ничего не мог сказать. Иван Лукич обернулся, уронил кисть, торопливо слез с табурета, подошел к Юрке. Стекла очков Ивана Лукича были забрызганы мелом.
Иван Лукич схватил Юрку за плечи, потряс, обнял, поцеловал. И снял очки. Со стекол упало на землю несколько мутных от мела капель. Иван Лукич вытер глаза, сказал:
– Жив! Голодный небось, как волчонок? Еще бы не голодный! Ты зачем удрал? Думаешь, я не знаю. Я, брат, все знаю и одобряю. Завтра партизаны возвращаются с Кинбурна, Никифор приедет, а ты замурзанный, как галчонок. Пойдем! Переоденешься, чай сейчас вскипит.
Иван Лукич снова потряс Юрку за плечи и повел в дом. В комнатах было весело, пахло чистотой, весной, вымытыми полами. На полу около окна дрались из-за червяка два взъерошенных воробья, тянули червяка клювами каждый к себе.
Увидев Ивана Лукича и Юрку, воробьи бросили червей и со страшным переполохом удрали в окно.
– Чертенята! – закричал Иван Лукич. – Разворовали червей.
Иван Лукич взглянул на Юрку. Юрка смеялся. Иван Лукич покраснел, пробормотал:
– Понимаешь, утром накопал целую банку подлистников. Для окуня нет лучше насадки. И, пожалуй, даже для леща. Так… впрок накопал.
Тогда Юрка достал из шапки два раскрашенных поплавка и протянул Ивану Лукичу.
– Это вам от одного бойца-рыболова, – сказал он. – От Семечкина Ивана. В знак почтения!
Иван Лукич взял поплавки, осторожно провел по ним пальцем, улыбнулся:
– Спасибо! Это – на счастье. Такой поплавок будет плавать в днепровской воде, как цветок с каких-нибудь Гавайских островов. Значит, двинем после чая на Днепр, Юрка. Удочки у меня в полном порядке.
– Двинем, Иван Лукич, – ответил Юрка.
За окнами весело перекликались женщины, пела Христина, кричали воробьи. От распускавшихся верб пахло нагретой корой, и хороводом ходили над городом и днепровским разливом, сверкая в небесной голубизне, серебряные самолеты.
24
Дмитрий Быков
Девочка со спичками даёт прикурить
https://www.litmir.me/br/?b=260080&p=1
25
Антон Чехов
«БАРАН И БАРЫШНЯ»
«БАРАН И БАРЫШНЯ»
На сытой, лоснящейся физиономии милостивого государя была написана смертельнейшая скука. Он только что вышел из объятий послеобеденного Морфея и не знал, что ему делать. Не хотелось ни думать, ни зевать… Читать надоело еще в незапамятные времена, в театр еще рано, кататься лень ехать… Что делать? Чем бы развлечься?
— Барышня какая-то пришла! — доложил Егор. — Вас спрашивает!
— Барышня? Гм… Кто же это? Всё одно, впрочем, — проси…
В кабинет тихо вошла хорошенькая брюнетка, одетая просто… даже очень просто. Она вошла и поклонилась.
— Извините, — начала она дрожащим дискантом. — Я, знаете ли… Мне сказали, что вас… вас можно застать только в шесть часов… Я… я… дочь надворного советника Пальцева…
— Очень приятно! Сссадитесь! Чем могу быть полезен? Садитесь, не стесняйтесь!
— Я пришла к вам с просьбой… — продолжала барышня, неловко садясь и теребя дрожащими руками свои пуговки. — Я пришла… попросить у вас билет для бесплатного проезда на родину. Вы, я слышала, даете… Я хочу ехать, а у меня… я небогата… Мне от Петербурга до Курска…
— Гм… Так-с… А для чего вам в Курск ехать? Здесь нешто не нравится?
— Нет, здесь нравится, но, знаете ли… родители. Я к родителям. Давно уж у них не была… Мама, пишут, больна…
— Гм… Вы здесь служите или учитесь?
Барышня рассказала, где и у кого она служила, сколько получала жалованья, много ли было работы…
— Так… Служили… Да-с, нельзя сказать, чтоб ваше жалованье было велико… Нельзя сказать… Негуманно было бы не давать вам бесплатного билета… Гм… К родителям едете, значит… Ну, а небось в Курске и амурчик есть, а? Амурашка? Хе, хе, хо… Женишок? Покраснели? Ну, что ж! Дело хорошее… Езжайте себе. Вам уж пора замуж… А кто он?
— В чиновниках…
— Дело хорошее… Езжайте в Курск… Говорят, что уже в ста верстах от Курска пахнет щами и ползают тараканы… Хе, хе, хо… Небось, скука в этом Курске? Да вы скидайте шляпу! Вот так, не стесняйтесь! Егор, дай нам чаю! Небось, скучно в этом… ммм… как его… Курске?
Барышня, не ожидавшая такого ласкового приема, просияла и описала милостивому государю все курские развлечения… Она рассказала, что у нее есть брат-чиновник, дядя-учитель, кузены-гимназисты… Егор подал чай… Барышня робко потянулась за стаканом и, боясь чамкать, начала бесшумно глотать… Милостивый государь глядел на нее и ухмылялся… Он уж не чувствовал скуки…
— Ваш жених хорош собой? — спросил он. — А как вы с ним сошлись?
Барышня конфузливо ответила на оба вопроса. Она доверчиво подвинулась к милостивому государю и, улыбаясь, рассказала, как здесь, в Питере, сватались к ней женихи и как она им отказала… Говорила она долго. Кончила тем, что вынула из кармана письмо от родителей и прочла его милостивому государю. Пробило восемь часов.
— А у вашего отца неплохой почерк… С какими он закорючками пишет! Хе, хе… Но, однако, мне пора… В театре уж началось… Прощайте, Марья Ефимовна!
— Так я могу надеяться? — спросила барышня, поднимаясь.
— На что-с?
— На то, что вы мне дадите бесплатный билет…
— Билет? Гм… У меня нет билетов! Вы, должно быть, ошиблись, сударыня… Хе, хе, хе… Вы не туда попали, не на тот подъезд… Рядом со мной, подлинно, живет какой-то железнодорожник, а я в банке служу-с! Егор, вели заложить! Прощайте, ma chere {дорогая (франц.)} Марья Семеновна! Очень рад… рад очень…
Барышня оделась и вышла… У другого подъезда ей сказали, что он уехал в половине восьмого в Москву.
26
Рэй Брэдбери
Всё лето в один день
— Готовы?
— Да!
— Уже?
— Скоро!
— А ученые верно знают? Это правда будет сегодня?
— Смотри, смотри, сам видишь!
Теснясь, точно цветы и сорные травы в саду, все вперемешку, дети старались выглянуть наружу — где там запрятано солнце? Лил дождь. Он лил не переставая семь лет подряд; тысячи и тысячи дней, с утра до ночи, без передышки дождь лил, шумел, барабанил, звенел хрустальными брызгами, низвергался сплошными потоками, так что кругом ходили волны, заливая островки суши. Ливнями повалило тысячи лесов, и тысячи раз они вырастали вновь и снова падали под тяжестью вод. Так навеки повелось здесь, на Венере, а в классе было полно детей, чьи отцы и матери прилетели застраивать и обживать эту дикую дождливую планету.
— Перестает! Перестает!
— Да, да!
Марго стояла в стороне от них, от всех этих ребят, которые только и знали, что вечный дождь, дождь, дождь. Им всем было по девять лет, и если выдался семь лет назад такой день, когда солнце все-таки выглянуло, показалось на час изумленному миру, они этого не помнили. Иногда по ночам Марго слышала, как они ворочаются, вспоминая, и знала: во сне они видят и вспоминают золото, яркий желтый карандаш, монету — такую большую, что можно купить целый мир. Она знала, им чудится, будто они помнят тепло, когда вспыхивает лицо и все тело — руки, ноги, дрожащие пальцы. А потом они просыпаются — и опять барабанит дождь, без конца сыплются звонкие прозрачные бусы на крышу, на дорожку, на сад и лес, и сны разлетаются как дым.
Накануне они весь день читали в классе про солнце. Какое оно желтое, совсем как лимон, и какое жаркое. И писали про него маленькие рассказы и стихи.
Мне кажется, солнце — это цветок,
Цветет оно только один часок.
Такие стихи сочинила Марго и негромко прочитала их перед притихшим классом. А за окнами лил дождь.
— Ну, ты это не сама сочинила! — крикнул один мальчик.
— Нет, сама, — сказала Марго, — Сама.
— Уильям! — остановила мальчика учительница.
Но то было вчера. А сейчас дождь утихал, и дети теснились к большим окнам с толстыми стеклами.
— Где же учительница?
— Сейчас придет.
— Скорей бы, а то мы все пропустим!
Они вертелись на одном месте, точно пестрая беспокойная карусель. Марго одна стояла поодаль. Она была слабенькая, и казалось, когда-то давно она заблудилась и долго-долго бродила под дождем, и дождь смыл с нее все краски: голубые глаза, розовые губы, рыжие волосы — все вылиняло. Она была точно старая поблекшая фотография, которую вынули из забытого альбома, и все молчала, а если и случалось ей заговорить, голос ее шелестел еле слышно. Сейчас она одиноко стояла в сторонке и смотрела на дождь, на шумный мокрый мир за толстым стеклом.
— Ты-то чего смотришь? — сказал Уильям. Марго молчала.
— Отвечай, когда тебя спрашивают!
Уильям толкнул ее. Но она не пошевелилась; покачнулась — и только. Все ее сторонятся, даже и не смотрят на нее. Вот и сейчас бросили ее одну. Потому что она не хочет играть с ними в гулких туннелях того города-подвала. Если кто-нибудь осалит ее и кинется бежать, она только с недоумением поглядит вслед, но догонять не станет. И когда они всем классом поют песни о том, как хорошо жить на свете и как весело играть в разные игры, она еле шевелит губами. Только когда поют про солнце, про лето, она тоже тихонько подпевает, глядя в заплаканные окна.
Ну а самое большое ее преступление, конечно, в том, что она прилетела сюда с Земли всего лишь пять лет назад, и она помнит солнце, помнит, какое оно, солнце, и какое небо она видела в Огайо, когда ей было четыре года. А они — они всю жизнь живут на Венере; когда здесь в последний раз светило солнце, им было только по два года, и они давно уже забыли, какое оно, и какого цвета, и как жарко греет. А Марго помнит.
— Оно большое, как медяк, — сказала она однажды и зажмурилась.
— Неправда! — закричали ребята.
— Оно — как огонь в очаге, — сказала Марго.
— Врешь, врешь, ты не помнишь! — кричали ей.
Но она помнила и, тихо отойдя в сторону, стала смотреть в окно, по которому сбегали струи дождя. А один раз, месяц назад, когда всех повели в душевую, она ни за что не хотела стать под душ и, прикрывая макушку, зажимая уши ладонями, кричала — пускай вода не льется на голову! И после того у нее появилось странное, смутное чувство: она не такая, как все. И другие дети тоже это чувствовали и сторонились ее.
Говорили, что на будущий год отец с матерью отвезут ее назад на Землю — это обойдется им во много тысяч долларов, но иначе она, видимо, зачахнет. И вот за все эти грехи, большие и малые, в классе ее невзлюбили. Противная эта Марго, противно, что она такая бледная немочь, и такая худющая, и вечно молчит и ждет чего-то, и, наверно, улетит на Землю…
— Убирайся! — Уильям опять ее толкнул. — Чего ты еще ждешь?
Тут она впервые обернулась и посмотрела на него. И по глазам было видно, чего она ждет. Мальчишка взбеленился.
— Нечего тебе здесь торчать! — закричал он. — Не дождешься, ничего не будет! Марго беззвучно пошевелила губами.
— Ничего не будет! — кричал Уильям. — Это просто для смеха, мы тебя разыграли. Он обернулся к остальным. — Ведь сегодня ничего не будет, верно?
Все поглядели на него с недоумением, а потом поняли, и засмеялись, и покачали головами: верно, ничего не будет!
— Но ведь… — Марго смотрела беспомощно. — Ведь сегодня тот самый день, — прошептала она. — Ученые предсказывали, они говорят, они ведь знают… Солнце…
— Разыграли, разыграли! — сказал Уильям и вдруг схватил ее.
— Эй, ребята, давайте запрем ее в чулан, пока учительницы нет!
— Не надо, — сказала Марго и попятилась.
Все кинулись к ней, схватили и поволокли, — она отбивалась, потом просила, потом заплакала, но ее притащили по туннелю в дальнюю комнату, втолкнули в чулан и заперли дверь на засов. Дверь тряслась: Марго колотила в нее кулаками и кидалась на нее всем телом. Приглушенно доносились крики. Ребята постояли, послушали, а потом улыбнулись и пошли прочь — и как раз вовремя: в конце туннеля показалась учительница.
— Готовы, дети? — она поглядела на часы.
— Да! — отозвались ребята.
— Все здесь?
— Да!
Дождь стихал. Они столпились у огромной массивной двери. Дождь перестал. Как будто посреди кинофильма про лавины, ураганы, смерчи, извержения вулканов что-то случилось со звуком, аппарат испортился, — шум стал глуше, а потом и вовсе оборвался, смолкли удары, грохот, раскаты грома… А потом кто-то выдернул пленку и на место ее вставил спокойный диапозитив — мирную тропическую картинку. Все замерло — не вздохнет, не шелохнется. Такая настала огромная, неправдоподобная тишина, будто вам заткнули уши или вы совсем оглохли. Дети недоверчиво подносили руки к ушам. Толпа распалась, каждый стоял сам по себе. Дверь отошла в сторону, и на них пахнуло свежестью мира, замершего в ожидании.
И солнце явилось. Оно пламенело, яркое, как бронза, и оно было очень большое. А небо вокруг сверкало, точно ярко-голубая черепица. И джунгли так и пылали в солнечных лучах, и дети, очнувшись, с криком выбежали в весну.
— Только не убегайте далеко! — крикнула вдогонку учительница. Помните, у вас всего два часа. Не то вы не успеете укрыться!
Но они уже не слышали, они бегали и запрокидывали голову, и солнце гладило их по щекам, точно теплым утюгом; они скинули куртки, и солнце жгло их голые руки.
— Это получше наших искусственных солнц, верно?
— Ясно, лучше!
Они уже не бегали, а стояли посреди джунглей, что сплошь покрывали Венеру и росли, росли бурно, непрестанно, прямо на глазах. Джунгли были точно стая осьминогов, к небу пучками тянулись гигантские щупальца мясистых ветвей, раскачивались, мгновенно покрывались цветами — ведь весна здесь такая короткая. Они были серые, как пепел, как резина, эти заросли, оттого что долгие годы они не видели солнца. Они были цвета камней, и цвета сыра, и цвета чернил, и были здесь растения цвета луны.
Ребята со смехом кидались на сплошную поросль, точно на живой упругий матрац, который вздыхал под ними, и скрипел, и пружинил. Они носились меж деревьев, скользили и падали, толкались, играли в прятки и в салки, но главное — опять и опять, жмурясь, глядели на солнце, пока не потекут слезы, и тянули руки к золотому сиянию и к невиданной синеве, и вдыхали эту удивительную свежесть, и слушали, слушали тишину, что обнимала их словно море, блаженно спокойное, беззвучное и недвижное. Они на все смотрели и всем наслаждались. А потом, будто зверьки, вырвавшиеся из глубоких нор, снова неистово бегали кругом, бегали и кричали. Целый час бегали и никак не могли угомониться. И вдруг… Посреди веселой беготни одна девочка громко, жалобно закричала. Все остановились. Девочка протянула руку ладонью кверху.
— Смотрите, сказала она и вздрогнула. — Ой, смотрите!
Все медленно подошли поближе. На раскрытой ладони, по самой середке, лежала большая круглая дождевая капля. Девочка посмотрела на нее и заплакала. Дети молча посмотрели на небо.
— О-о…
Редкие холодные капли упали на нос, на щеки, на губы. Солнце затянула туманная дымка. Подул холодный ветер. Ребята повернулись и пошли к своему дому-подвалу, руки их вяло повисли, они больше не улыбались.
Загремел гром, и дети в испуге, толкая друг дружку, бросились бежать, словно листья, гонимые ураганом. Блеснула молния — за десять миль от них, потом за пять, в миле, в полумиле. И небо почернело, будто разом настала непроглядная ночь. Минуту они постояли на пороге глубинного убежища, а потом дождь полил вовсю. Тогда дверь закрыли, и все стояли и слушали, как с оглушительным шумом рушатся с неба тонны, потоки воды — без просвета, без конца.
— И так опять будет целых семь лет?
— Да. Семь лет. И вдруг кто-то вскрикнул:
— А Марго?
— Что?
— Мы ведь ее заперли, она так и сидит в чулане.
— Марго…
Они застыли, будто ноги у них примерзли к полу. Переглянулись и отвели взгляды. Посмотрели за окно — там лил дождь, лил упрямо, неустанно. Они не смели посмотреть друг другу в глаза. Лица у всех стали серьезные, бледные. Все потупились, кто разглядывал свои руки, кто уставился в пол.
— Марго…
Наконец одна девочка сказала:
— Ну что же мы?…
Никто не шелохнулся.
— Пойдем… — прошептала девочка.
Под холодный шум дождя они медленно прошли по коридору. Под рев бури и раскаты грома перешагнули порог и вошли в ту дальнюю комнату, яростные синие молнии озаряли их лица. Медленно подошли они к чулану и стали у двери.
За дверью было тихо. Медленно, медленно они отодвинули засов и выпустили Марго.
27
Виктория Токарева
Инструктор по плаванию
https://www.litmir.me/br/?b=71493&p=1
28
Б. Екимов. «Говори, мама, говори»
По утрам звонил телефон — мобильник. Черная коробочка оживала: загорался в ней свет, пела веселая музыка и объявлялся голос дочери, словно рядом она:
— Мама, здравствуй! Ты в порядке? Молодец! Вопросы и пожелания? Замечательно! Тогда целую. Будь-будь!
Коробочка тухла, смолкала. Старая Катерина дивилась на нее, не могла привыкнуть. Такая вроде малость — спичечный коробок. Никаких проводов. Лежит-лежит — и вдруг заиграет, засветит, и голос дочери:
-Мама, здравствуй! Ты в порядке? Не надумала ехать? Гляди… Вопросов нет? Целую. Будь — будь!
А ведь до города, где дочь живет, полторы сотни верст. И не всегда легких, особенно в непогоду.
Но в тот год осень выдалась долгая, теплая. Возле хутора, на окрестных курганах, порыжела трава, а тополевое да вербовое займище возле Дона стояло зеленым, и по дворам по-летнему зеленели груши да вишни, хотя по времени им давно пора отгореть рдяным да багровым тихим пожаром.
Птичий перелет затянулся. Неспешно уходила на юг казарка, вызванивая где-то в туманистом, ненастном небе негромкое онг-онг… онг-онг…
Да что о птице говорить, если бабка Катерина, иссохшая, горбатенькая от возраста, но еще проворная старушка, никак не могла собраться в отъезд.
Кидаю умом, не накину… — жаловалась она соседке. — Ехать, не ехать?.. А может, так и будет тепло стоять? Гутарят по радио: навовсе поломалась погода. Ныне ведь Пост пошел, а сороки ко двору не прибились. Тепло-растепло. Туды-сюды… Рождество да Крещенье. А там пора об рассаде думать. Чего зря и ехать, колготу разводить.
Соседка лишь вздыхала: до весны, до рассады было еще ох как далеко.
Но старая Катерина, скорее себя убеждая, вынимала из-за пазухи еще один довод — мобильный телефон.
Мобила! — горделиво повторяла она слова городского внука.- Одно слово — мобила. Нажал кнопку, и враз — Мария. Другую нажал — Коля. Кому хочешь, жалься. И чего нам не жить? — вопрошала она. — Зачем уезжать? Хату кидать, хозяйство…
Этот разговор был не первый. С детьми толковала, с соседкой, но чаще сама с собой.
Последние годы она уезжала зимовать к дочери в город, дело — возраст: трудно всякий день печку топить да воду носить из колодца. По грязи да в гололед. Упадешь, расшибешься. И кто поднимет?
Хутор, еще недавно людный, с кончиной колхоза разошелся, разъехался, вымер. Остались лишь старики да пьянь. И хлеб не возят, про остальное не говоря. Тяжело старому человеку зимовать. Вот и уезжала к своим.
Но с хутором, с гнездом насиженным нелегко расставаться. Куда девать малую живность: Тузика, кошку да кур? Распихивать по людям?.. И о хате душа болит. Пьянчуги залезут, последние кастрю — лешки упрут. Да и не больно весело на старости лет новые углы обживать. Хоть и родные дети; но стены чужие и вовсе другая жизнь. Гостюй да оглядывайся.
Вот и думала: ехать.., не ехать?.. А тут еще телефон привезли на подмогу — «мобилу». Долго объясняли про кнопки: какие нажимать, а какие не трогать. Обычно звонила дочь из города, по утрам.
Запоет веселая музыка, вспыхнет в коробочке свет. Поначалу старой Катерине казалось, что там, словно в малом, но телевизоре, появится лицо дочери. Объявлялся лишь голос, далекий и ненадолго:
— Мама, здравствуй! Ты в порядке? Молодец. Вопросы есть? Вот и хорошо. Целую. Будь-будь.
Не успеешь опомниться, а уже свет потух, коробочка смолкла.
Снова миновал день, за ним — другой. Старой женщины жизнь катилась привычно: подняться, прибраться, выпустить на волю кур; покормить да напоить свою малую живность да и самой чего поклевать. А потом пойдет цеплять дело за дело. Не зря говорится: хоть и дом невелик, а сидеть не велит.
Просторное подворье, которым когда-то кормилась немалая семья: огород, картофельник, левада. Сараи, закуты, курятник. Летняя кухня-мазанка, погреб с выходом. Плетневая городьба, забор. Земля, которую нужно копать помаленьку, пока тепло. И дровишки пилить, ширкая ручною пилой на забазье. Уголек нынче стал дорогущий, его не укупишь.
Прошел еще один день. А утром слегка подморозило. Деревья, кусты и сухие травы стояли в легком куржаке — белом пушистом инее. Старая Катерина, выйдя во двор, глядела вокруг, на эту красоту, радуясь, а надо бы вниз, под ноги глядеть. Шла-шла, запнулась, упала, больно ударившись о корневище.
Неловко начался день, да так и пошел не в лад.
Как всегда поутру, засветил и запел телефон мобильный.
— Здравствуй, моя доча, здравствуй. Одно лишь звание, что — живая. Я нынче так вдарилась,- пожаловалась она.- Не то нога подыграла, а может, склизь. Где, где… — подосадовала она. — Во дворе. Воротца пошла отворять, с ночи. Атама, возля ворот, там грушина-черномяска. Ты ее любишь. Она сладимая. Я из нее вам компот варю. Иначе бы я ее давно ликвидировала. Возля этой грушины…
Мама,- раздался в телефоне далекий голос, конкретней говори, что случилось, а не про сладимую грушину.
А я тебе о чем и толкую. Тама корень из земли вылез, как змеюка. А я шла, не глядела. Да тут еще глупомордая кошка под ноги суется. Этот корень… Летось Володю просила до скольких разов: убери его Христа ради. Он на самом ходу. Черномяска…
— Мама, говори, пожалуйста, конкретней. О себе, а не о черномяске. Не забывай, что это — мобильник, тариф. Что болит? Ничего не сломала?
Вроде бы не сломала, все поняла старая женщина.- Прикладаю капустный лист. На том и закончился с дочерью разговор. Остальное самой себе пришлось досказывать: «Чего болит, не болит… Все у меня болит, каждая косточка. Такая жизнь позади…»
В свою пору включила радио, ожидая слов о погоде. Но после короткого молчания из репродуктора донесся мягкий, ласковый голос молодой женщины:
Болят ваши косточки?..
Болят, моя доча…
Ноют руки и ноги?.. — словно угадывая и зная судьбу, спрашивал добрый голос.
Спасу нет… Молодые были, не чуяли. В доярках да в свинарках. А обувка
никакая. А потом в резиновые сапоги влезли, зимой и летом в них. Вот и нудят…
Болит ваша спина… мягко ворковал, словно завораживая, женский голос.
Заболит, моя доча… Век на горбу таскала чувалы да вахли с соломой. Как не болеть… Такая жизнь…
Жизнь ведь и вправду нелегкой выдалась: война, сиротство, тяжкая колхозная работа.
Ласковый голос из репродуктора вещал и вещал. А потом смолк.
Старая женщина даже всплакнула, ругая себя: «Овечка глупая… Чего ревешь?.. Но плакалось. И от слез вроде бы стало легче.
И тут совсем неожиданно, в обеденный неурочный час, заиграла музыка и засветил, проснувшись, мобильный телефон. Старая женщина испугалась:
Доча, доча… Чего случилось? Не заболел кто? А я всполохнулась: не к сроку звонишь. Ты на меня, доча, не держи обиду. Я знаю, что дорогой телефон, деньги большие. Но я ведь взаправду чуток не убилась. Тама, возля этой дулинки… — Она опомнилась: — Господи, опять я про эту дулинку, прости, моя доча…
Издалека, через многие километры, донесся голос дочери:
Говори, мама, говори…
Вот я и гутарю. Ныне какая-то склизь. А тут еще эта кошка… Да корень этот под ноги лезет, от грушины. Нам, старым, ныне ведь все мешает. Я бы эту грушину навовсе ликвидировала, но ты ее любишь. Запарить ее и сушить, как бывалоча… Опять я не то плету… Прости, моя доча. Ты слышишь меня?…
В далеком городе дочь ее слышала и даже видела, прикрыв глаза, старую мать свою: маленькую, согбенную, в белом платочке. Увидела, но почуяла вдруг, как все это зыбко и ненадежно: телефонная связь, видение.
— Говори, мама…- просила она и боялась лишь одного: вдруг оборвется и, может быть навсегда, этот голос и эта жизнь…
–ГОВОРИ, МАМА, ГОВОРИ….!
29
Ч. Айтматов «легенда о манкурте»
Жуаньжуаны, захватившие сарозеки в прошлые века, исключительно жестоко обращались с пленными воинами. При случае они продавали их в рабство в соседние края, и это считалось счастливым исходом для пленного, ибо проданный раб рано или поздно мог бежать на родину. Чудовищная участь ждала тех, кого жуаньжуаны оставляли у себя в рабстве. Они уничтожали память раба страшной пыткой — надеванием на голову жертвы шири. Обычно эта участь постигала молодых парней, захваченных в боях. Сначала им начисто обривалиголовы, тщательно выскабливали каждую волосинку под корень. К тому времени, когда заканчивалось бритье головы, опытные забойщики-жуаньжуаны забивали поблизости матерого верблюда. Освежевывая верблюжью шкуру, первым долгом отделяли ее тяжелую, плотную выйную часть. Поделив выю на куски, ее тут же в парном виде напяливали на обритые головы пленных вмиг прилипающими пластырями — наподобие современных плавательных шапочек. Это и означало надеть шири. Тот, кто подвергался такой процедуре, либо умирал, не выдержав пытки, либо лишался на всю жизнь памяти, превращался в манкурта — раба, не помнящего своего прошлого. После надевания шири каждого обреченного заковывали деревянной колодой, чтобы испытуемый не мог прикоснуться головой к земле. В этом виде их отвозили подальше от людных мест, чтобы не доносились понапрасну их душераздирающие крики, и бросали в открытом поле, со связанными руками и ногами, на солнцепеке, без воды и без пищи. Пытка длилась несколько суток.Брошенные в поле на мучительную пытку в большинстве своем погибали под сарозекским солнцем. В живых оставались один или два манкурта из пяти-шести. Погибали они не от голода и даже не от жажды, а от невыносимых, нечеловеческих мук, причиняемых усыхающей кожей. Неумолимо сокращаясь под лучами палящего солнца, шири стискивало, сжимало бритую голову раба подобно железному обручу. Уже на вторые сутки начинали прорастать обритые волосы мучеников. Жесткие и прямые азиатские волосы иной раз врастали в сыромятную кожу, в большинстве случаев, не находя выхода, волосы загибались и снова уходили концами в кожу головы, причиняя еще большие страдания. Последние испытания сопровождались полным помутнением рассудка. Лишь на пятые сутки жуаньжуаны приходили проверить, выжил ли кто. Если заставали в живых хотя бы одного из замученных, то считалось, что цель достигнута. Такого поили водой, освобождали от оков и со временем возвращали ему силу, поднимали на ноги. Это и был раб-манкурт, насильно лишенный памяти и потому весьма ценный, стоивший десяти здоровых невольников. Манкурт не знал, кто он, откуда родом племенем, не ведал своего имени, не помнил детства, отца и матери — одним словом, манкурт не осознавал себя человеческим существом. Лишенный понимания собственного «я», манкурт с хозяйственной точки зрения обладал целым рядом преимуществ. Он был равнозначен бессловесной твари и потому абсолютно покорен и безопасен. Он никогда не помышлял о бегстве. Манкурту в корне чужды были побуждения к бунту, неповиновению. Он не ведал таких страстей. И поэтому не было необходимости стеречь его, держать охрану и тем более подозревать в тайных замыслах. Манкурт, как собака, признавал только своих хозяев. С другими он не вступал в общение. Все его помыслы сводились к утолению чрева. Других забот он не знал. Зато порученное дело исполнял слепо, усердно, неуклонно. Манкуртов обычно заставляли делать наиболее грязную, тяжкую работу или же приставляли их к самым нудным, тягостным занятиям, требующим тупого терпения.Среднеазиатская легенда же говорит об одном из таких несчастных , — о молодом наймане попавшем в плен к жуаньжуаням, насильно лишенном памяти и потому превращенном в идеального раба: готового трудиться в жутких условиях за мизерное вознаграждение и не помышляющего о побеге или восстании. А заканчивается легенда тем, что одна мать, не смирившаяся с потерей сына, отправляется в опасные поиски на вражьей стороне и находит его, но в каком состоянии… Манкурт не помнит себя, имени отца, своего рода-племени. Что только не делала отчаявшаяся мать, чтобы вернуть сына: она пела ему колыбельные песни, внушала, умоляла, приказывала. Она хотела спасти его от чудовищной доли, она не надеется вылечить его, но хотя бы прекратить его страдания, увести домой. Пусть он будет манкуртом, но дома, при ней, а не бесправным рабом. Тогда бы он послужил бы примером бесчеловечного обращения жуаньжуаней с пленными найманами и добавил бы им мужества в сражениях с беспощадным врагом. Все напрасно. Лишенный памяти, но не навыков стрельбы из лука, манкурт, по приказу хозяев, убивает свою мать и навсегда, до смерти остается РАБОМ.Сообщение
В современном мире же нет необходимости надевать на голову человека верблюжью кожу для того чтобы сделать его рабом, безродным манкуртом. Современные технологии сделали этот процесс более безболезненным и незаметным для человека, а потому позволяющим применять его массово, в неведомых доселе масштабах.
Необходимо понимать, что нет смысла спорить и ругаться с людьми которые находятся в состоянии добровольного рабства, пытаясь вернуть их настоящим человеческим ценностям, стоящим выше банального наполнения своего желудка и посещения развлекательных мероприятий. Единственное что нужно делать — это попытаться освободить разум такого человека, причём делать это необходимо соблюдая строгую последовательность, без чего можно только навредить — манкурт, как и всякое другое существо неспособное самостоятельно мыслить, действует и мыслит по шаблонам, заложенных в его голове хозяевами. Это подобно тому как собака начинает проявлять агрессию при виде, скажем, бегущего человека, так же и манкурт начинает огрызаться при любых попытках вернуть его ценностям.
Хотя сам я опять непоследователен, самое главное с чего надо начинать это следить за собой, контролировать — твои ли это мысли руководят твоим поведением? Понимаешь ли ты для чего ты создан? Помнишь ли ты кто ты и откуда ты?
30
31
Для чего говорят «спасибо»? Василий Сухомлинский
По лесной дороге шли двое – дедушка и мальчик. Было жарко, захотелось им пить.
Путники подошли к ручью. Тихо журчала прохладная вода. Они наклонились, напились.
– Спасибо тебе, ручей, – сказал дедушка.
Мальчик засмеялся.
– Вы зачем сказали ручью «спасибо»? – спросил он дедушку, – ведь ручей не живой, не услышит ваших слов, не поймёт вашей благодарности.
– Это так. Если бы напился волк, он бы «спасибо» не сказал. А мы не волки, мы – люди. Знаешь ли ты, для чего человек говорит «спасибо»? Подумай, кому нужно это слово?
Мальчик задумался. Времени у него было много. Путь предстоял длинный.
32
Евгений Пермяк — Как Миша хотел маму перехитрить: Сказка
Пришла Мишина мама после работы домой и руками всплеснула:
— Как же это ты, Мишенька, сумел у велосипеда колесо отломать?
— Оно, мама, само отломалось.
— А почему у тебя, Мишенька, рубашка разорвана?
— Она, мамочка, сама разорвалась.
— А куда твой второй башмак делся? Где ты его потерял?
— Он, мама, сам куда-то потерялся.
Тогда Мишина мама сказала:
— Какие они все нехорошие! Их, негодников, нужно проучить!
— А как? — спросил Миша.
— Очень просто, — ответила мама. — Если они научились сами ломаться, сами разрываться и сами теряться, пусть научатся сами чиниться, сами зашиваться, сами находиться. А мы с тобой, Миша, дома посидим и подождем, когда они это все сделают.
Сел Миша у сломанного велосипеда, в разорванной рубашке, без башмака, и крепко задумался. Видимо, было над чем задуматься этому мальчику.
33
Каждый раз, прочитав новую книжку и пытаясь найти ей свободное место на полках, я задумываюсь, что рано или поздно бумажные книги исчезнут. На днях я ещё раз убедился, что к этому всё движется.
В книжном магазине «Москва» на Тверской теперь появился отдел, торгующий лицензионными CD и DVD. Диски теперь лежат на полках, и любой может их взять и повертеть в руках. К примеру, в продаже имеются CD с «Лабиринтом отражений» Лукьяненко, DVD с полными собраниями сочинений Достоевского и Лескова…
Итак, обычная московская квартира, 2018 год.
– Пап, можно я с твоей карточки сниму 99 баксов? За книжку надо заплатить…
– А что за книжка?
– Ну, этот. Достоевский. «Преступление и наказание».
– Так зачем покупать. У нас же есть.
– Да? А в каком файле?
– При чём тут файлы. Вот же он, на полке стоит…
– Фу-ууу. Это же бумажная книжка!
– Ну, и что? Я ж в твои годы её читал.
– В твои годы, в твои годы… Там поиска нет. Как я, по-твоему, цитаты находить буду? Аудио-сопровождения тут нет. Анимационных картинок тоже нет. Только текст, в котором даже шрифт и тот поменять нельзя… Ты что? Меня же в школе всё засмеют! Сам такую читай.
– Ну, ладно. Вот, возьми DVD. Лет пятнадцать назад купил.
– Чего? DVD? А чем я этот антиквариат, по-твоему, прочитаю? В политехнический музей его сдай. Ты мне ещё перфоленту с Достоевским предложи!
– Если ты такой умный, то поищи сам в сети, да скачай нахаляву.
– Бесплатно скачать книжку!?
– Ну, да. А как же ещё? На книги Достоевского за давностью лет авторские права не распространяются… Наверняка, где-то она лежит.
– Ты что, пап! Это, может, у вас, в начале века, всё скачать нахаляву можно было. Ты что, не слышал, что уже лет пять, как авторские права на все книги навечно переданы Американской Ассоциации Издателей Книг. Или ты хочешь, чтоб меня как члена секты Дмитрия Склярова в тюрьму пожизненно засадили?
– Так Достоевский же не американец! При чём тут американские издатели?
– А кого это волнует? Ты, папа, случаем не антиглобалист?
– Нет, что ты! Ну, сынок, жалко же почти 100 долларов тратить за файл. Ну, одноклассников лучше попроси файл этот дать. У них-то точно же есть. А ты им потом свой какой-нибудь файл дашь.
– Ага! Если они мне своего Достоевского дадут, то где я его читать буду?
– В смысле, «где»? Они свою копию у себя дома, а ты свою тут.
– Ну, ты совсем отстал. Книжку можно читать лишь с того компа, с которого её купили. Да и код поляризации там другой будет… Короче, пап, давай деньги! Я куплю себе нормальную книжку.
– Ну, ладно. Вот тебе одноразовый пароль на снятие 99 баксов с нашего счета. В наше время 100 долларов были большими деньгами…
– Ок. Скачал. Thanks.
– Ну-ка, дай и мне посмотреть… Слушай, сынок, а что это за картинки? Такого вроде бы в романе не было…
– Дык, это же баннеры. Без баннеров книжка стоит 699 баксов.
Открытый файл пестрел мигающими объявлениями: «Axe Proffessional, 2018 – современные топоры с лазерной заточкой»; «Косметический салон ‘У Лизаньки’ – мы не дадим вам превратиться в старуху»; «Мучают проблемы? Психологическая служба доверия ‘Порфирий'»; «Кредитуем, обналичиваем. Низкий процент»; «RASKOLNIKOFF.COM – вызов шаловливых старушек в любую точку земного шара»…
– Слушай, сынок, а что это текста романа не видно? Подождать, что ли, надо, пока баннеры исчезнут?
– Ну, ты как будто с Луны свалился! Сто лет ждать будешь. Текст же надо через поляризационные очки читать. Без очков только реклама видна!
– А это ещё зачем?
– Как зачем? Чтобы никто, кроме заплатившего, не мог книжку читать! Прикинь, если бы я купил книгу, а кто-то, ничего не покупая, у меня через плечо тоже мог бы её читать…
– Глупость какая-то. Ну, а если б я тоже очки одел бы?
– Ха, ну ты даёшь! Файл же настроен только на мои очки. На других очках другой код поляризации.
– Ладно, а ну дай-ка свои очки. Я через них книжку посмотрю.
– Как посмотришь? Они же тебя по сетчатке не опознают. Ты в них ничего, кроме сообщения, что ты надел чужие очки, не увидишь! Ладно, пап, не мешай со своими глупостями! Мне надо, пока лицензия не кончилась, быстро всё прочесть, а иначе надо будет либо аренду файла продлевать, либо книжка сама уничтожится. Не мешай, я читаю…
3 часа спустя…
– Уффф! Ну, всё. Я прочитал!
– Как всё прочитал? «Преступление и наказание» за три часа?!
– Ну, да. Я и быстрее всё прочел бы, если б рекламных пауз каждые полчаса не было бы.
– Всё равно не верю! Кто такой, например, Свидригайлов?
– Кто-кто?
– Аааа, всё понятно. Кто такой Лужин? Кто такая Соня Мармеладова?
– Ну, ты даёшь! Откуда же я знаю! Я ж Home Edition читал. У меня только про то, как Раскольников старуху топором убил, а потом сдался с повинной. Про всяких остальных надо Professional версию покупать или вообще Enterprise Edition. У нас же денег столько нет.
– Мда-а, с ума сойти, куда катится мир!
– Скатился уже. Лет пятнадцать назад надо было думать, если не ещё раньше…
34
Владимир Короленко
«Огоньки»
«Огоньки»
Как-то давно, темным осенним вечером, случилось мне плыть по угрюмой сибирской реке. Вдруг на повороте реки, впереди, под темными горами мелькнул огонек.
Мелькнул ярко, сильно, совсем близко…
— Ну, слава богу! — сказал я с радостью, — близко ночлег!
Гребец повернулся, посмотрел через плечо на огонь и опять апатично налег на весла.
— Далече!
Я не поверил: огонек так и стоял, выступая вперед из неопределенной тьмы. Но гребец был прав: оказалось, действительно, далеко.
Свойство этих ночных огней — приближаться, побеждая тьму, и сверкать, и обещать, и манить своею близостью. Кажется, вот-вот еще два-три удара веслом, — и путь кончен… А между тем — далеко!..
И долго мы еще плыли по темной, как чернила, реке. Ущелья и скалы выплывали, надвигались и уплывали, оставаясь назади и теряясь, казалось, в бесконечной дали, а огонек все стоял впереди, переливаясь и маня, — все так же близко, и все так же далеко…
Мне часто вспоминается теперь и эта темная река, затененная скалистыми горами, и этот живой огонек. Много огней и раньше и после манили не одного меня своею близостью. Но жизнь течет все в тех же угрюмых берегах, а огни еще далеко. И опять приходится налегать на весла…
Но все-таки… все-таки впереди — огни!..
1900
35
Зелёная лампа. Александр Грин
I
В Лондоне в 1920 году, зимой, на углу Пикадилли и одного переулка, остановились двое хорошо одетых людей среднего возраста. Они только что покинули дорогой ресторан. Там они ужинали, пили вино и шутили с артистками из Дрюриленского театра.
Теперь внимание их было привлечено лежащим без движения, плохо одетым человеком лет двадцати пяти, около которого начала собираться толпа.
— Стильтон! — брезгливо сказал толстый джентльмен высокому своему приятелю, видя, что тот нагнулся и всматривается в лежащего. — Честное слово, не стоит так много заниматься этой падалью. Он пьян или умер.
— Я голоден… и я жив, — пробормотал несчастный, приподнимаясь, чтобы взглянуть на Стильтона, который о чем-то задумался. — Это был обморок.
— Реймер! — сказал Стильтон. — Вот случай проделать шутку. У меня явился интересный замысел. Мне надоели обычные развлечения, а хорошо шутить можно только одним способом: делать из людей игрушки.
Эти слова были сказаны тихо, так что лежавший, а теперь прислонившийся к ограде человек их не слышал.
Реймер, которому было все равно, презрительно пожал плечами, простился со Стильтоном и уехал коротать ночь в свой клуб, а Стильтон, при одобрении толпы и при помощи полисмена, усадил беспризорного человека в кэб.
Экипаж направился к одному из трактиров Гайстрита. Беднягу звали Джон Ив. Он приехал в Лондон из Ирландии искать службу или работу. Ив был сирота, воспитанный в семье лесничего. Кроме начальной школы, он не получил никакого образования. Когда Иву было 15 лет, его воспитатель умер, взрослые дети лесничего уехали — кто в Америку, кто в Южный Уэльс, кто в Европу, и Ив некоторое время работал у одного фермера. Затем ему пришлось испытать труд углекопа, матроса, слуги в трактире, а 22 лет он заболел воспалением лёгких и, выйдя из больницы, решил попытать счастья в Лондоне. Но конкуренция и безработица скоро показали ему, что найти работу не так легко. Он ночевал в парках, на пристанях, изголодался, отощал и был, как мы видели, поднят Стильтоном, владельцем торговых складов в Сити.
Стильтон в 40 лет изведал все, что может за деньги изведать холостой человек, не знающий забот о ночлеге и пище. Он владел состоянием в 20 миллионов фунтов. То, что он придумал проделать с Ивом, было совершенной чепухой, но Стильтон очень гордился своей выдумкой, так как имел слабость считать себя человеком большого воображения и хитрой фантазии.
Когда Ив выпил вина, хорошо поел и рассказал Стильтону свою историю, Стильтон заявил:
— Я хочу сделать вам предложение, от которого у вас сразу блеснут глаза. Слушайте: я выдаю вам десять фунтов с условием, что вы завтра же наймёте комнату на одной из центральных улиц, во втором этаже, с окном на улицу. Каждый вечер, точно от пяти до двенадцати ночи, на подоконнике одного окна, всегда одного и того же, должна стоять зажжённая лампа, прикрытая зелёным абажуром. Пока лампа горит назначенный ей срок, вы от пяти до двенадцати не будете выходить из дому, не будете никого принимать и ни с кем не будете говорить. Одним словом, работа нетрудная, и, если вы согласны так поступить, — я буду ежемесячно присылать вам десять фунтов. Моего имени я вам не скажу.
— Если вы не шутите, — отвечал Ив, страшно изумлённый предложением,-то я согласен забыть даже собственное имя. Но скажите, пожалуйста, — как долго будет длиться такое моё благоденствие?
— Это неизвестно. Может быть, год, может быть, — всю жизнь.
— Еще лучше. Но — смею спросить — для чего понадобилась вам эта зелёная иллюминация?
— Тайна! — ответил Стильтон. — Великая тайна! Лампа будет служить сигналом для людей и дел, о которых вы никогда не узнаете ничего.
— Понимаю. То есть ничего не понимаю. Хорошо; гоните монету и знайте, что завтра же по сообщенному мною адресу Джон Ив будет освещать окно лампой!
Так состоялась странная сделка, после которой бродяга и миллионер расстались, вполне довольные друг другом.
Прощаясь, Стильтон сказал:
— Напишите до востребования так: «3-33-6». Ещё имейте в виду, что неизвестно когда, может быть, через месяц, может быть, — через год, — словом, совершенно неожиданно, внезапно вас посетят люди, которые сделают вас состоятельным человеком. Почему это и как — я объяснить не имею права. Но это случится…
— Черт возьми! — пробормотал Ив, глядя вслед кэбу, увозившему Стильтона, и задумчиво вертя десятифунтовым билет. — Или этот человек сошёл с ума, или я счастливчик особенный. Наобещать такую кучу благодати, только за то, что я сожгу в день пол-литра керосина.
Вечером следующего дня одно окно второго этажа мрачного дома ј 52 по Ривер-стрит сияло мягким зелёным светом. Лампа была придвинута к самой раме.
Двое прохожих некоторое время смотрели на зеленое окно с противоположного дому тротуара; потом Стильтон сказал:
— Так вот, милейший Реймер, когда вам будет скучно, приходите сюда и улыбнитесь. Там, за окном, сидит дурак. Дурак, купленный дёшево, в рассрочку, надолго. Он сопьется от скуки или сойдёт с ума… Но будет ждать, сам не зная чего. Да вот и он!
Действительно, тёмная фигура, прислонясь лбом к стеклу, глядела в полутьму улицы, как бы спрашивая: «Кто там? Чего мне ждать? Кто придёт?»
— Однако вы тоже дурак, милейший, — сказал Реймер, беря приятеля под руку и увлекая его к автомобилю. — Что весёлого в этой шутке?
— Игрушка… игрушка из живого человека, — сказал Стильтон, — самое сладкое кушанье!
II
В 1928 году больница для бедных, помещающаяся на одной из лондонских окраин, огласилась дикими воплями: кричал от страшной боли только что привезённый старик, грязный, скверно одетый человек с истощенным лицом. Он сломал ногу, оступившись на черной лестнице тёмного притона.
Пострадавшего отнесли в хирургическое отделение. Случай оказался серьёзный, так как сложный перелом кости вызвал разрыв сосудов.
По начавшемуся уже воспалительному процессу тканей хирург, осматривавший беднягу, заключил, что необходима операция. Она была тут же произведена, после чего ослабевшего старика положили на койку, и он скоро уснул, а проснувшись, увидел, что перед ним сидит тот самый хирург, который лишил его правой ноги.
— Так вот как пришлось нам встретиться! — сказал доктор, серьёзный, высокий человек с грустным взглядом. — Узнаете ли вы меня, мистер Стильтон? — Я — Джон Ив, которому вы поручили дежурить каждый день у горящей зелёной лампы. Я узнал вас с первого взгляда.
— Тысяча чертей! — пробормотал, вглядываясь, Стильтон. — Что произошло? Возможно ли это?
— Да. Расскажите, что так резко изменило ваш образ жизни?
— Я разорился… несколько крупных проигрышей… паника на бирже… Вот уже три года, как я стал нищим. А вы? Вы?
— Я несколько лет зажигал лампу, — улыбнулся Ив, — и вначале от скуки, а потом уже с увлечением начал читать все, что мне попадалось под руку. Однажды я раскрыл старую анатомию, лежавшую на этажерке той комнаты, где я жил, и был поражён. Передо мной открылась увлекательная страна тайн человеческого организма. Как пьяный, я просидел всю ночь над этой книгой, а утром отправился в библиотеку и спросил: «Что надо изучить, чтобы сделаться доктором?» Ответ был насмешлив: «Изучите математику, геометрию, ботанику, зоологию, морфологию, биологию, фармакологию, латынь и т. д.» Но я упрямо допрашивал, и я все записал для себя на память.
К тому времени я уже два года жёг зелёную лампу, а однажды, возвращаясь вечером (я не считал нужным, как сначала, безвыходно сидеть дома 7 часов), увидел человека в цилиндре, который смотрел на мое зелёное окно не то с досадой, не то с презрением. «Ив — классический дурак! — пробормотал тот человек, не замечая меня. — Он ждет обещанных чудесных вещей… да, он хоть имеет надежду, а я… я почти разорён!» Это были вы. Вы прибавили: «Глупая шутка. Не стоило бросать денег».
У меня было куплено достаточно книг, чтобы учиться, учиться и учиться, несмотря ни на что. Я едва не ударил вас тогда же на улице, но вспомнил, что благодаря вашей издевательской щедрости могу стать образованным человеком…
— А дальше? — тихо спросил Стильтон.
— Дальше? Хорошо. Если желание сильно, то исполнение не замедлит. В одной со мной квартире жил студент, который принял во мне участие и помог мне, года через полтора, сдать экзамены для поступления в медицинский колледж. Как видите, я оказался способным человеком…
Наступило молчание.
— Я давно не подходил к вашему окну, — произнёс потрясённый рассказом Ива Стильтон, — давно… очень давно. Но мне теперь кажется, что там все ещё горит зелёная лампа… лампа, озаряющая темноту ночи. Простите меня.
Ив вынул часы.
— Десять часов. Вам пора спать, — сказал он. — Вероятно, через три недели вы сможете покинуть больницу. Тогда позвоните мне, — быть может, я дам вам работу в нашей амбулатории: записывать имена приходящих больных. А спускаясь по темной лестнице, зажигайте… хотя бы спичку.
11 июля 1930 г.
36
ПЕВЦЫ
Небольшое сельцо Колотовка, принадлежавшее некогда помещице, за лихой и бойкий нрав прозванной в околотке Стрыганихой (настоящее имя ее осталось неизвестным), а ныне состоящее за каким-то петербургским немцем, лежит на скате голого холма, сверху донизу рассеченного страшным оврагом, который, зияя как бездна, вьется, разрытый и размытый, по самой середине улицы и пуще реки, — через реку можно по крайней мере навести мост, — разделяет обе стороны бедной деревушки. Несколько тощих ракит боязливо спускаются по песчаным его бокам; на самом дне, сухом и желтом, как медь, лежат огромные плиты глинистого камня. Невеселый вид, нечего сказать, — а между тем всем окрестным жителям хорошо известна дорога в Колотовку: они ездят туда охотно и часто.У самой головы оврага, в нескольких шагах от той точки, где он начинается узкой трещиной, стоит небольшая четвероугольная избушка, стоит одна, отдельно от других. Она крыта соломой, с трубой; одно окно, словно зоркий глаз, обращено к оврагу и в зимние вечера, освещенное изнутри, далеко виднеется в тусклом тумане мороза и не одному проезжему мужичку мерцает путеводной звездою. Над дверью избушки прибита голубая дощечка: эта избушка — кабак, прозванный «Притынным» *. В этом кабаке вино продается, вероятно, не дешевле положенной цены, но посещается он гораздо прилежнее, чем все окрестные заведения такого же рода. Причиной этому целовальник Николай Иваныч.Николай Иваныч — некогда стройный, кудрявый и румяный парень, теперь же необычайно толстый, уже поседевший мужчина с заплывшим лицом, хитро-добродушными глазками и жирным лбом, перетянутым морщинами, словно нитками, — уже более двадцати лет проживает в Колотовке. Николай Иваныч человек расторопный и сметливый, как бо́льшая часть целовальников. Не отличаясь ни особенной любезностью, ни говорливостью, он обладает даром привлекать и удерживать у себя гостей, которым как-то весело сидеть перед его стойкой, под спокойным и приветливым, хотя зорким взглядом флегматического хозяина. У него много здравого смысла; ему хорошо знаком и помещичий быт, и крестьянский, и мещанский; в трудных случаях он мог бы подать неглупый совет, но, как человек осторожный и эгоист, предпочитает оставаться в стороне и разве только отдаленными, словно без всякого намерения произнесенными намеками наводит своих посетителей — и то любимых им посетителей — на путь истины. Он знает толк во всем, что важно или занимательно для русского человека: в лошадях и в скотине, в лесе, и кирпичах, в посуде, в красном товаре и в кожевенном, в песнях и в плясках. Когда у него нет посещения, он обыкновенно сидит, как мешок, на земле перед дверью своей избы, подвернув под себя свои тонкие ножки, и перекидывается ласковыми словцами со всеми прохожими. Много видал он на своем веку, пережил не один десяток мелких дворян, заезжавших к нему за «очищенным», знает всё, что делается на сто верст кругом, и никогда не пробалтывается, не показывает даже виду, что ему и то известно, чего не подозревает самый проницательный становой. Знай себе помалчивает, да посмеивается, да стаканчиками пошевеливает. Его соседи уважают: штатский генерал Щерепетенко, первый по чину владелец в уезде, всякий раз снисходительно ему кланяется, когда проезжает мимо его домика. Николай Иваныч человек со влиянием: он известного конокрада заставил возвратить лошадь, которую тот свел со двора у одного из его знакомых, образумил мужиков соседней деревни, не хотевших принять нового управляющего, и т. д. Впрочем, не должно думать, чтобы он это делал из любви к справедливости, из усердия к ближним — нет! Он просто старается предупредить всё то, что может как-нибудь нарушить его спокойствие. Николай Иваныч женат, и дети у него есть. Жена его, бойкая, востроносая и быстроглазая мещанка, в последнее время тоже несколько отяжелела телом, подобно своему мужу. Он во всем на нее полагается, и деньги у ней под ключом. Пьяницы-крикуны ее боятся; она их не любит: выгоды от них мало, а шуму много; молчаливые, угрюмые ей скорее по сердцу. Дети Николая Иваныча еще малы; первые все перемерли, но оставшиеся пошли в родителей: весело глядеть на умные личики этих здоровых ребят.Был невыносимо жаркий июльский день, когда я, медленно передвигая ноги, вместе с моей собакой поднимался вдоль Колотовского оврага в направлении Притынного кабачка. Солнце разгоралось на небе, как бы свирепея; парило и пекло неотступно; воздух был весь пропитан душной пылью. Покрытые лоском грачи и вороны, разинув носы, жалобно глядели на проходящих, словно прося их участья; одни воробьи не горевали и, распуша перышки, еще яростнее прежнего чирикали и дрались по заборам, дружно взлетали с пыльной дороги, серыми тучками носились над зелеными конопляниками. Жажда меня мучила. Воды не было близко: в Колотовке, как и во многих других степных деревнях, мужики, за неименьем ключей и колодцев, пьют какую-то жидкую грязцу из пруда… Но кто же назовет это отвратительное пойло водою? Я хотел спросить у Николая Иваныча стакан пива или квасу.Признаться сказать, ни в какое время года Колотовка не представляет отрадного зрелища; но особенно грустное чувство возбуждает она, когда июльское сверкающее солнце своими неумолимыми лучами затопляет и бурые полуразметанные крыши домов, и этот глубокий овраг, и выжженный, запыленный выгон, по которому безнадежно скитаются худые, длинноногие курицы, и серый осиновый сруб с дырами вместо окон, остаток прежнего барского дома, кругом заросший крапивой, бурьяном и полынью, и покрытый гусиным пухом, черный, словно раскаленный пруд, с каймой из полувысохшей грязи и сбитой набок плотиной, возле которой на мелко истоптанной, пепеловидной земле овцы, едва дыша и чихая от жара, печально теснятся друг к дружке и с унылым терпеньем наклоняют головы как можно ниже, как будто выжидая, когда ж пройдет, наконец, этот невыносимый зной. Усталыми шагами приближался я к жилищу Николая Иваныча, возбуждая, как водится, в ребятишках изумление, доходившее до напряженно-бессмысленного созерцания, в собаках — негодование, выражавшееся лаем, до того хриплым и злобным, что, казалось, у них отрывалась вся внутренность, и они сами потом кашляли и задыхались, — как вдруг на пороге кабачка показался мужчина высокого роста, без шапки, во фризовой шинели, низко подпоясанной голубым кушачком. На вид он казался дворовым; густые седые волосы в беспорядке вздымались над сухим и сморщенным его лицом. Он звал кого-то, торопливо действуя руками, которые, очевидно, размахивались гораздо далее, чем он сам того желал. Заметно было, что он уже успел выпить.— Иди, иди же! — залепетал он, с усилием поднимая густые брови, — иди, Моргач, иди! Экой ты, братец, ползешь, право слово. Это нехорошо, братец. Тут ждут тебя, а ты вот ползешь… Иди.— Ну, иду, иду, — раздался дребезжащий голос, и из-за избы направо показался человек низенький, толстый и хромой. На нем была довольно опрятная суконная чуйка, вдетая на один рукав; высокая остроконечная шапка, прямо надвинутая на брови, придавала его круглому, пухлому лицу выражение лукавое и насмешливое. Его маленькие желтые глазки так и бегали, с тонких губ не сходила сдержанная, напряженная улыбка, а нос, острый и длинный, нахально выдвигался вперед, как руль. — Иду, любезный, — продолжал он, ковыляя в направлении питейного заведенья, — зачем ты меня зовешь?.. Кто меня ждет?— Зачем я тебя зову? — сказал с укоризной человек во фризовой шинели. — Экой ты, Моргач, чудной, братец: тебя зовут в кабак, а ты еще спрашиваешь, зачем. А ждут тебя всё люди добрые: Турок-Яшка, да Дикий-Барин, да рядчик с Жиздры. Яшка-то с рядчиком об заклад побились: осьмуху пива поставили — кто кого одолеет, лучше споет то есть… понимаешь?— Яшка петь будет? — с живостью проговорил человек, прозванный Моргачом. — И ты не врешь, Обалдуй?— Я не вру, — с достоинством отвечал Обалдуй, — а ты брешешь. Стало быть, будет петь, коли об заклад побился, божья коровка ты этакая, плут ты этакой, Моргач!— Ну, пойдем, простота, — возразил Моргач.— Ну, поцелуй же меня по крайней мере, душа ты моя, — залепетал Обалдуй, широко раскрыв объятия.— Вишь, Езоп изнеженный, — презрительно ответил Моргач, отталкивая его локтем, и оба, нагнувшись, вошли в низенькую дверь.Слышанный мною разговор сильно возбудил мое любопытство. Уже не раз доходили до меня слухи об Яшке-Турке как о лучшем певце в околотке, и вдруг мне представился случай услышать его в состязании с другим мастером. Я удвоил шаги и вошел в заведение.Вероятно, не многие из моих читателей имели случай заглядывать в деревенские кабаки: но наш брат, охотник, куда не заходит! Устройство их чрезвычайно просто. Они состоят обыкновенно из темных сеней и белой избы, разделенной надвое перегородкой, за которую никто из посетителей не имеет права заходить. В этой перегородке, над широким дубовым столом, проделано большое продольное отверстие. На этом столе, или стойке, продается вино. Запечатанные штофы разной величины рядком стоят на полках, прямо против отверстия. В передней части избы, предоставленной посетителям, находятся лавки, две-три пустые бочки, угловой стол. Деревенские кабаки большей частью довольно темны, и почти никогда не увидите вы на их бревенчатых стенах каких-нибудь ярко раскрашенных лубочных картин, без которых редкая изба обходится.Когда я вошел в Притынный кабачок, в нем уже собралось довольно многочисленное общество.За стойкой, как водится, почти во всю ширину отверстия, стоял Николай Иваныч, в пестрой ситцевой рубахе, и, с ленивой усмешкой на пухлых щеках, наливал своей полной и белой рукой два стакана вина вошедшим приятелям, Моргачу и Обалдую; а за ним, в углу, возле окна, виднелась его востроглазая жена. Посередине комнаты стоял Яшка-Турок, худой и стройный человек лет двадцати трех, одетый в долгополый нанковый кафтан голубого цвета. Он смотрел удалым фабричным малым и, казалось, не мог похвастаться отличным здоровьем. Его впалые щеки, большие беспокойные серые глаза, прямой нос с тонкими, подвижными ноздрями, белый покатый лоб с закинутыми назад светло-русыми кудрями, крупные, но красивые, выразительные губы — всё его лицо изобличало человека впечатлительного и страстного. Он был в большом волненье: мигал глазами, неровно дышал, руки его дрожали, как в лихорадке, — да у него и точно была лихорадка, та тревожная, внезапная лихорадка, которая так знакома всем людям, говорящим или поющим перед собранием. Подле него стоял мужчина лет сорока, широкоплечий, широкоскулый, с низким лбом, узкими татарскими глазами, коротким и плоским носом, четвероугольным подбородком и черными блестящими волосами, жесткими, как щетина. Выражение его смуглого с свинцовым отливом лица, особенно его бледных губ, можно было бы назвать почти свирепым, если б оно не было так спокойно-задумчиво. Он почти не шевелился и только медленно поглядывал кругом, как бык из-под ярма. Одет он был в какой-то поношенный сюртук с медными гладкими пуговицами; старый черный шёлковый платок окутывал его огромную шею. Звали его Диким-Барином. Прямо против него, на лавке под образами, сидел соперник Яшки — рядчик из Жиздры. Это был невысокого роста плотный мужчина лет тридцати, рябой и курчавый, с тупым вздернутым носом, живыми карими глазами и жидкой бородкой. Он бойко поглядывал кругом, подсунув под себя руки, беспечно болтал и постукивал ногами, обутыми в щегольские сапоги с оторочкой. На нем был новый тонкий армяк из серого сукна с плисовым воротником, от которого резко отделялся край алой рубахи, плотно застегнутой вокруг горла. В противоположном углу, направо от двери, сидел за столом какой-то мужичок в узкой изношенной свите, с огромной дырой на плече. Солнечный свет струился жидким желтоватым потоком сквозь запыленные стекла двух небольших окошек и, казалось, не мог победить обычной темноты комнаты: все предметы были освещены скупо, словно пятнами. Зато в ней было почти прохладно, и чувство духоты и зноя, словно бремя, свалилось у меня с плеч, как только я переступил порог.Мой приход — я это мог заметить — сначала несколько смутил гостей Николая Иваныча; но, увидев, что он поклонился мне, как знакомому человеку, они успокоились и уже более не обращали на меня внимания. Я спросил себе пива и сел в уголок, возле мужичка в изорванной свите.— Ну, что ж! — возопил вдруг Обалдуй, выпив духом стакан вина и сопровождая свое восклицание теми странными размахиваниями рук, без которых он, по-видимому, не произносил ни одного слова. — Чего еще ждать? Начинать так начинать. А? Яша?..— Начинать, начинать, — одобрительно подхватил Николай Иваныч.— Начнем, пожалуй, — хладнокровно и с самоуверенной улыбкой промолвил рядчик, — я готов.— И я готов, — с волнением произнес Яков.— Ну, начинайте, ребятки, начинайте, — пропищал Моргач.Но, несмотря на единодушно изъявленное желание, никто не начинал; рядчик даже не приподнялся с лавки, — все словно ждали чего-то.— Начинай! — угрюмо и резко проговорил Дикий-Барин.Яков вздрогнул. Рядчик встал, осунул кушак и откашлялся.— А кому начать? — спросил он слегка изменившимся голосом у Дикого-Барина, который всё продолжал стоять неподвижно посередине комнаты, широко расставив толстые ноги и почти по локоть засунув могучие руки в карманы шаровар.— Тебе, тебе, рядчик, — залепетал Обалдуй, — тебе, братец.Дикий-Барин посмотрел на него исподлобья. Обалдуй слабо пискнул, замялся, глянул куда-то в потолок, повел плечами и умолк.— Жеребий кинуть, — с расстановкой произнес Дикий-Барин, — до осьмуху на стойку.Николай Иваныч нагнулся, достал, кряхтя, с полу осьмуху и поставил ее на стол.Дикий-Барин глянул на Якова и промолвил: «Ну!»Яков зарылся у себя в карманах, достал грош и наметил его зубом. Рядчик вынул из-под полы кафтана новый кожаный кошелек, не торопясь распутал шнурок и, насыпав множество мелочи на руку, выбрал новенький грош. Обалдуй подставил свой затасканный картуз с обломанным и отставшим козырьком; Яков кинул в него свой грош, рядчик — свой.— Тебе выбирать, — проговорил Дикий-Барин, обратившись к Моргачу.Моргач самодовольно усмехнулся, взял картуз в обе руки и начал его встряхивать.Мгновенно воцарилась глубокая тишина: гроши слабо звякали, ударяясь друг о друга. Я внимательно поглядел кругом: все лица выражали напряженное ожидание; сам Дикий-Барин прищурился; мой сосед, мужичок в изорванной свитке, и тот даже с любопытством вытянул шею. Моргач запустил руку в картуз и достал рядчиков грош; все вздохнули. Яков покраснел, а рядчик провел рукой по волосам.— Ведь я же говорил, что тебе, — воскликнул Обалдуй, — я ведь говорил.— Ну, ну, не «циркай»! ** — презрительно заметил Дикий-Барин. — Начинай, — продолжал он, качнув головой на рядчика.— Какую же мне песню петь? — спросил рядчик, приходя в волненье.— Какую хочешь, — отвечал Моргач. — Какую вздумается, ту и пой.— Конечно, какую хочешь, — прибавил Николай Иваныч, медленно складывая руки на груди. — В этом тебе указу нету. Пой какую хочешь; да только пой хорошо; а мы уж потом решим по совести.— Разумеется, по совести, — подхватил Обалдуй и полизал край пустого стакана.— Дайте, братцы, откашляться маленько, — заговорил рядчик, перебирая пальцами вдоль воротника кафтана.— Ну, ну, не прохлаждайся — начинай! — решил Дикий-Барин и потупился.Рядчик подумал немного, встряхнул головой и выступил вперед. Яков впился в него глазами…Но прежде чем я приступлю к описанию самого состязания, считаю не лишним сказать несколько слов о каждом из действующих лиц моего рассказа. Жизнь некоторых из них была уже мне известна, когда я встретился с ними в Притынном кабачке; о других я собрал сведения впоследствии.Начнем с Обалдуя. Настоящее имя этого человека было Евграф Иванов; но никто во всем околотке не звал его иначе как Обалдуем, и он сам величал себя тем же прозвищем: так хорошо оно к нему пристало. И действительно, оно как нельзя лучше шло к его незначительным, вечно встревоженным чертам. Это был загулявший, холостой дворовый человек, от которого собственные господа давным-давно отступились и который, не имея никакой должности, не получая ни гроша жалованья, находил, однако, средство каждый день покутить на чужой счет. У него было множество знакомых, которые поили его вином и чаем, сами не зная зачем, потому что он не только не был в обществе забавен, но даже, напротив, надоедал всем своей бессмысленной болтовней, несносной навязчивостью, лихорадочными телодвижениями и беспрестанным неестественным хохотом. Он не умел ни петь, ни плясать; отроду не сказал не только умного, даже путного слова: все «лотошил» да врал что ни попало — прямой Обалдуй! И между тем ни одной попойки на сорок верст кругом не обходилось без того, чтобы его долговязая фигура не вертелась тут же между гостями, — так уж к нему привыкли и переносили его присутствие как неизбежное зло. Правда, обходились с ним презрительно, но укрощать его нелепые порывы умел один Дикий-Барин.Моргач нисколько не походил на Обалдуя. К нему тоже шло названье Моргача, хотя он глазами не моргал более других людей; известное дело: русский народ на прозвища мастер. Несмотря на мое старанье выведать пообстоятельнее прошедшее этого человека, в жизни его остались для меня — и, вероятно, для многих других — темные пятна, места, как выражаются книжники, покрытые глубоким мраком неизвестности. Я узнал только, что он некогда был кучером у старой бездетной барыни, бежал со вверенной ему тройкой лошадей, пропадал целый год и, должно быть, убедившись на деле в невыгодах и бедствиях бродячей жизни, вернулся сам, но уже хромой, бросился в ноги своей госпоже и, в течение нескольких лет примерным поведеньем загладив свое преступленье, понемногу вошел к ней в милость, заслужил наконец ее полную доверенность, попал в приказчики, а по смерти барыни, неизвестно каким образом, оказался отпущенным на волю, приписался в мещане, начал снимать у соседей бакши, разбогател и живет теперь припеваючи. Это человек опытный, себе на уме, не злой и не добрый, а более расчетливый; это тертый калач, который знает людей и умеет ими пользоваться. Он осторожен и в то же время предприимчив, как лисица; болтлив, как старая женщина, и никогда не проговаривается, а всякого другого заставит высказаться; впрочем, не прикидывается простачком, как это делают иные хитрецы того же десятка, да ему и трудно было бы притворяться: я никогда не видывал более проницательных и умных глаз, как его крошечные, лукавые «гляделки» ***. Они никогда не смотрят просто — всё высматривают да подсматривают. Моргач иногда по целым неделям обдумывает какое-нибудь, по-видимому, простое предприятие, а то вдруг решится на отчаянно смелое дело; кажется, тут ему и голову сломить… смотришь — всё удалось, всё как по маслу пошло. Он счастлив и верит в свое счастье, верит приметам. Он вообще очень суеверен. Его не любят, потому что ему самому ни до кого дела нет, но уважают. Всё его семейство состоит из одного сынишки, в котором он души не чает и который, воспитанный таким отцом, вероятно, пойдет далеко. «А Моргачонок в отца вышел», — уже и теперь говорят о нем вполголоса старики, сидя на завалинках и толкуя меж собой в летние вечера; и все понимают, что это значит, и уже не прибавляют ни слова.Об Якове-Турке и рядчике нечего долго распространяться. Яков, прозванный Турком, потому что действительно происходил от пленной турчанки, был по душе — художник во всех смыслах этого слова, а по званию — черпальщик на бумажной фабрике у купца; что же касается до рядчика, судьба которого, признаюсь, мне осталась неизвестной, то он показался мне изворотливым и бойким городским мещанином. Но о Диком-Барине стоит поговорить несколько поподробнее.Первое впечатление, которое производил на вас вид этого человека, было чувство какой-то грубой, тяжелой, но неотразимой силы. Сложен он был неуклюже, «сбитнем», как говорят у нас, но от него так и несло несокрушимым здоровьем, и — странное дело — его медвежеватая фигура не была лишена какой-то своеобразной грации, происходившей, может быть, от совершенно спокойной уверенности в собственном могуществе. Трудно было решить с первого разу, к какому сословию принадлежал этот Геркулес; он не походил ни на дворового, ни на мещанина, ни на обеднявшего подьячего в отставке, ни на мелкопоместного разорившегося дворянина — псаря и драчуна: он был уж точно сам по себе. Никто не знал, откуда он свалился к нам в уезд; поговаривали, что происходил он от однодворцев и состоял будто где-то прежде на службе; но ничего положительного об этом не знали; да и от кого было и узнавать, — не от него же самого: не было человека более молчаливого и угрюмого. Также никто не мог положительно сказать, чем он живет; он никаким ремеслом не занимался, ни к кому не ездил, не знался почти ни с кем, а деньги у него водились; правда, небольшие, но водились. Вел он себя не то что скромно, — в нем вообще не было ничего скромного, — но тихо; он жил, словно никого вокруг себя не замечал и решительно ни в ком не нуждался. Дикий-Барин (так его прозвали; настоящее же его имя было Перевлесов) пользовался огромным влиянием во всем округе; ему повиновались тотчас и с охотой, хотя он не только не имел никакого права приказывать кому бы то ни было, но даже сам не изъявлял малейшего притязания на послушание людей, с которыми случайно сталкивался. Он говорил — ему покорялись; сила всегда свое возьмет. Он почти не пил вина, не знался с женщинами и страстно любил пение. В этом человеке было много загадочного; казалось, какие-то громадные силы угрюмо покоились в нем, как бы зная, что раз поднявшись, что сорвавшись раз на волю, они должны разрушить и себя и всё, до чего ни коснутся; и я жестоко ошибаюсь, если в жизни этого человека не случилось уже подобного взрыва, если он, наученный опытом и едва спасшись от гибели, неумолимо не держал теперь самого себя в ежовых рукавицах. Особенно поражала меня в нем смесь какой-то врожденной, природной свирепости и такого же врожденного благородства, — смесь, которой я не встречал ни в ком другом.Итак, рядчик выступил вперед, закрыл до половины глаза и запел высочайшим фальцетом. Голос у него был довольно приятный и сладкий, хотя несколько сиплый; он играл и вилял этим голосом, как юлою, беспрестанно заливался и переливался сверху вниз и беспрестанно возвращался к верхним нотам, которые выдерживал и вытягивал с особенным стараньем, умолкал и потом вдруг подхватывал прежний напев с какой-то залихватской, заносистой удалью. Его переходы были иногда довольно смелы, иногда довольно забавны: знатоку они бы много доставили удовольствия; немец пришел бы от них в негодование. Это был русский tenore di grazia, ténor léger 1. Пел он веселую, плясовую песню, слова которой, сколько я мог уловить сквозь бесконечные украшения, прибавленные согласные и восклицания, были следующие:
Распашу я, молода-молоденька,
Землицы маленько;
посею, молода-молоденька,
Цветика аленька.
Он пел; все слушали его с большим вниманьем. Он, видимо, чувствовал, что имеет дело с людьми сведущими, и потому, как говорится, просто лез из кожи. Действительно, в наших краях знают толк в пении, и недаром село Сергиевское, на большой орловской дороге, славится во всей России своим особенно приятным и согласным напевом. Долго рядчик пел, не возбуждая слишком сильного сочувствия в своих слушателях; ему недоставало поддержки, хора; наконец, при одном особенно удачном переходе, заставившем улыбнуться самого Дикого-Барина, Обалдуй не выдержал и вскрикнул от удовольствия. Все встрепенулись. Обалдуй с Моргачем начали вполголоса подхватывать, подтягивать, покрикивать: «Лихо!.. Забирай, шельмец!.. Забирай, вытягивай, аспид! Вытягивай еще! Накаливай еще, собака ты этакая, пес!.. Погуби Ирод твою душу!» и пр. Николай Иваныч из-за стойки одобрительно закачал головой направо и налево. Обалдуй, наконец, затопал, засеменил ногами и задергал плечиком, а у Якова глаза так и разгорелись, как уголья, и он весь дрожал как лист и беспорядочно улыбался. Один Дикий-Барин не изменился в лице и по-прежнему не двигался с места; но взгляд его, устремленный на рядчика, несколько смягчился, хотя выражение губ оставалось презрительным. Ободренный знаками всеобщего удовольствия, рядчик совсем завихрился, и уж такие начал отделывать завитушки, так защелкал и забарабанил языком, так неистово заиграл горлом, что, когда, наконец, утомленный, бледный и облитый горячим потом, он пустил, перекинувшись назад всем телом, последний замирающий возглас, — общий, слитный крик ответил ему неистовым взрывом. Обалдуй бросился ему на шею и начал душить его своими длинными, костлявыми руками; на жирном лице Николая Иваныча выступила краска, и он словно помолодел; Яков, как сумасшедший, закричал: «Молодец, молодец!» Даже мой сосед, мужик в изорванной свите, не вытерпел и, ударив кулаком по столу, воскликнул: «А-га! хорошо, чёрт побери, хорошо!» — и с решительностью плюнул в сторону.— Ну, брат, потешил! — кричал Обалдуй, не выпуская изнеможенного рядчика из своих объятий, — потешил, нечего сказать! Выиграл, брат, выиграл! Поздравляю — осьмуха твоя! Яшке до тебя далеко… Уж я тебе говорю: далеко… А ты мне верь! (И он снова прижал рядчика к своей груди.)— Да пусти же его; пусти, неотвязная… — с досадой заговорил Моргач, — дай ему присесть на лавку-то; вишь, он устал… Экой ты фофан, братец, право, фофан! Что пристал, словно банный лист?— Ну что ж, пусть садится, а я за его здоровье выпью, — сказал Обалдуй и подошел к стойке. — На твой счет, брат, — прибавил он, обращаясь к рядчику.Тот кивнул головой, сел на лавку, достал из шапки полотенце и начал утирать лицо; а Обалдуй с торопливой жадностью выпил стакан и, по привычке горьких пьяниц, крякая, принял грустно-озабоченный вид.— Хорошо поешь, брат, хорошо, — ласково заметил Николай Иваныч. — А теперь за тобой очередь, Яша: смотри, не сробей. Посмотрим, кто кого, посмотрим… А хорошо поет рядчик, ей-богу хорошо.— Очинна хорошо, — заметила Николай Иванычева жена и с улыбкой поглядела на Якова.— Хорошо-га! — повторил вполголоса мой сосед.— А, заворотень-полеха! **** — завопил вдруг Обалдуй и, подойдя к мужичку с дырой на плече, уставился на него пальцем, запрыгал и залился дребезжащим хохотом. — Полеха! полеха! Га, баде паняй *****, заворотень! Зачем пожаловал, заворотень? — кричал он сквозь смех.Бедный мужик смутился и уже собрался было встать да уйти поскорей, как вдруг раздался медный голос Дикого-Барина:— Да что ж это за несносное животное такое? — произнес он, скрыпнув зубами.— Я ничего, — забормотал Обалдуй, — я ничего… я так…— Ну, хорошо, молчать же! — возразил Дикий-Барин. — Яков, начинай!Яков взялся рукой за горло.— Что, брат, того… что-то… Гм… Не знаю, право, что-то того…— Ну, полно, не робей. Стыдись!.. чего вертишься?.. Пой, как бог тебе велит.И Дикий-Барин потупился, выжидая.Яков помолчал, взглянул кругом и закрылся рукой. Все так и впились в него глазами, особенно рядчик, у которого на лице, сквозь обычную самоуверенность и торжество успеха, проступило невольное, легкое беспокойство. Он прислонился к стене и опять положил под себя обе руки, но уже не болтал ногами. Когда же, наконец, Яков открыл свое лицо — оно было бледно, как у мертвого; глаза едва мерцали сквозь опущенные ресницы. Он глубоко вздохнул и запел… Первый звук его голоса был слаб и неровен и, казалось, не выходил из его груди, но принесся откуда-то издалека, словно залетел случайно в комнату. Странно подействовал этот трепещущий, звенящий звук на всех нас; мы взглянули друг на друга, а жена Николая Иваныча так и выпрямилась. За этим первым звуком последовал другой, более твердый и протяжный, но всё еще видимо дрожащий, как струна, когда, внезапно прозвенев под сильным пальцем, она колеблется последним, быстро замирающим колебаньем, за вторым — третий, и, понемногу разгорячаясь и расширяясь, полилась заунывная песня. «Не одна во поле дороженька пролегала», — пел он, и всем нам сладко становилось и жутко. Я, признаюсь, редко слыхивал подобный голос: он был слегка разбит и звенел, как надтреснутый; он даже сначала отзывался чем-то болезненным; но в нем была и неподдельная глубокая страсть, и молодость, и сила, и сладость, и какая-то увлекательно-беспечная, грустная скорбь. Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала в нем и так и хватала вас за сердце, хватала прямо за его русские струны. Песнь росла, разливалась. Яковом, видимо, овладевало упоение: он уже не робел, он отдавался весь своему счастью; голос его не трепетал более — он дрожал, по той едва заметной внутренней дрожью страсти, которая стрелой вонзается в душу слушателя, и беспрестанно крепчал, твердел и расширялся. Помнится, я видел однажды, вечером, во время отлива, на плоском песчаном берегу моря, грозно и тяжко шумевшего вдали, большую белую чайку: она сидела неподвижно, подставив шелковистую грудь алому сиянью зари, и только изредка медленно расширяла свои длинные крылья навстречу знакомому морю, навстречу низкому, багровому солнцу: я вспомнил о ней, слушая Якова. Он пел, совершенно позабыв и своего соперника, и всех нас, но, видимо, поднимаемый, как бодрый пловец волнами, нашим молчаливым, страстным участьем. Он пел, и от каждого звука его голоса веяло чем-то родным и необозримо широким, словно знакомая степь раскрывалась перед вами, уходя в бесконечную даль. У меня, я чувствовал, закипали на сердце и поднимались к глазам слезы; глухие, сдержанные рыданья внезапно поразили меня… Я оглянулся — жена целовальника плакала, припав грудью к окну. Яков бросил на нее быстрый взгляд и залился еще звонче, еще слаще прежнего; Николай Иваныч потупился, Моргач отвернулся; Обалдуй, весь разнеженный, стоял, глупо разинув рот; серый мужичок тихонько всхлипывал в уголку, с горьким шёпотом покачивая головой; и по железному лицу Дикого-Барина, из-под совершенно надвинувшихся бровей, медленно прокатилась тяжелая слеза; рядчик поднес сжатый кулак ко лбу и не шевелился… Не знаю, чем бы разрешилось всеобщее томленье, если б Яков вдруг не кончил на высоком, необыкновенно тонком звуке — словно голос у него оборвался. Никто не крикнул, даже не шевельнулся; все как будто ждали, не будет ли он еще петь; но он раскрыл глаза, словно удивленный нашим молчаньем, вопрошающим взором обвел всех кругом и увидал, что победа была его…— Яша, — проговорил Дикий-Барин, положил ему руку на плечо и — смолк.Мы все стояли как оцепенелые. Рядчик тихо встал и подошел к Якову. «Ты… твоя… ты выиграл», — произнес он наконец с трудом и бросился вон из комнаты.Его быстрое, решительное движение как будто нарушило очарованье: все вдруг заговорили шумно, радостно. Обалдуй подпрыгнул кверху, залепетал, замахал руками, как мельница крыльями; Моргач, ковыляя, подошел к Якову и стал с ним целоваться; Николай Иваныч приподнялся и торжественно объявил, что прибавляет от себя еще осьмуху пива; Дикий-Барин посмеивался каким-то добрым смехом, которого я никак не ожидал встретить на его лице; серый мужичок то и дело твердил в своем уголку, утирая обоими рукавами глаза, щеки, нос и бороду: «А хорошо, ей-богу хорошо, ну, вот будь я собачий сын, хорошо!», а жена Николая Иваныча, вся раскрасневшаяся, быстро встала и удалилась. Яков наслаждался своей победой, как дитя; всё его лицо преобразилось; особенно его глаза так и засияли счастьем. Его потащили к стойке; он подозвал к ней расплакавшегося серого мужичка, послал целовальникова сынишку за рядчиком, которого, однако, тот не сыскал, и начался пир. «Ты еще нам споешь, ты до вечера нам петь будешь», — твердил Обалдуй, высоко поднимая руки.Я еще раз взглянул на Якова и вышел. Я не хотел остаться — я боялся испортить свое впечатление. Но зной был нестерпим по-прежнему. Он как будто висел над самой землей густым тяжелым слоем; на темно-синем небе, казалось, крутились какие-то мелкие, светлые огоньки сквозь тончайшую, почти черную пыль. Всё молчало; было что-то безнадежное, придавленное в этом глубоком молчании обессиленной природы. Я добрался до сеновала и лег на только что скошенную, но уже почти высохшую траву. Долго я не мог задремать; долго звучал у меня в ушах неотразимый голос Якова… Наконец жара и усталость взяли, однако ж, свое, и я заснул мертвым сном. Когда я проснулся. — всё уже потемнело; вокруг разбросанная трава сильно пахла и чуть-чуть отсырела; сквозь тонкие жерди полураскрытой крыши слабо мигали бледные звездочки. Я вышел. Заря уже давно погасла, и едва белел на небосклоне ее последний след; но в недавно раскаленном воздухе сквозь ночную свежесть чувствовалась еще теплота, и грудь всё еще жаждала холодного дуновенья. Ветра не было, не было и туч; небо стояло кругом всё чистое и прозрачно-темное, тихо мерцая бесчисленными, но чуть видными звездами. По деревне мелькали огоньки; из недалекого, ярко освещенного кабака несся нестройный, смутный гам, среди которого, мне казалось, я узнавал голос Якова. Ярый смех по временам поднимался оттуда взрывом. Я подошел к окошку и приложился лицом к стеклу. Я увидел невеселую, хотя пеструю и живую картину: всё было пьяно — всё, начиная с Якова. C обнаженной грудью сидел он на лавке и, напевая осиплым голосом какую-то плясовую, уличную песню, лениво перебирал и щипал струны гитары. Мокрые волосы клочьями висели над его страшно побледневшим лицом. Посередине кабака Обалдуй, совершенно «развинченный» и без кафтана, выплясывал вперепрыжку перед мужиком в сероватом армяке; мужичок, в свою очередь, с трудом топотал и шаркал ослабевшими ногами и, бессмысленно улыбаясь сквозь взъерошенную бороду, изредка помахивал одной рукой, как бы желая сказать: «куда ни шло!» Ничего не могло быть смешней его лица; как он ни вздергивал кверху свои брови, отяжелевшие веки не хотели подняться, а так и лежали на едва заметных, посоловелых, но сладчайших глазках. Он находился в том милом состоянии окончательно подгулявшего человека, когда всякий прохожий, заглянув ему в лицо, непременно скажет: «Хорош, брат, хорош!» Моргач, весь красный, как рак, и широко раздув ноздри, язвительно посмеивался из угла; один Николай Иваныч, как и следует истинному целовальнику, сохранял свое неизменное хладнокровие. В комнату набралось много новых лиц; но Дикого-Барина я в ней не видал.Я отвернулся и быстрыми шагами стал спускаться с холма, на котором лежит Колотовка. У подошвы этого холма расстилается широкая равнина; затопленная мглистыми волнами вечернего тумана, она казалась еще необъятней и как будто сливалась с потемневшим небом. Я сходил большими шагами по дороге вдоль оврага, как вдруг где-то далеко в равнине раздался звонкий голос мальчика. «Антропка! Антропка-а-а!..» — кричал он с упорным и слезливым отчаянием, долго, долго вытягивая последний слог.Он умолкал на несколько мгновений и снова принимался кричать. Голос его звонко разносился в неподвижном, чутко дремлющем воздухе. Тридцать раз по крайней мере прокричал он имя Антропки, как вдруг с противоположного конца поляны, словно с другого света, принесся едва слышный ответ:— Чего-о-о-о-о?Голос мальчика тотчас с радостным озлоблением закричал:— Иди сюда, чёрт леши-и-и-ий!— Заче-е-е-ем? — ответил тот спустя долгое время.— А затем, что тебя тятя высечь хочи-и-и-т, — поспешно прокричал первый голос.Второй голос более не откликнулся, и мальчик снова принялся взывать к Антропке. Возгласы его, более и более редкие и слабые, долетали еще до моего слуха, когда уже стало совсем темно и я огибал край леса, окружающего мою деревеньку и лежащего в четырех верстах от Колотовки…«Антропка-а-а!» — всё еще чудилось в воздухе, наполненном тенями ночи.
37
Евгений Замятин
ДРАКОН
Люто замороженный, Петербург горел и бредил. Было ясно: невидимые за туманной занавесью, поскрипывая, пошаркивая, на цыпочках бредут вон желтые и красные колонны, шпили и седые решетки. Горячечное, небывалое, ледяное солнце в тумане — слева, справа, вверху, внизу — голубь над загоревшимся домом. Из бредового, туманного мира выныривали в земной мир драконо-люди, изрыгали туман, слышимый в туманном мире как слова, но здесь — белые, круглые дымки; выныривали и тонули в тумане. И со скрежетом неслись в неизвестное вон из земного мира трамваи.
На трамвайной площадке временно существовал дракон с винтовкой, несясь в неизвестное. Картуз налезал на нос и, конечно, проглотил бы голову дракона, если б не уши: на оттопыренных ушах картуз засел. Шинель болталась до полу; рукава свисали; носки сапог загибались кверху — пустые. И дыра в тумане: рот.
Это было уже в соскочившем, несущемся мире, и здесь изрыгаемый драконом лютый туман был видим и слышим:
— …Веду его: морда интилигентная — просто глядеть противно. И еще разговаривает, стервь, а? Разговаривает!
— Ну, и что же — довел?
— Довел: без пересадки — в царствие небесное. Штычком.
Дыра в тумане заросла: был только пустой картуз, пустые сапоги, пустая шинель. Скрежетал и несся вон из мира трамвай.
И вдруг — из пустых рукавов — из глубины — выросли красные, драконьи, лапы. Пустая шинель присела к полу — и в лапах серенькое, холодное, материализованное из лютого тумана.
— Мать ты моя! Воробьеныш замерз, а? Ну скажи ты на милость!
Дракон сбил назад картуз — и в тумане два глаза — две щелочки из бредового в человечий мир.
Дракон изо всех сил дул ртом в красные лапы, и это были явно слова воробьенышу, но их — в бредовом мире — не было слышно. Скрежетал трамвай.
— Стервь этакая: будто трепыхнулся, а? Нет еще? А ведь отойдет, ей-бо… Ну скажи ты!
Изо всех сил дул. Винтовка валялась на полу. И в предписанный судьбою момент, в предписанной точке пространства серый воробьеныш дрыгнул, еще дрыгнул — и спорхнул с красных драконьих лап в неизвестное.
Дракон оскалил до ушей тумано-пыхающую пасть. Медленно картузом захлопнулись щелочки в человечий мир. Картуз осел на оттопыренных ушах. Проводник в царствие небесное поднял винтовку.
Скрежетал зубами и несся в неизвестное, вон из человеческого мира, трамвай.
1918
38
Синяя звезда
Давным-давно, с незапамятных времен, жил на одном высоком плоскогорье мирный пастушеский народ, отделенный от всего света крутыми скалами, глубокими пропастями и густыми лесами. История не помнит и не знает, сколько веков назад взобрались на горы и проникли в эту страну закованные в железо, чужие, сильные и высокие люди, пришедшие с юга.
Суровым воинам очень понравилась открытая ими страна с ее кротким народом, умеренно теплым климатом, вкусной водой и плодородною землею, и они решили навсегда в ней поселиться. Для этого совсем не надо было ее покорять, ибо обитатели не ведали ни зла, ни орудий войны. Все завоевание заключалось в том, что железные рыцари сняли свои тяжелые доспехи и поженились на местных красивейших девушках, а во главе нового государства поставили своего предводителя, великодушного, храброго Эрна, которого облекли королевской властью, наследственной и неограниченной. В те далекие наивные времена это еще было возможно.
Около тысячи лет прошло с той поры. Потомки воинов до такой степени перемешались через перекрестные браки с потомками основных жителей, что уже не стало между ними никакой видимой разницы ни в языке, ни в наружности: внешний образ древних рыцарей совершенно поглотился народным эрнотеррским обличьем и растворился в нем. Старинный язык, почти забытый даже королями, употребляли только при дворе и то лишь в самых торжественных случаях и церемониях или изредка для изъяснения высоких чувств и понятий. Память об Эрне Первом, Эрне Великом, Эрне Святом осталась навеки бессмертной в виде прекрасной, неувядающей легенды, сотворенной целым народом, подобной тем удивительным сказаниям, которые создали индейцы о Гайавате, финны о Вейнемейнене, русские о Владимире Красном Солнышке, евреи о Моисее, французы о Шарлемане.
Это он, Мудрый Эрн, научил жителей Эрнотерры хлебопашеству, огородничеству и обработке железной руды. Он открыл им письменность и искусство. Он же дал им начатки религии и закона; религия заключалась в чтении господней молитвы на непонятном языке, а основной закон был всего один: в Эрнотерре никто не смеет лгать. Мужчины и женщины были им признаны одинаково равными в своих правах и обязанностях, а всякие титулы и привилегии были им стерты с первого дня вступления на престол. Сам король носил лишь титул «Первого слуги народа».
Эрн Великий также установил и закон о престолонаследии, по которому наследовали престол перворожденные: все равно будь это сын или дочь, которые вступали в брак единственно по своему личному влечению. Наконец он же, Эрн Первый, знавший многое о соблазнах, разврате и злобе, царящих там, внизу, в покинутых им образованных странах, повелел разрушить и сделать навсегда недосягаемой ту страшную горную тропу, по которой впервые вскарабкались с невероятным трудом наверх он сам и его славная дружина.
И вот под отеческой, мудрой и доброй властью королей Эрнов расцвела роскошно Эрнотерра и зажила невинной, полной, чудесной жизнью, не зная ни войн, ни преступлений, ни нужды в течение целых тысячи лет.
В старом тысячелетнем королевском замке еще сохранились, как память, некоторые предметы, принадлежавшие при жизни Эрну Первому: его латы, его шлем, его меч, его копье и несколько непонятных слов, которые он вырезал острием кинжала на стене своей охотничьей комнаты. Теперь уже никто из эрнотерранов не смог бы поднять этой брони хотя бы на дюйм от земли, или взмахнуть этим мечом, хотя бы даже взяв его обеими руками, или прочитать королевскую надпись. Сохранились также три изображения самого короля: одно – профильное, в мельчайшей мозаике, другое – лицевое, красками, третье – изваянное в мраморе.
И надо сказать, что все эти три портрета, сделанные с большою любовью и великим искусством, были предметом постоянного огорчения жителей, обожавших своего первого монарха. Судя по ним, не оставалось никакого сомнения в том, что Великий, Мудрый, Справедливый, Святой Эрн – отличался исключительной, выходящей из ряда вон некрасивостью, почти уродством лица, в котором, впрочем, не было ничего злобного или отталкивающего. А между тем эрнотерраны всегда гордились своей национальной красотою и безобразную наружность первого короля прощали только за легендарную красоту его души.
Закон наследственного сходства у людей знает свои странные капризы. Иногда ребенок родится непохожим ни на отца с матерью, даже ни на дедов и прадедов, а внезапно на одного из отдаленнейших предков, отстоящих от него на множество поколений. Так и в династии Эрнов летописцы отмечали иногда рождение очень некрасивых сыновей, хотя эти явления с течением истории становились все более редкими. Правда, надо сказать, что эти уродливые принцы отличались, как нарочно, замечательно высокими душевными качествами: добротой, умом, веселостью. Таковая справедливая милость судьбы к несчастным августейшим уродам примиряла с ними эрнотерранов, весьма требовательных в вопросах красоты линий, форм и движений.
Добрый король Эрн XXIII отличался выдающейся красотой и женат был по страстной любви на самой прекрасной девушке государства. Но детей у них не было очень долго: целых десять лет, считая от свадьбы. Можно представить себе ликование народа, когда на одиннадцатом году он услышал долгожданную весть о том, что его любимая ласковая королева готовится стать матерью. Народ радовался вдвойне: и за королевскую чету, и потому, что вновь восстанавливался по прямой линии славный род сказочного Эрна. Через шесть месяцев он с восторгом услыхал о благополучном рождении принцессы Эрны XIII. В этот день не было ни одного человека в Эрнотерре, не испившего полную чашу вина за здоровье инфанты.
Не веселились только во дворце. Придворная повитуха, едва принявши младенца, сразу покачала головой и горестно почмокала языком. Королева же, когда ей принесли и показали девочку, всплеснула ладонями и воскликнула:
– Ах, Боже мой, какая дурнушка! – И залилась слезами. Но, впрочем, только на минутку. А потом, протянувши руки, сказала:
– Нет, нет, дайте мне поскорее мою крошку, я буду ее любить вдвое за то, что она, бедная, так некрасива.
Чрезвычайно был огорчен и августейший родитель.
– Надо же было судьбе оказать такую жестокость! – говорил он. – О принцах-уродах в нашей династии мы слыхали, но принцесса-дурнушка впервые появилась в древнем роде Эрнов! Будем молиться о том, чтобы ее телесная некрасивость уравновесилась прекрасными дарами души, сердца и ума.
То же самое повторил и верный народ, когда услышал о некрасивой наружности новорожденной инфанты.
Девочка между тем росла по дням и дурнела по часам. А так как она своей дурноты еще не понимала, то в полной беззаботности крепко спала, с аппетитом кушала и была превеселым и прездоровым ребенком. К трем годкам для всего двора стало очевидным ее поразительное сходство с портретами Эрна Великого. Но уже в этом нежном возрасте она обнаруживала свои прелестные внутренние качества: доброту, терпение, кротость, внимание к окружающим, любовь к людям и животным, ясный, живой, точный ум и всегдашнюю приветливость.
Около этого времени королева однажды пришла к королю и сказала ему:
– Государь мой и дорогой супруг. Я хочу просить у вас большой милости для нашей дочери.
– Просите, возлюбленная моя супруга, хотя вы знаете сами, что я ни в чем не могу отказать вам.
– Дочь наша подрастает, и, по-видимому, Бог послал ей совсем необычный ум, который перегоняет ее телесный рост. Скоро наступит тот роковой день, когда добрая, ненаглядная Эрна убедится путем сравнения в том, как исключительно некрасиво ее лицо. И я боюсь, что это сознание принесет ей очень много горя и боли не только теперь, но и во всей ее будущей жизни.
– Вы правы, дорогая супруга. Но какою же моею милостью думаете вы отклонить или смягчить этот неизбежный удар, готовящийся для нашей столь любимой дочери?
– Не гневайтесь, государь, если моя мысль покажется вам глупой. Необходимо, чтобы Эрна никогда не видела своего отражения в зеркале. Тогда, если чей-нибудь злой или неосторожный язык и скажет ей, что она некрасива, – она все-таки никогда не узнает всей крайности своего безобразия.
– И для этого вы хотели бы?
– Да… Чтобы в Эрнотерре не осталось ни одного зеркала!
Король задумался. Потом сказал:
– Это будет большим лишением для нашего доброго народа. Благодаря закону моего великого пращура о равноправии полов женщины и мужчины Эрнотерры одинаково кокетливы. Но мы знаем глубокую любовь к нам и испытанную преданность нашего народа королевскому дому и уверены, что он охотно принесет нам эту маленькую жертву. Сегодня же я издам и оповещу через герольдов указ наш о повсеместном изъятии и уничтожении зеркал, как стеклянных, так и металлических, в нашем королевстве.
Король не ошибся в своем народе, который в те счастливые времена составлял одну тесную семью с королевской фамилией. Эрнотерраны с большим сочувствием поняли, какие деликатные мотивы руководили королевским повелением, и с готовностью отдали государственной страже все зеркала и даже зеркальные осколки. Правда, шутники не воздержались от веселой демонстрации, пройдя мимо дворца с взлохмаченными волосами и с лицами, вымазанными грязью. Но когда народ смеется, даже с оттенком сатиры, монарх может спать спокойно.
Жертва, принесенная королю подданными, была тем значительнее, что все горные ручьи и ручейки Эрнотерры были очень быстры и потому не отражали предметов.
Принцессе Эрне шел пятнадцатый год. Она была крепкой, сильной девушкой и такой высокой, что превышала на целую голову самого рослого мужчину. Была одинаково искусна как в вышивании легких тканей, так и в игре на арфе… В бросании мяча не имела соперников и ходила по горным обрывам, как дикая коза. Доброта, участие, справедливость, сострадание изливались из нее, подобно лучам, дающим вокруг свет, тепло и радость. Никогда не уставала она в помощи больным, старым и бедным. Умела перевязывать раны и знала действие и природу лечебных трав. Истинный дар небесного царя земным королям заключался в ее чудесных руках: возлагая их на золотушных и страдающих падучей, она излечивала эти недуги. Народ боготворил ее и повсюду провожал благословениями. Но часто, очень часто ловила на себе чуткая и нежная Эрна бегучие взгляды, в которых ей чувствовалась молчаливая жалость, тайное соболезнование…
«Может быть, я не такая, как все?» – думала принцесса и спрашивала своих фрейлин:
– Скажите мне, дорогие подруги, красива я или нет?
И так как в Эрнотерре никто не лгал, то придворные девицы отвечали ей чистосердечно:
– Вас нельзя назвать, принцесса, красавицей, но, бесспорно, вы милее, умнее и добрее всех девушек и дам на свете. Поверьте, то же самое скажет вам и тот человек, которому суждено будет стать вашим мужем. А ведь мы, женщины, плохие судьи в женских прелестях.
И верно: им было трудно судить о наружности Эрны. Ни ростом, ни телом, ни сложением, ни чертами лица – ничем она не была хоть отдаленно похожа на женщин Эрнотерры.
Тот день, когда Эрне исполнилось пятнадцать лет – срок девической зрелости по законам страны, – был отпразднован во дворце роскошным обедом и великолепным балом. А на следующее утро добросердечная Эрна собрала в ручную корзину кое-какие редкие лакомства, оставшиеся от вчерашнего пира, и, надев корзину на локоть, пошла в горы, мили за четыре, навестить свою кормилицу, к которой она была очень горячо привязана. Против обыкновения, ранняя прогулка и чистый горный воздух не веселили ее. Мысли все вращались около странных наблюдений, сделанных ею на вчерашнем балу. Душа Эрны была ясна и невинна, как вечный горный снег, но женский инстинкт, зоркий глаз и цветущий возраст подсказали ей многое. От нее не укрылись те взгляды томности, которые устремляли друг на друга танцевавшие юноши и девушки. Но ни один такой говорящий взор не остановился на ней: лишь покорность, преданность, утонченную вежливость читала она в почтительных улыбках и низких поклонах. И всегда этот неизбежный, этот ужасный оттенок сожаления! Неужели я в самом деле так безобразна? Неужели я урод, страшилище, внушающее отвращение, и никто мне не смеет сказать об этом?
В таких печальных размышлениях дошла Эрна до дома кормилицы и постучалась, но, не получив ответа, открыла дверь (в стране еще не знали замков) и вошла внутрь, чтобы обождать кормилицу: это она иногда делала и раньше, когда ее не заставала.
Сидя у окна, отдыхая и предаваясь своим грустным мыслям, бродила принцесса рассеянными глазами по давно знакомой мебели и по утвари, как вдруг внимание ее привлекла заповедная кормилицына шкатулка, в которой та хранила всяческие пустяки, связанные с ее детством, с девичеством, с первыми шагами любви, с замужеством и с пребыванием во дворце: разноцветные камушки, брошки, вышивки, ленточки, печатки, колечки и другая наивная и дешевая мелочь; принцесса еще с раннего детства любила рыться в этих сувенирах, и хотя знала наизусть их интимные истории, но всегда слушала их вновь с живейшим удовольствием. Только показалось ей немного странным, почему ларец стоит так на виду: всегда берегла его кормилица в потаенном месте, а когда, бывало, ее молочная дочь вдоволь насмотрится, завертывала его в кусок нарядной материи и бережно прятала.
«Должно быть, теперь очень заторопилась, выскочила на минутку из дома и забыла спрятать», – подумала принцесса, присела к столу, небрежно положила укладочку на колени и стала перебирать одну за другой знакомые вещички, бросая их поочередно себе на платье. Так добралась Эрна до самого дна и вдруг заметила какой-то косоугольный, большой плоский осколок. Она вынула его и посмотрела. С одной стороны он был красный, а с другой – серебряный, блестящий и как будто бы глубокий. Присмотрелась и увидела в нем угол комнаты с прислоненной метлой… Повернула немного – отразился старый, узкий, деревянный комод, еще немножко… и выплыло такое некрасивое лицо, какого принцесса и вообразить никогда бы не сумела.
Подняла она брови кверху – некрасивое лицо делает то же самое. Наклонила голову – лицо повторило. Провела руками по губам – и в осколке отразилось это движение. Тогда поняла вдруг Эрна, что смотрит на нее из странного предмета ее же собственное лицо. Уронила зеркальце, закрыла глаза руками и в горести пала головою на стол.
В эту же минуту вошла вернувшаяся кормилица. Увидала принцессу, забытую шкатулку, осколок зеркала и сразу обо всем догадалась. Бросилась перед Эрной на колени, стала говорить нежные, жалкие слова. Принцесса же быстро поднялась, выпрямилась с сухими глазами, но с гневным взором и приказала коротко:
– Расскажи мне все.
И показала пальцем на зеркало. И такая неожиданная, но непреклонная воля зазвучала в ее голосе, что простодушная женщина не посмела ослушаться, все передала принцессе: об уродливых добрых принцах, о горе королевы, родившей некрасивую дочь, о ее трогательной заботе, с которой она старалась отвести от дочери тяжелый удар судьбы, и о королевском указе об уничтожении зеркал. Плакала кормилица при своем рассказе, рвала волосы и проклинала тот час, когда, на беду своей ненаглядной Эрне, утаила она по глупой женской слабости осколок запретного зеркала в заветном ларце.
Выслушав ее до конца, принцесса сказала со скорбной улыбкой:
– В Эрнотерре никто не смеет лгать!
И вышла из дома. Встревоженная кормилица хотела было за нею последовать. Но Эрна приказала сурово:
– Останься.
Кормилица повиновалась. Да и как ей было ослушаться? В этом одном слове она услышала не всегдашний кроткий голос маленькой Эрны, сладко сосавшей когда-то грудь, а приказ гордой принцессы, предки которой господствовали тысячу лет над ее народом.
Шла несчастная Эрна по крутым горным дорогам, и ветер трепал на ней ее легкое длинное голубое платье. Шла она по самому краю отвесного обрыва. Внизу, под ее ногами, темнела синяя мгла пропасти и слышался глухой рев водопадов, как бы повисших сверху белыми лентами. Облака бродили под ее ногами в виде густых хмурых туманов. Но ничего не видела и не хотела видеть Эрна, скользившая над бездной привычными легкими ногами. А ее бурные чувства, ее тоскливые мысли на этом одиноком пути? Кто их смог бы понять и рассказать о них достоверно? Разве только другая принцесса, другая дочь могучего монарха, которую слепой рок постиг бы столь же внезапно, жестоко и незаслуженно…
Так дошла она до крутого поворота, под которым давно обвалившиеся скалы нагромоздились в грозном беспорядке, и вдруг остановилась. Какой-то необычный звук донесся до нее снизу, сквозь гул водопада. Она склонилась над обрывом и прислушалась. Где-то глубоко под ее ногами раздавался стонущий и зовущий человеческий голос. Тогда, забыв о своем огорчении, движимая лишь велением сердечной доброты, стала спускаться Эрна в пропасть, перепрыгивая с уступа на уступ, с камня на камень, с утеса на утес с легкостью молодого оленя, пока не утвердилась на небольшой площадке, размером немного пошире мельничного жернова. Дальше уже не было спуска. Правда, и подняться обратно наверх теперь стало невозможным, но самозабвенная Эрна об этом даже не подумала.
Стонущий человек находился где-то совсем близко, под площадкой. Легши на камень и свесивши голову вниз, Эрна увидела его. Он полулежал-полувисел на заостренной вершине утеса, уцепившись одной рукой за его выступ, а другой за тонкий ствол кривой горной сосенки; левая нога его упиралась в трещину, правая же не имела опоры. По одежде он не был жителем Эрнотерры, потому что принцесса ни шелка, ни кружев, ни замшевых краг, ни кожаных сапог со шпорами, ни поясов, тисненных золотом, никогда еще не видела.
Она звонко крикнула ему:
– Огэй! Чужестранец! Держитесь крепко, я помогу вам.
Незнакомец со стоном поднял кверху бледное лицо, черты которого ускользали в полутьме, и кивнул головой. Но как же могла помочь ему великодушная принцесса? Спуститься ниже для нее было и немыслимо и бесполезно. Если бы была веревка!.. Высота всего лишь в два крупных человеческих роста отделяла принцессу от путника. Как быть?
И вот, точно молния, озарила Эрну одна из тех вдохновенных мыслей, которые сверкают в опасную минуту в головах смелых и сильных людей. Быстро скинула она с себя свое прекрасное голубое платье, сотканное из самого тонкого и крепкого льна; руками и зубами разорвала его на широкие длинные полосы, ссучила эти полосы в тонкие веревки и связала их одну с другой, перевязав еще несколько раз для крепости посередине. И вот, лежа на грубых камнях, царапая о них руки и ноги, она спустила самодельную веревку и радостно засмеялась, когда убедилась, что ее не только хватило, но даже оказался большой запас. И, увидев, что путник, с трудом удерживая равновесие между расщелиной скалы и сосновым стволом, ухитрился привязать конец веревки к своему поясу из буйволовой кожи, Эрна начала осторожно вытягивать веревку вверх. Чужеземец помогал ей в этом, цепляясь руками за каждые неровности утеса и подтягивая кверху свое тело. Но когда голова и грудь чужеземца показались над краем площадки, то силы оставили его, и Эрне лишь с великим трудом удалось вытащить его на ровное место.
Так как обоим было слишком тесно на площадке, то Эрне пришлось, сидя, положить голову незнакомца к себе на грудь, а руками обвить его ослабевшее тело.
– Кто ты, о волшебное существо? – прошептал юноша побелевшими устами. – Ангел ли, посланный мне с неба? Или добрая фея этих гор? Или ты одна из прекрасных языческих богинь?
Принцесса не понимала его слов. Зато говорил ясным языком нежный, благодарный и восхищенный взор его черных глаз. Но тотчас его длинные ресницы сомкнулись, смертельная бледность разлилась по лицу, и юноша потерял сознание на груди принцессы Эрны.
Она же сидела, поневоле не шевелясь, не выпуская его из объятий и не сводя с его лица синих звезд, своих глаз. И тайно размышляла Эрна:
«Он так же некрасив, этот несчастный путник, как я, как и мой славный предок Эрн Великий. По-видимому, все мы трое люди одной и той же особой породы, физическое уродство которой так резко и невыгодно отличается от классической красоты жителей Эрнотерры. Но почему взгляд его, обращенный ко мне, был так упоительно сладок? Как жалки перед ним те умильные взгляды, которые вчера бросали наши юноши на девушек, танцуя с ними! Они были как мерцание свечки сравнительно с сиянием горячего полуденного солнца. И отчего же так быстро бежит кровь в моих жилах, отчего пылают мои щеки и бьется сердце, отчего дыхание мое так глубоко и радостно? Господи! это твоя воля, что создал ты меня некрасивой, и я не ропщу на тебя. Но для него одного я хотела бы быть красивее всех девиц на свете!»
В это время наверху послышались голоса. Кормилица, правда, нескоро оправилась от оцепенения, в которое ее поверг властный приказ принцессы. Но едва оправившись, она тотчас же устремилась вслед своей дорогой дочке. Увидев, как Эрна спускалась прыжками со скал, и услышав, стоны, доносившиеся из пропасти, умная женщина сразу догадалась, в чем дело и как надо ей поступить. Она вернулась в деревню, всполошила соседей и вскоре заставила их всех бежать бегом с шестами, веревками и лестницами к обрыву. Путешественник был бесчувственным невредимо извлечен из бездны, но, прежде чем вытаскивать принцессу, кормилица спустила ей вниз на бечевке свои лучшие одежды. Потом чужой юноша был по приказанию Эрны отнесен во дворец и помещен в самой лучшей комнате. При осмотре у него оказалось несколько тяжелых ушибов и вывих руки, кроме того, у него была горячка. Сама принцесса взяла на себя уход за ним и лечение. Этому никто не удивился: при дворце знали ее сострадание к больным и весьма чтили ее медицинские познания. Кроме того, больной юноша хотя и был очень некрасив, но производил впечатление знатного господина.
Надо ли длинно и подробно рассказывать о том, что произошло дальше? О том, как благодаря неусыпному уходу Эрны иностранец очнулся наконец от беспамятства и с восторгом узнал свою спасительницу. Как быстро стал он поправляться здоровьем. Как нетерпеливо ждал он каждого прихода принцессы и как трудно было Эрне с ним расставаться. Как они учились друг у друга словам чужого языка. Как однажды нежный голос чужестранца произнес сладостное слово «amo!» и как Эрна его повторила робким шепотом, краснея от радости и стыда. И существует ли хоть одна девушка в мире, которая не поймет, что «amo» значит «люблю», особенно когда это слово сопровождается первым поцелуем?
Любовь – лучшая учительница языка. К тому времени, когда юноша, покинув постель, мог прогуливаться с принцессой по аллеям дворцового сада, они уже знали друг о друге все, что им было нужно. Спасенный Эрною путник оказался единственным сыном могущественного короля, правившего богатым и прекрасным государством – Францией. Имя его было Шарль. Страстное влечение к путешествиям и приключениям привело его в недоступные грозные горы Эрнотерры, где его однажды покинули робкие проводники, а он сам, сорвавшись с утеса, едва не лишился жизни. Не забыл он также рассказать Эрне о гороскопе, который составил для него при его рождении великий французский предсказатель Нострадамус и в котором стояла, между прочим, такая фраза:
«…И в диких горах на северо-востоке увидишь сначала смерть, потом же синюю звезду; она тебе будет светить всю жизнь».
Эрна тоже, как умела, передала Шарлю историю Эрнотерры и королевского дома. Не без гордости показала она ему однажды доспехи великого Эрна. Шарль оглядел их с подобающим почтением, легко проделал несколько фехтовальных приемов тяжелым королевским мечом и нашел, что портреты пращура Эрны изображают человека, которому одинаково свойственны были красота, мудрость и величие. Прочитавши же надпись на стене, вырезанную Эрном Первым, он весело и лукаво улыбнулся.
– Чему вы смеетесь, принц? – спросила обеспокоенная принцесса.
– Дорогая Эрна, – ответил Шарль, целуя ее руку, – причину моего смеха я вам непременно скажу, но только немного позже.
Вскоре принц Шарль попросил у короля и королевы руку их дочери: сердце ее ему уже давно принадлежало. Предложение его было принято. Совершеннолетние девушки Эрнотерры пользовались полной свободой выбора мужа, и, кроме того, молодой принц во всем своем поведении являл несомненные знаки учтивости, благородства и достоинства. По случаю помолвки было дано много праздников для двора и для народа, на которых веселились вдоволь и старики и молодежь. Только королева-мать грустила потихоньку, оставаясь одна в своих покоях. «Несчастные! – думала она. – Какие безобразные у них родятся дети!..»
В эти дни, глядя вместе с женихом на танцующие пары, Эрна как-то сказала ему:
– Мой любимый! Ради тебя я хотела бы быть похожей хоть на самую некрасивую из женщин Эрнотерры.
– Да избавит тебя Бог от этого несчастья, о моя синяя звезда! – испуганно возразил Шарль. – Ты прекрасна!
– Нет, – печально возразила Эрна, – не утешай меня, дорогой мой. Я знаю все свои недостатки. У меня слишком длинные ноги, слишком маленькие ступни и руки, слишком высокая талия, чересчур большие глаза противного синего, а не чудесного желтого цвета, а губы, вместо того, чтобы быть плоскими или узкими, изогнуты наподобие лука.
Но Шарль целовал без конца ее белые руки с голубыми жилками и длинными пальцами и говорил ей тысячи изысканных комплиментов, а глядя на танцующих эрнотерранов, хохотал как безумный.
Наконец праздники окончились. Король с королевой благословили счастливую пару, одарили ее богатыми подарками и отправили в путь. (Перед этим добрые жители Эрнотерры целый месяц проводили горные дороги и наводили временные мосты через ручьи и провалы.) А спустя еще месяц принц Шарль уже въезжал с невестой в столицу своих предков.
Известно давно, что добрая молва опережает самых быстрых лошадей. Все население великого города Парижа вышло навстречу наследному принцу, которого все любили за доброту, простоту и щедрость. И не было в тот день не только ни одного мужчины, но даже ни одной женщины, которые не признали бы Эрну первой красавицей в государстве, а следовательно, и на всей земле. Сам король, встречая свою будущую невестку в воротах дворца, обнял ее, запечатлел поцелуй на ее чистом челе и сказал:
– Дитя мое, я не решаюсь сказать, что в тебе лучше, красота или добродетель: ибо обе мне кажутся совершенными…
А скромная Эрна, принимая эти почести и ласки, думала про себя:
«Это очень хорошо, что судьба привела меня в царство уродов: по крайней мере, никогда мне не представится предлог для ревности».
И этого убеждения она держалась очень долго, несмотря на то что менестрели и трубадуры славили по всем концам света прелести ее лица и характера, а все рыцари государства носили синие цвета в честь ее глаз.
Но вот прошел год, и к безмятежному счастью, в котором протекал брак Шарля и Эрны, прибавилась новая чудесная радость: у Эрны родился очень крепкий и очень крикливый мальчик. Показывая его впервые своему обожаемому супругу, Эрна сказала застенчиво: – Любовь моя! Мне стыдно признаться, но я… я нахожу его красавцем, несмотря на то что он похож на тебя, похож на меня и ничуть не похож на моих добрых соотечественников. Или это материнское ослепление? На это Шарль ответил, улыбаясь весело и лукаво:
– Помнишь ли ты, божество мое, тот день, когда я обещал перевести тебе надпись, вырезанную Эрном Мудрым на стене охотничьей комнаты?
– Да, любимый!
– Слушай же. Она была сделана на старом латинском языке и вот что гласила: «Мужчины моей страны умны, верны и трудолюбивы; женщины – честны, добры и понятливы. Но – прости им Бог – и те и другие безобразны».
39
Александр Иванович Куприн
Демир-Кая
Восточная легенда
Текст сверен с изданием: А. И. Куприн. Собрание сочинений в 9 томах. Том 4. М.: Худ. литература, 1971. С. 308- 310.
Ветер упал. Может быть, сегодня нам придется ночевать в море. До берега тридцать верст. Двухмачтовая фелюга лениво покачивается с боку на бок. Мокрые паруса висят.
Белый туман плотно окружил судно. Не видно ни звезд, ни неба, ни моря, ни ночи.
Огня мы не зажигаем.
Сеид-Аблы, старый, грязный и босой капитан фелюги, тихим, важным, глубоким голосом рассказывает древнюю историю, которой я верю от всего сердца. Верю потому, что ночь так странно молчалива, потому, что под нами спит невидимое море, и мы, окутанные туманом, плывем медленно в белых густых облаках.
———
«Звали его Демир-Кая. По-вашему это значит — Железная Скала. Так называли его за то, что этот человек не ведал ни жалости, ни стыда, ни страха.
Он разбойничал со своей шайкой в окрестностях Стамбула, и в благословенной Фессалии, и в гористой Македонии, и на тучных пастбищах болгарских. Девяносто девять человек погибло от его руки, и в числе том были женщины, старики и дети.
Но вот однажды в горах его окружило сильное войско падишаха — да продлит аллах дни его! Три дня отбивался Демир-Кая, точно волк от стаи собак. На утро четвертого дня он прорвался, но — один. Часть его товарищей погибла во время яростной погони, остальные же приняли смерть от руки палача в Стамбуле на круглой площади.
Израненный, истекающий кровью, лежал Демир-Кая у костра в неприступной пещере, где его приютили дикие горные пастухи. И вот среди ночи явился к нему светлый ангел с пылающим мечом. Узнал Демир-Кая вестника смерти, посланника неба Азраила, и сказал:
— Да будет воля аллаха! Я готов. Но ангел сказал:
— Нет, Демир-Кая, час твой еще не пришел. Слушай волю божию. Когда ты встанешь с одра смерти, пойди, вырой из земли твои сокровища и обрати их в золото. Потом ты пойдешь прямо на восток и будешь идти до тех пор, пока не дойдешь до места, где сходятся семь дорог. Там построишь ты дом с прохладными комнатами, с широкими диванами, с чистой водой в фонтанах для омовений, с едой и питьем для странников, с ароматным кофе и благовонным наргиле для усталых. Зови к себе всех, кто идет и едет мимо, и служи им как последний раб. Пусть твой дом будет их домом, твое золото — их золотом, твой труд — их отдохновением. И знай, что настанет время, когда аллах забудет твои тяжкие грехи и простит тебе кровь детей его.
Но Демир-Кая спросил:
— Какое же знамение даст мне господь, что грехи мои прощены?
И ангел ответил:
— Из костра, что тлеет возле тебя, возьми обгорелую головню, покрытую пеплом, и посади в землю. И когда мертвое дерево оденется корой, пустит ростки и зацветет, то знай — настал час твоего искупления.
Прошло с тех пор двадцать лет. По всей стране падишаха — да продлит аллах дни его! — шла слава о гостинице у семи дорог на пути из Джедды в Смирну. Нищий уходит оттуда с рупиями в дорожной суме, голодный — сытым, усталый бодрым, раненый — исцеленным.
Двадцать лет, двадцать долгих лет глядел каждый вечер Демир-Кая на чудесный обрубок дерева, вкопанный во дворе, но он оставался черен и мертв. Потускнели у Демир-Кая орлиные глаза, согнулся его могучий стан, и волосы на голове его стали белы, как крылья ангела.
Но вот однажды ранним утром услышал он конский топот, и выбежал на дорогу, и увидел всадника, который мчался на взмыленной лошади. Кинулся к нему Демир-Кая, схватил коня под уздцы и молил всадника:
— О брат мой, зайди в дом ко мне. Освежи лицо свое водою, подкрепи себя пищей и питьем, услади уста твои сладким благоуханием кальяна.
Но путник крикнул в злобе:
— Пусти меня, старик! Пусти!
И плюнул он в лицо Демир-Кая, и ударил его рукояткою бича по голове, и поскакал дальше.
Загорелась в Демир-Кая гордая разбойничья кровь. Поднял он с земли тяжелый камень, и бросил его вслед обидчику, и разбил ему череп. Покачался всадник на седле, схватился за голову, упал на дорожную пыль.
С ужасом в сердце подбежал к нему Демир-Кая и сказал скорбно:
— Брат мой, я убил тебя!
Но умирающий ответил:
— Не ты убил меня, а рука аллаха. Слушай. Паша нашего вилайета — жестокий, алчный, несправедливый человек. Мои друзья затеяли против него заговор. Но я прельстился богатой денежной наградой. Я хотел их выдать. И вот, когда я торопился с моим доносом, меня остановил камень, брошенный тобою. Так хочет бог. Прощай.
Удрученный горем, вернулся Демир-Кая в свой двор. Лестница добродетели и раскаяния, по которой он так терпеливо всходил вверх целых двадцать лет, подломилась под ним и рухнула в один короткий миг летнего утра.
В отчаянии поглядел он туда, где взор его привык ежедневно останавливаться на черной, обугленной головне. И вдруг — о, чудо! — он видит, что на его глазах умершее дерево пускает ростки, покрывается почками, одевается благоуханной зеленью и расцветает нежными желтыми цветами.
Тогда упал Демир-Кая и радостно заплакал. Ибо он понял, что великий и всемилостивый аллах в неизреченной премудрости своей простил ему девяносто девять загубленных жизней за смерть одного предателя».
<1906>
40
Богомолов Владимир
Первая любовь
Владимир Богомолов
«Первая любовь»
Рассказ
Мы лежали, крепко прижавшись друг к другу, и земля не казалась нам жесткой, холодной и сырой, какой была на самом деле.
Мы встречались уже полгода — с тех пор, как она прибыла в наш полк. Мне было девятнадцать, а ей — восемнадцать лет.
Мы встречались тайком: командир роты и санитарка. И никто не знал о нашей любви и о том, что нас уже трое…
— Я чувствую, это мальчик! — шепотом в десятый раз уверяла она. Ей страшно хотелось мне угодить: — И весь в тебя!
— В крайнем случае согласен и на девочку. И пусть будет похожа на тебя! думая совсем о другом, прошептал я.
Метрах в пятистах впереди, в блиндажах и прямо в окопах, спали бойцы и сержанты моей роты. Еще дальше, за линией боевого охранения, освещаемой редкими вспышками немецких ракет, затаилась скрытая темнотой высота 162.
На рассвете моей роте предстояло совершить то, что неделю назад не смогла сделать рота штрафников — захватить высоту. Об этом в батальоне пока знало только пятеро офицеров, те, кого вечером вызвал в штабную землянку майор, командир полка. Ознакомив нас с приказом, он повторил мне:
— …Значит, помни: сыграют «катюши», зеленые ракеты, и ты пойдешь… Соседи тоже поднимутся, но высоту будешь брать ты!
…Мы лежали, тесно прижавшись друг к другу, и, целуя ее, я не мог не думать о предстоящем бое. Но еще более меня волновала ее судьба, и я мучительно соображал: что же делать?
— …Я должна теперь спать за двоих, — меж тем шептала она окающим певучим говорком. — Знаешь, по ночам мне часто кажется, что наступит утро, и все это кончится. И окопы, и кровь, и смерть… Третий год уже — ведь не может же она продолжаться вечно?.. Представляешь: утро, всходит солнышко, а войны нет, совсем нет.
— Я пойду сейчас к майору! — Высвободив руку из-под ее головы, я решительно поднялся: — Я ему все расскажу, все! Пусть тебя отправят домой. Сегодня же!
— Да ты что? — привстав, она поймала меня за рукав и с силой притянула к себе. — Ложись!.. Ну какой же ты дурень!.. Да майор с тебя шкуру спустит!
И, подражая низкому, грубоватому голосу командира полка, натужным шепотом медленно забасила:
— Сожительство с подчиненными не повышает боеспособность части, а командиры теряют авторитет. Узнаю — выгоню любого! С такой характеристикой, что и на порядочную гауптвахту не примут… Выиграйте войну и любите кого хотите и сколько хотите. А сейчас — запрещаю!..
Голос у нее сорвался, а она, довольная, откинулась навзничь и смеялась беззвучно, — чтобы нас не услышали.
Да, я знал, что мне не поздоровится. Майор был человеком самых строгих правил, убежденным, что на войне женщинам не место, а любви — тем более.
— А я все равно к нему пойду!
— Тихо! — Она прижалась лицом к моей щеке и после небольшой паузы, вздохнув, зашептала: — Я все сделаю сама! Я уже продумала. Отцом ребенка будешь не ты!
— Не я?! — Меня бросило в жар. — То есть как не я?
— Ну какой же ты глупыш! — весело удивилась она. — Нет, не дай бог, чтобы он был похож на тебя!.. Понимаешь, в документах и вообще отцом будешь ты. А сейчас я скажу на другого!
Она была так по-детски простодушна и правдива, что подобная хитрость поразила меня. — На кого же ты скажешь?
— На кого-нибудь из убывших. Ну, хотя бы на Байкова.
— Нет, убитых не трогай.
— Тогда… на Киндяева.
Старшина Киндяев, красивый беспутный малый, был выпивоха и вор, отправленный недавно в штрафную.
Растроганный, я откинул полу шинели и рывком привлек ее к себе.
— Тихо! — Она испуганно уперлась кулачками мне в грудь. — Ты раздавишь нас! (Она уже начала говорить о себе во множественном числе и по-ребячьи радовалась при этом.) Глупыш ты мой!.. Нет, это твое счастье, что ты меня встретил. Со мной не пропадешь!
Она смеялась задорно и беззаботно, а мне было совсем не до смеха.
— Слушай, ты должна пойти к майору сейчас же!
— Ночью?.. Да ты что?!
— Я тебя провожу! Объяснишь ему и скажи, что тебе плохо, что ты больше не можешь!
— Но это ж неправда!
— Я прошу тебя!.. Как ты будешь?.. Ты должна уехать! Ты пойми… а вдруг… А если завтра в бой?
— В бой? — Она вмиг насторожилась, очевидно все поняв. — Нет, это правда?
— Да.
Некоторое время она лежала молча. По ее дыханию — такому знакомому — я почувствовал, что она взволнована.
— Что ж… от боев не бегают. Да и не убежишь… Все равно, пока меня комиссуют и будет приказ по дивизии, пройдет несколько дней… Я пойду к майору завтра же. Решено?
Я молчал, силясь что-либо придумать и не зная, что ей сказать.
— Думаешь, мне легко к нему идти? — вдруг прошептала она. — Да легче умереть!.. Сколько раз он мне говорил: «Смотри, будь умницей!»… А я… А еще комсомолка…
Всхлипнув, она отвернулась и, уткнув лицо в рукав шинели, вся сотрясаясь, беззвучно заплакала. Я с силой обнял се и молча целовал маленькие губы, лоб, соленые от слез глаза.
— Пусти, я пойду, — отстраняя меня, еле слышно вымолвила она. — Ты проводишь?..
…Мы спускались в темную, сырую балку, где помешался батальонный медпункт, и я поддерживал ее сзади за талию, чуть начавшую полнеть. Я поддерживал ее обеими руками, страховал каждый ее шаг. Чтобы она не оступилась, не оскользнулась, не упала. Словно я мог уберечь ее, оградить от войны, от боя на заре, где ей предстояло бегать, падать и перетаскивать на себе раненых…
***
С тех пор прошло пятнадцать лет, но я помню все так, будто это было вчера.
На рассвете сыграли «катюши», неистово били минометы и дивизионная артиллерия, взлетели зеленые ракеты…
А когда взошло солнце, я с остатками роты ворвался на высоту. Спустя полчаса в немецкой добротной траншее командир полка и еще кто-то, поздравляя, обнимали меня и жали мне руки. А я стоял, как столб, как пень, ничего не чувствуя, не видя и не слыша.
Солнце… если б я мог загнать его назад, за горизонт! Если б я мог вернуть рассвет!.. Ведь всего два часа назад нас было трое…
Но оно поднималось медленно, неумолимо, я стоял на высоте, а она… она осталась там, позади, где уже лазали бойцы похоронной команды…
И никто, никто и не подозревал, кем она была для меня и что нас было трое…
1958 г.
41
Александр Грин
«Игрушка»
«Игрушка»
I
В один из прекрасных осенних дней, полных светлой холодной задумчивости, неяркого сияния солнца и желтых, бесшумно падающих листьев, я гулял в городском саду. Аллеи были пусты, пахло прелью, земляной сыростью; в багрянце листвы светилось чистое голубое небо. Это был старинный провинциальный сад, изрезанный вдоль и поперек неправильными тропинками; сад с оврагами, густо поросшими крапивой; с кирпичами, мостиками и полусгнившими ротондами. Огромные столетние липы и березы почти закрывали небо; в их влажной сочной тени было так хорошо прилечь, наблюдая маленьких красногрудых снегирей, прыгавших по земле.
Я шел, помахивая тросточкой, вполне довольный настоящей минутой, тишиной и легкими послеобеденными мыслями. Повернув с аллеи на узкую кривую тропинку, я заметил двух мальчуганов, присевших на корточки в густой высокой траве, и подошел к ним совсем близко.
Сейчас трудно припомнить, почему это так вышло. Я человек довольно замкнутый и неохотно сталкивающийся с кем бы то ни было, даже с детьми;
возможно, что меня привлекло сосредоточенное молчание маленьких незнакомцев, изредка прерываемое тихими напряженными возгласами.
Оба так погрузились в свое занятие, что я, незамеченный, очутился от них не далее десяти шагов и притаился за деревом. Мальчики продолжали возиться, устраивая что-то свое, понятное им и никому более. Вытянув шею, я разглядел обоих. Один, постарше, лет, вероятно, двенадцати, круглоголовый и низенький, выглядел сильным, задорным крепышом, румяный и загорелый. Другой, тоненький, высокий, с бледным, истощенным лицом и оттопыренными ушами, производил более симпатичное впечатление; природа как будто пожалела его, наградив парой чудных выразительных глаз. Одеты были оба они в летние гимназические блузы и белые форменные фуражки. Крапива и лопухи мешали мне хорошенько рассмотреть странное сооружение, возведенное мальчиками. Я был уверен, что эта незаконченная постройка превратится со временем в уродливую глыбу земли и палок под громким именем «Крепости Меткой Руки» или «Форта
Бизонов» — забава, которой увлекался и я в те блаженные времена, когда длина моих брюк не превышала еще одного аршина.
Пока я гадал, старший мальчик согнулся, стругая что-то перочинным ножом, и я увидел два невысоких кола, торчавших из земли очень близко друг к другу. Верхние концы их соединялись короткой, прибитой гвоздями перекладиной. Тут же сзади бледного мальчугана валялась грязная скомканная тряпка.
Круглоголовый сунул руку за пазуху и сказал:
— Думал — потерял. А она здесь.
Он вытащил что-то зажатое в кулак и показал приятелю. Потом бросил на землю. Это была бечевка, смотанная клубком. А я услышал в этот момент тоненькие неопределенные звуки, выходившие, казалось, из-под земли.
Гимназистик кончил строгать и встал. В руках у него был толстый заостренный кусок дерева. Он воткнул его в землю между вертикально торчащими кольями, взял бечевку и крепко, аккуратно завязал один ее конец вокруг только что воткнутого колышка. Другой конец спустил через перекладину, и я увидел… петлю. Младший, упираясь руками в согнутые колени, внимательно следил за работой, старательно помогая товарищу бровями и языком, точь-в-точь как на уроке чистописания.
— Готово, Синицын! — сказал крепыш и, быстро оглянувшись, прибавил торжественным, сухим голосом: — Ведите преступника!
II
И тут я сделался свидетелем неожиданной отвратительной сцены. Грязная тряпка оказалась мешком. Синицын встряхнул его, и на траву, беспомощно расставляя крошечные дрожащие лапы, вывалился слепой котенок. Он шатался, тыкался головой в траву и жалобно, тонко скулил, дрожа всем тельцем.
— Ревет! — сказал Синицын, любопытно следя за его движениями. — Смотри,
Буланов, — на тебя пополз!..
— Он думает, что мы его оправдаем, — сердито отозвался Буланов, хватая котенка поперек туловища. — Знаешь, Синицын, ведь все преступники перед смертью притворяются, что они не виноваты. Чего орешь? У-у!
Я вышел из-за прикрытия. Мое появление смутило маленьких палачей;
Буланов вздрогнул и уронил котенка в траву; Синицын испуганно расширил глаза и вдруг часто замигал, подтягивая ремешок блузы. Я приветливо улыбнулся, говоря:
— Чего переполошились, ребята? Валяйте, валяйте! Интересно!
Оба молчали, переглядываясь, и по сердитым вытянутым лицам их было видно, как глубоко я ненавистен им в эту минуту. Но уходить я не собирался и продолжал:
— Экие вы трусишки, а? Что это у вас? Качели?
Буланов вдруг неожиданно и громко прыснул, побагровев, как вишня.
Сравнение с качелями, очевидно, показалось ему забавным. Синицын откашлялся и протянул тоскливым, умоляющим голосом:
— Это… это… видите ли… вот… виселица. Мы хотели поиграть…
вот… а…
Он умолк, захлебнувшись волнением, но Буланов поддержал его.
— Так, ничего, — равнодушно процедил он, рассматривая носки своих сапог. — Играем. А вам что?
— Да ничего, хотел посмотреть.
— Вы, может быть, драться думаете? — продолжал Буланов, недоверчиво отходя в сторону. — Так не нарывайтесь, у меня рогатка в кармане.
— Ах, Буланов, — укоризненно сказал я, — совсем я не хочу драться. А
вот зачем вы хотели котенка повесить?
— А вам что? — торопливо заговорил Синицын. — Вам-то не все равно? Все одно, его утопить хотели… и еще троих… Я у кухарки выпросил… Вот…
— Ему все равно! — подхватил Буланов.
— Так ведь вы не умеете, — заметил я, — тут нужно знать дело.
Мальчики переглянулись.
— Умеем! — тихо сказал Буланов.
— Ну, как же?
— Как? А вот как, — снова заговорил Синицын, и его бледное лицо мечтательно вспыхнуло, — а вот как: ставят его под виселицу… А стоит он на стуле… Потом палач петлю наденет и…
— Врешь! — горячо перебил Буланов. — Вот и врешь! Сперва еще балахон наденут… совсем… с головой… Ну? Не так, что ли?
— Балахон? Да, — покорно повторил Синицын. — А потом — раз! Стул из-под него вышибут — и вся недолга.
— Это кто же тебе рассказал?
— Кто? Вот он, — Синицын указал на Буланова. — А ему дядя рассказывал.
— И он весь бывает синий, — заявил Буланов, наматывая бечевку вокруг пальца.
— Котенка оставьте, — сказал я. — Жалко. Бросьте эту затею!
Дети молчали. Мое заявление, по-видимому, не было для них неожиданностью, они предчувствовали его и не обманулись моей смиренностью.
Наконец, сердясь и краснея, Буланов сказал:
— Людей можно, а котят — нет?..
— И людей нельзя.
— Дядя говорит — можно, — возразил мальчик, окинув меня критическим взглядом, и прибавил:
— Он умнее вас. Он за границей был.
Возражения становились бесполезными. Авторитет дяди окончательно уничтожал меня в глазах моих противников. И как уверять их, что не он, дядя, умнее, а я?.. Я ударил ногой миниатюрную виселицу, и она рассыпалась.
Гимназистики, оторопев, пустились бежать со всех ног, бросив на произвол судьбы котенка, мешок и неиспользованную бечевку. Зверек пищал и ползал, путаясь в высокой траве.
Я обратил их в бегство, но был ли я победителем? Нет, потому что они остались при своем ясном и логическом убеждении:
— Если можно людей, то кошек — тем более…
Быть может, впоследствии, когда жизнь ярко и выпукло развернет перед ними свою подкладку, Синицын и Буланов преисполнятся сочувствия к кошкам и начнут тщательно воспитывать откормленных сибирских котов, но теперь как отказаться от нового романтического удовольствия, приближающего их детские души к непонятному волнующему трагизму современности, захватывающему и интересному, как роман из индийской жизни? «Там» — вешают… И мы…
Впечатления детства… Какова их судьба?
42
Грин Александр Степанович
«Игрушки»
В одном из пограничных французских городков, занятом немцами, жил некто Альваж, человек с темным прошлым, не в худом смысле этого слова, а в таком, что никто не знал о его жизни решительно ничего.
Альваж был усталый человек. Действительность смертельно надоела ему. Он жил очень уединенно, скрытно; единственным счастьем его жизни были игрушки, которыми Альваж заменил сложную и тягостную действительность. У него были великолепные картонные фермы с коровками и колодцами; целые городки, крепостцы, пушки, стреляющие горохом, деревянные солдатики, кавалеристы, кораблики и пароходы. Альваж часто устраивал меж двумя игрушечными армиями примерные сражения, расставляя армии на двух ломберных столах в разных концах комнаты и стреляя из пушечек моченым горохом. У Альважа был партнер в этом безобидном занятии — глухонемой парень Симония; но Симония был недавно расстрелян пруссаками, и старик развлекался один.
Пруссаки, как сказано, заняли город. На пятый день оккупации капитан Пупенсон отправился вечером в ратушу, или мэрию, руководить расстрелом тридцати французов, взятых заложниками.
Путь Пупенсона лежал мимо дома Альважа. Весьма удивленный тем, что, несмотря на запрещение, в окне бокового фасада горит послевосьмичасовой огонь, Пупенсон перелез палисад, подкрался к окну и заглянул внутрь. Он увидел диковинную картину: тщедушный старик в ночном колпаке и халате заряжал вершковую пушечку, приговаривая: — «Всех разнесу, постой!» И горошина с треском положила несколько березовых рядовых, упавших навытяжку, руки по швам.
Пупенсон, гремя саблей, полез в окно. Альваж не испугался, он ждал, что дальше.
— Вы что делаете? — сказал Пупенсон. — Что вы, ребенок, что ли?
— Как хотите! — возразил Альваж. — Вам нравится ваша игра, мне — моя. Моя лучше. Не хотите ли сыграть партию?
Пупенсон, пожимая плечами и улыбаясь, рассматривал армии, составленные вполне правильно, со всеми комплектами артиллерии, обозов, кавалерии и саперии. Игрушки делал сам Альваж.
— Ну, ну! — снисходительно сказал Пупенсон, вертя в руках пушечку. -Как она действует? Так, что ли?!.
Велика притягательность новизны и оригинальности!
Прошел час, другой… В комнате сидели двое: увлеченный, разгорячившийся Пупенсон и торжествующий Альваж; он, как более наметавший руку, беспрерывно поражал армию Пупенсона, прежде, чем тот успевал подстрелить у него десяток-другой. Горох, подскакивая, неистово прыгал по полу и столам.
Наконец Пупенсон вспомнил о деле и с сожалением покинул Альважа с его любопытными армиями. Но он опоздал — полчаса назад расстрел заложников был отменен (ибо пригрозили в соседнем городе расстрелять немецких заложников). А не опоздай он — все было бы кончено для тридцати человек раньше, чем пришла бы отмена казни.
Отличные игрушки старика Альважа следовало бы завести всем воинственно настроенным людям.
43
Текст песни Александр Грин — Последний лист
Осенний дождь, холодный вечер
С деревьев листья рвет бродяга ветер,
Как будто хочет отомстить за все
Из всех остался лишь последний,
И с каждым вздохом явней и заметней,
Что этот ветер – он возьмет свое.
Последний лист
Слетает вниз
И небо взглядом провожает
Последний лист
Еще так чист,
Он ничего еще не знает
Источник teksty-pesenok.ru
И, поборов смешную робость,
Он вниз бросается, как будто в пропасть,
И шепчет самому себе – скользи
Тебя никто там не обидит –
Он говорит себе, но он не видит,
Что братья все его лежат в грязи
Последний лист
Слетает вниз
И небо взглядом провожает
Последний лист
Еще так чист,
Он ничего еще не знает
44
Один доллар восемьдесят семь центов. Это было все. Из них шестьдесят центов монетками по одному центу. За каждую из этих монеток пришлось торговаться с бакалейщиком, зеленщиком, мясником так, что даже уши горели от безмолвного неодобрения, которое вызывала подобная бережливость. Делла пересчитала три раза. Один доллар восемьдесят семь центов. А завтра рождество.
Единственное, что тут можно было сделать, это хлопнуться на старенькую кушетку и зареветь. Именно так Делла и поступила. Откуда напрашивается философский вывод, что жизнь состоит из слез, вздохов и улыбок, причем вздохи преобладают.
Пока хозяйка дома проходит все эти стадии, оглядим самый дом. Меблированная квартирка за восемь долларов в неделю. В обстановке не то чтобы вопиющая нищета, но скорее красноречиво молчащая бедность. Внизу, на парадной двери, ящик для писем, в щель которого не протиснулось бы ни одно письмо, и кнопка электрического звонка, из которой ни одному смертному не удалось бы выдавить ни звука. К сему присовокуплялась карточка с надписью: «М-р Джеймс Диллингхем Юнг» «Диллингхем» развернулось во всю длину в недавний период благосостояния, когда обладатель указанного имени получал тридцать долларов в неделю. Теперь, после того как этот доход понизился до двадцати долларов, буквы в слове «Диллингхем» потускнели, словно не на шутку задумавшись: а не сократиться ли им в скромное и непритязательное «Д»? Но когда мистер Джеймс Диллингхем Юнг приходил домой и поднимался к себе на верхний этаж, его неизменно встречал возглас: «Джим!» и нежные объятия миссис Джеймс Диллингхем Юнг, уже представленной вам под именем Деллы. А это, право же, очень мило.
Делла кончила плакать и прошлась пуховкой по щекам. Она теперь стояла у окна и уныло глядела на серую кошку, прогуливавшуюся по серому забору вдоль серого двора. Завтра рождество, а у нее только один доллар восемьдесят семь центов на подарок Джиму! Долгие месяцы она выгадывала буквально каждый цент, и вот все, чего она достигла. На двадцать долларов в неделю далеко не уедешь. Расходы оказались больше, чем она рассчитывала. С расходами всегда так бывает. Только доллар восемьдесят семь центов на подарок Джиму! Ее Джиму! Сколько радостных часов она провела, придумывая, что бы такое ему подарить к рождеству. Что-нибудь совсем особенное, редкостное, драгоценное, что-нибудь, хоть чуть-чуть достойное высокой чести принадлежать Джиму.
В простенке между окнами стояло трюмо. Вам никогда не приходилось смотреться в трюмо восьмидолларовой меблированной квартиры? Очень худой и очень подвижной человек может, наблюдая последовательную смену отражений в его узких створках, составить себе довольно точное представление о собственной внешности. Делле, которая была хрупкого сложения, удалось овладеть этим искусством.
Она вдруг отскочила от окна и бросилась к зеркалу. Глаза ее сверкали, но с лица за двадцать секунд сбежали краски. Быстрым движением она вытащила шпильки и распустила волосы.
Надо вам сказать, что у четы Джеймс. Диллингхем Юнг было два сокровища, составлявших предмет их гордости. Одно — золотые часы Джима, принадлежавшие его отцу и деду, другое — волосы Деллы.
Если бы царица Савская проживала в доме напротив, Делла, помыв голову, непременно просушивала бы у окна распущенные волосы — специально для того, чтобы заставить померкнуть все наряди и украшения ее величества. Если бы царь Соломон служил в том же доме швейцаром и хранил в подвале все свои богатства, Джим, проходя мимо; всякий раз доставал бы часы из кармана — специально для того, чтобы увидеть, как он рвет на себе бороду от зависти.
И вот прекрасные волосы Деллы рассыпались, блестя и переливаясь, точно струи каштанового водопада. Они спускались ниже колен и плащом окутывали почти всю ее фигуру. Но она тотчас же, нервничая и торопясь, принялась снова подбирать их. Потом, словно заколебавшись, с минуту стояла неподвижно, и две или три слезинки упали на ветхий красный ковер.
Старенький коричневый жакет на плечи, старенькую коричневую шляпку на голову — и, взметнув юбками, сверкнув невысохшими блестками в глазах, она уже мчалась вниз, на улицу.
Вывеска, у которой она остановилась, гласила: «M-me Sophronie. Всевозможные изделия из волос», Делла взбежала на второй этаж и остановилась, с трудом переводя дух.
— Не купите ли вы мои волосы? — спросила она у мадам.
— Я покупаю волосы, — ответила мадам. — Снимите шляпу, надо посмотреть товар.
Снова заструился каштановый водопад.
— Двадцать долларов, — сказала мадам, привычно взвешивая на руке густую массу.
— Давайте скорее, — сказала Делла.
Следующие два часа пролетели на розовых крыльях — прошу прощенья за избитую метафору. Делла рыскала по магазинам в поисках подарка для Джима.
Наконец, она нашла. Без сомнения, что было создано для Джима, и только для него. Ничего подобного не нашлось в других магазинах, а уж она все в них перевернула вверх дном, Это была платиновая цепочка для карманных часов, простого и строгого рисунка, пленявшая истинными своими качествами, а не показным блеском, — такими и должны быть все хорошие вещи. Ее, пожалуй, даже можно было признать достойной часов. Как только Делла увидела ее, она поняла, что цепочка должна принадлежать Джиму, Она была такая же, как сам Джим. Скромность и достоинство — эти качества отличали обоих. Двадцать один доллар пришлось уплатить в кассу, и Делла поспешила домой с восемьюдесятью семью центами в кармане. При такой цепочке Джиму в любом обществе не зазорно будет поинтересоваться, который час. Как ни великолепны были его часы, а смотрел он на них часто украдкой, потому что они висели на дрянном кожаном ремешке.
Дома оживление Деллы поулеглось и уступило место предусмотрительности и расчету. Она достала щипцы для завивки, зажгла газ и принялась исправлять разрушения, причиненные великодушием в сочетании с любовью. А это всегда тягчайший труд, друзья мои, исполинский труд.
Не прошло и сорока минут, как ее голова покрылась крутыми мелкими локончиками, которые сделали ее удивительно похожей на мальчишку, удравшего с уроков. Она посмотрела на себя в зеркало долгим, внимательным и критическим взглядом.
«Ну, — сказала она себе, — если Джим не убьет меня сразу, как только взглянет, он решит, что я похожа на хористку с Кони-Айленда. Но что же мне было делать, ах, что же мне было делать, раз у меня был только доллар и восемьдесят семь центов!»
В семь часов кофе был сварен, раскаленная сковорода стояла на газовой плите, дожидаясь бараньих котлеток.
Джим никогда не запаздывал. Делла зажала платиновую цепочку в руке и уселась на краешек стола поближе к входной двери. Вскоре она услышала его шаги внизу на лестнице и на мгновение побледнела. У нее была привычка обращаться к богу с коротенькими молитвами по поводу всяких житейских мелочей, и она торопливо зашептала:
— Господи, сделай так, чтобы я ему не разонравилась.
Дверь отворилась, Джим вошел и закрыл ее за собой. У него было худое, озабоченное лицо. Нелегкое дело в двадцать два года быть обремененным семьей! Ему уже давно нужно было новое пальто, и руки мерзли без перчаток.
Джим неподвижно замер у дверей, точно сеттера учуявший перепела. Его глаза остановились на Делле с выражением, которого она не могла понять, и ей стало Страшно. Это не был ни гнев, ни удивление, ни упрек, ни ужас — ни одно из тех чувств, которых можно было бы ожидать. Он просто смотрел на нее, не отрывая взгляда, в лицо его не меняло своего странного выражения.
Делла соскочила со стола и бросилась к нему.
— Джим, милый, — закричала она, — не смотри на меня так. Я остригла волосы и продала их, потому что я не пережила бы, если б мне нечего было подарить тебе к рождеству. Они опять отрастут. Ты ведь не сердишься, правда? Я не могла иначе. У меня очень быстро растут волосы. Ну, поздравь меня с рождеством, Джим, и давай радоваться празднику. Если б ты знал, какой я тебе подарок приготовила, какой замечательный, чудесный подарок!
— Ты остригла волосы? — спросил Джим с напряжением, как будто, несмотря на усиленную работу мозга, он все еще не мог осознать этот факт.
— Да, остригла и продала, — сказала Делла. — Но ведь ты меня все равно будешь любить? Я ведь все та же, хоть и с короткими волосами.
Джим недоуменно оглядел комнату.
— Так, значит, твоих кос уже нет? — спросил он с бессмысленной настойчивостью.
— Не ищи, ты их не найдешь, — сказала Делла. — Я же тебе говорю: я их продала — остригла и продала. Сегодня сочельник, Джим. Будь со мной поласковее, потому что я это сделала для тебя. Может быть, волосы на моей голове и можно пересчитать, — продолжала она, и ее нежный голос вдруг зазвучал серьезно, — но никто, никто не мог бы измерить мою любовь к тебе! Жарить котлеты, Джим?
И Джим вышел из оцепенения. Он заключил свою Деллу в объятия. Будем скромны и на несколько секунд займемся рассмотрением какого-нибудь постороннего предмета. Что больше — восемь долларов в неделю или миллион в год? Математик или мудрец дадут вам неправильный ответ. Волхвы принесли драгоценные дары, но среди них не было одного. Впрочем, эти туманные намеки будут разъяснены далее.
Джим достал из кармана пальто сверток и бросил его на стол.
— Не пойми меня ложно, Делл, — сказал он. — Никакая прическа и стрижка не могут заставить меня разлюбить мою девочку. Но разверни этот сверток, и тогда ты поймешь, почему я в первую минуту немножко оторопел.
Белые проворные пальчики рванули бечевку и бумагу. Последовал крик восторга, тотчас же — увы! — чисто по женски сменившийся потоком слез и стонов, так что потребовалось немедленно применить все успокоительные средства, имевшиеся в распоряжении хозяина дома.
Ибо на столе лежали гребни, тот самый набор гребней — один задний и два боковых, — которым Делла давно уже благоговейно любовалась в одной витрине Бродвея. Чудесные гребни, настоящие черепаховые, с вделанными в края блестящими камешками, и как раз под цвет ее каштановых волос. Они стоили дорого… Делла знала это, — и сердце ее долго изнывало и томилось от несбыточного желания обладать ими. И вот теперь они принадлежали ей, но нет уже прекрасных кос, которые украсил бы их вожделенный блеск.
Все же она прижала гребни к груди и, когда, наконец, нашла в себе силы поднять голову и улыбнуться сквозь слезы, сказала:
— У меня очень быстро растут волосы, Джим!
Тут она вдруг подскочила, как ошпаренный котенок, и воскликнула:
— Ах, боже мой!
Ведь Джим еще не видел ее замечательного подарка. Она поспешно протянула ему цепочку на раскрытой ладони. Матовый драгоценный металл, казалось, заиграл в лучах ее бурной и искренней радости.
— Разве не прелесть, Джим? Я весь город обегала, покуда нашла это. Теперь можешь хоть сто раз в день смотреть, который час. Дай-ка мне часы. Я хочу посмотреть, как это будет выглядеть все вместе.
Но Джим, вместо того чтобы послушаться, лег на кушетку, подложил обе руки под голову и улыбнулся.
— Делл, — сказал он, — придется нам пока спрятать наши подарки, пусть полежат немножко. Они для нас сейчас слишком хороши. Часы я продал, чтобы купить тебе гребни. А теперь, пожалуй, самое время жарить котлеты.
Волхвы, те, что принесли дары младенцу в яслях, были, как известно, мудрые, удивительно мудрые люди. Они то и завели моду делать рождественские подарки. И так как они были мудры, то и дары их были мудры, может быть, даже с оговоренным правом обмена в случае непригодности. А я тут рассказал вам ничем не примечательную историю про двух глупых детей из восьмидолларовой квартирки, которые самым немудрым образом пожертвовали друг для друга своими величайшими сокровищами. Но да будет сказано в назидание мудрецам наших дней, что из всех дарителей эти двое были мудрейшими. Из всех, кто подносит и принимает дары, истинно мудры лишь подобные им. Везде и всюду. Они и есть волхвы.
45
Улицкая Людмила
Бумажная победа
Людмила Евгеньевна Улицкая
Бумажная победа
Когда солнце растопило черный зернистый снег и из грязной воды выплыли скопившиеся за зиму отбросы человеческого жилья — ветошь, кости, битое стекло,- и в воздухе поднялась кутерьма запахов, в которой самым сильным был сырой и сладкий запах весенней земли, во двор вышел Геня Пираплетчиков. Его фамилия писалась так нелепо, что с тех пор, как он научился читать, он ощущал ее как унижение.
Помимо этого, у него от рождения было неладно с ногами, и он ходил странной, прыгающей походкой.
Помимо этого, у него был всегда заложен нос, и он дышал ртом. Губы сохли, и их приходилось часто облизывать.
Помимо этого, у него не было отца. Отцов не было у половины ребят. Но в отличие от других Геня не мог сказать, что его отец погиб на войне: у него отца не было вообще. Все это, вместе взятое, делало Геню очень несчастным человеком.
Итак, он вышел во двор, едва оправившись после весенне-зимних болезней, в шерстяной лыжной шапочке с поддетым под нее платком и в длинном зеленом шарфе, обмотанном вокруг шеи.
На солнце было неправдоподобно тепло, маленькие девочки спустили чулки и закрутили их на лодыжках тугими колбасками. Старуха из седьмой квартиры с помощью внучки вытащила под окно стул и села на солнце, запрокинув лицо.
И воздух, и земля — все было разбухшим и переполненным, а особенно голые деревья, готовые с минуты на минуту взорваться мелкой счастливой листвой.
Геня стоял посреди двора и ошеломленно вслушивался в поднебесный гул, а толстая кошка, осторожно трогая лапами мокрую землю, наискосок переходила двор.
Первый ком земли упал как раз посередине, между кошкой и мальчиком. Кошка, изогнувшись, прыгнула назад. Геня вздрогнул — брызги грязи тяжело шлепнулись на лицо. Второй комок попал в спину, а третьего он не стал дожидаться, пустился вприпрыжку к своей двери. Вдогонку, как звонкое копье, летел самодельный стишок:
— Генька хромой, сопли рекой!
Он оглянулся: кидался Колька Клюквин, кричали девчонки, а позади них стоял тот, ради которого они старались,- враг всех, кто не был у него на побегушках, ловкий и бесстрашный Женька Айтыр.
Геня кинулся к своей двери — с лестницы уже спускалась его бабушка, крохотная бабуська в бурой шляпке с вечнозелеными и вечноголубыми цветами над ухом. Они собирались на прогулку на Миусский скверик. Мертвая потертая лиса, сверкая янтарными глазами, плоско лежала у нее на плече.
…Вечером, когда Геня похрапывал во сне за зеленой ширмой, мать и бабушка долго сидели за столом.
— Почему? Почему они его всегда обижают?- горьким шепотом спросила, наконец, бабушка.
— Я думаю, надо пригласить их в гости, к Гене на день рождения,ответила мать.
— Ты с ума сошла,- испугалась бабушка,- это же не дети, это бандиты.
— Я не вижу другого выхода,- хмуро отозвалась мать.- Надо испечь пирог, сделать угощение и вообще устроить детский праздник.
— Это бандиты и воры. Они же весь дом вынесут,- сопротивлялась бабушка.
— У тебя есть что красть?- холодно спросила мать.
Старушка промолчала.
— Твои старые ботики никому не нужны.
— При чем тут ботики?..- тоскливо вздохнула бабушка.- Мальчика жалко.
Прошло две недели. Наступила спокойная и нежная весна. Высохла грязь. Остро отточенная трава покрыла засоренный двор, и все население, сколько ни старалось, никак не могло его замусорить, двор оставался чистым и зеленым.
Ребята с утра до вечера играли в лапту. Заборы покрылись меловыми и угольными стрелами — это «разбойники», убегая от «казаков», оставляли свои знаки.
Геня уже третью неделю ходил в школу. Мать с бабушкой переглядывались. Бабушка, которая была суеверна, сплевывала через плечо — боялась сглазить: обычно перерывы между болезнями длились не больше недели.
Бабушка провожала внука в школу, а к концу занятий ждала его в школьном вестибюле, наматывала на него зеленый шарф и за руку вела домой.
Накануне дня рождения мать сказала Гене, что устроит ему настоящий праздник.
— Позови из класса кого хочешь и из двора,- предложила она.
— Я никого не хочу. Не надо, мама,- попросил Геня.
— Надо,- коротко ответила мать, и по тому, как дрогнули ее брови, он понял, что ему не отвертеться.
Вечером мать вышла во двор и сама пригласила ребят на завтра. Пригласила всех подряд, без разбора, но отдельно обратилась к Айтыру:
— И ты, Женя, приходи.
Он посмотрел на нее такими холодными и взрослыми глазами, что она смутилась.
— А что? Я приду,- спокойно ответил Айтыр.
И мать пошла ставить тесто.
Геня тоскливо оглядывал комнату. Больше всего его смущало блестящее черное пианино — такого наверняка ни у кого не было. Книжный шкаф, ноты на этажерке — это было еще простительно. Но Бетховен, эта ужасная маска Бетховена! Наверняка кто-нибудь ехидно спросит: «А это твой дедушка? Или папа?»
Геня попросил бабушку снять маску. Бабушка удивилась:
— Чем она тебе вдруг помешала? Ее подарила мамина учительница…- И бабушка стала рассказывать давно известную историю о том, какая мама талантливая пианистка, и если бы не война, то она окончила бы консерваторию…
К четырем часам на раздвинутом столе стояла большая суповая миска с мелко нарезанным винегретом, жареный хлеб с селедкой и пирожки с рисом.
Геня сидел у подоконника, спиной к столу, и старался не думать о том, как сейчас в его дом ворвутся шумные, веселые и непримиримые враги… Казалось, что он совершенно поглощен своим любимым занятием: он складывал из газеты кораблик с парусом.
Он был великим мастером этого бумажного искусства. Тысячи дней своей жизни Геня проводил в постели. Осенние катары, зимние ангины и весенние простуды он терпеливо переносил, загибая уголки и расправляя сгибы бумажных листов, а под боком у него лежала голубовато-серая с тисненым жирафом на обложке книга. Она называлась «Веселый час», написал ее мудрец, волшебник, лучший из людей — некий М. Гершензон. Он был великим учителем, зато Геня был великим учеником: он оказался невероятно способным к этой бумажной игре и придумал многое такое, что Гершензону и не снилось…
Геня крутил в руках недоделанный кораблик и с ужасом ждал прихода гостей. Они пришли ровно в четыре, всей гурьбой. Белесые сестрички, самые младшие из гостей, поднесли большой букет желтых одуванчиков. Прочие пришли без подарков.
Все чинно расселись вокруг стола, мать разлила по стаканам самодельную шипучку с коричневыми вишенками и сказала:
— Давайте выпьем за Геню — у него сегодня день рождения.
Все взяли стаканы, чокнулись, а мама выдвинула вертящийся табурет, села за пианино и заиграла «Турецкий марш». Сестрички завороженно смотрели на ее руки, порхающие над клавишами. У младшей было испуганное лицо, и казалось, что она вот-вот расплачется.
Невозмутимый Айтыр ел винегрет с пирожком, а бабушка суетилась около каждого из ребят точно так же, как суетилась обычно около Генечки.
Мать играла песни Шуберта. Это была невообразимая картина: человек двенадцать плохо одетых, но умытых и причесанных детей, в полном молчании поедавших угощение, и худая женщина, выбивавшая из клавишей легко бегущие звуки.
Хозяин праздника, с потными ладонями, устремил глаза в тарелку. Музыка кончилась, выпорхнула в открытое окно, лишь несколько басовых нот задержались под потолком и, помедлив, тоже уплыли вслед за остальными.
— Генечка,- вдруг сладким голосом сказала бабушка,- может, тоже поиграешь?
Мать бросила на бабушку тревожный взгляд. Генино сердце едва не остановилось: они ненавидят его за дурацкую фамилию, за прыгающую походку, за длинный шарф, за бабушку, которая водит его гулять. Играть при них на пианино!
Мать увидела его побледневшее лицо, догадалась и спасла:
— В другой раз. Геня сыграет в другой раз.
Бойкая Боброва Валька недоверчиво и почти восхищенно произнесла:
— А он умеет?
…Мать принесла сладкий пирог. По чашкам разлили чай. В круглой вазочке лежали какие угодно конфеты: и подушечки, и карамель, и в бумажках. Колька жрал без зазрения совести и в карман успел засунуть. Сестрички сосали подушечки и наперед загадывали, какую еще взять. Боброва Валька разглаживала на острой коленке серебряную фольгу. Айтыр самым бесстыжим образом разглядывал комнату. Он все шарил и шарил глазами и, наконец, указывая на маску, спросил:
— Теть Мусь! А этот кто? Пушкин?
Мать улыбнулась и ласково ответила:
— Это Бетховен, Женя. Был такой немецкий композитор. Он был глухой, но все равно сочинял прекрасную музыку.
— Немецкий?- бдительно переспросил Айтыр.
Но мама поспешила снять с Бетховена подозрения:
— Он давным-давно умер. Больше ста лет назад. Задолго до фашизма.
Бабушка уже открыла рот, чтобы рассказать, что эту маску подарила тете Мусе ее учительница, но мать строго взглянула на бабушку, и та закрыла рот.
— Хотите, я поиграю вам Бетховена?- спросила мать.
— Давайте,- согласился Айтыр, и мать снова выдвинула табурет, крутанула его и заиграла любимую Генину песню про сурка, которого почему-то всегда жалко.
Все сидели тихо, не проявляя признаков нетерпения, хотя конфеты уже кончились. Ужасное напряжение, в котором все это время пребывал Геня, оставило его, и впервые мелькнуло что-то вроде гордости: это его мама играет Бетховена, и никто не смеется, а все слушают и смотрят на сильные разбегающиеся руки. Мать кончила играть.
— Ну, хватит музыки. Давайте поиграем во что-нибудь. Во что вы любите играть?
— Можно в карты,- простодушно сказал Колюня.
— Давайте в фанты,- предложила мать.
Никто не знал этой игры. Айтыр у подоконника крутил в руках недоделанный кораблик. Мать объяснила, как играть, но оказалось, что ни у кого нет фантов. Лилька, девочка со сложно заплетенными косичками, всегда носила в кармане гребенку, но отдать ее не решилась — а вдруг пропадет? Айтыр положил на стол кораблик и сказал:
— Это будет мой фант.
Геня придвинул его к себе и несколькими движениями завершил постройку.
— Геня, сделай девочкам фанты,- попросила мать и положила на стол газету и два листа плотной бумаги. Геня взял лист, мгновение подумал и сделал продольный сгиб…
Бритые головы мальчишек, стянутые тугими косичками головки девчонок склонились над столом. Лодка… кораблик… кораблик с парусом… стакан… солонка… хлебница… рубашка…
Он едва успевал сделать последнее движение, как готовую вещь немедленно выхватывала ожидающая рука.
— И мне, и мне сделай!
— Тебе он уже сделал, бессовестная ты! Моя очередь!
— Генечка, пожалуйста, мне стакан!
— Человечка, Геня, сделай мне человечка!
Все забыли и думать про фанты. Геня быстрыми движениями складывал, выравнивал швы, снова складывал, загибал уголки. Человек… рубашка… собака…
Они тянули к нему руки, и он раздавал им свои бумажные чудеса, и все улыбались, и все его благодарили. Он, сам того не замечая, вынул из кармана платок, утер нос — и никто не обратил на это внимания, даже он сам.
Такое чувство он испытывал только во сне. Он был счастлив. Он не чувствовал ни страха, ни неприязни, ни вражды. Он был ничем не хуже их. И даже больше того: они восхищались его чепуховым талантом, которому сам он не придавал никакого значения. Он словно впервые увидел их лица: не злые. Они были совершенно не злые…
Айтыр на подоконнике крутил газетный лист, он распустил кораблик и пытался сделать заново, а когда не получилось, он подошел к Гене, тронул его за плечо и, впервые в жизни обратившись к нему по имени, попросил:
— Гень, посмотри-ка, а дальше как…
Мать мыла посуду, улыбалась и роняла слезы в мыльную воду.
Счастливый мальчик раздаривал бумажные игрушки…
46
http://www.rulit.me/books/paranya-read-10645-1.html
47
Я ПОЗДНО ПОНЯЛ…
Мать моя была худенькая маленькая женщина с очень мягким и веселым характером. Ее все любили. А она любила меня, для меня жила и работала. Рано овдо¬вев, так и не вышла замуж. Я хорошо помню, как она в первый раз повела меня в школу. Мы с ней очень волно¬вались. Во дворе школы было очень много взрослых, и все они держались за своих детей. Когда ребятам веле¬ли построиться в шеренгу, родители построились вмес-те с ними. Кудрявый учитель, улыбаясь, сказал: «Взрос¬лые, отойдите, школьники пойдут в классы без вас». Мать, разжав мою руку, сказала: «Не плачь, возьми се¬бя в руки, ты же мужчина» — и подтолкнула меня. Но я очень быстро освоился в новой обстановке и заявил, что буду ходить в школу самостоятельно, и мать по телефо¬ну сказала подруге: «Он стал совсем взрослым, в школу ходит один и послал кошку к чертовой бабушке».
Помню, в четвертом классе одна девочка подарила мне живую черепаху. Мне никто никогда не дарил чере¬пах, и я очень полюбил эту девочку. Я сделал ей из коры чернильницу в подарок, но она отдала эту чернильницу другой девочке, сказав, что это не чернильница, а «бузня». Дома я, не выдержав, разревелся и рассказал все матери. «Знаешь,— сказала она,— со мной однажды так же было. Это очень больно, и я тоже плакала, но я жен¬щина, мне простительно, а ты мужчина, возьми себя в руки». Мне стало легче, и я сразу разлюбил эту каприз¬ную девчонку.
Своего отца я не помню, мать одна воспитывала меня. И я не задумывался, легко ей или трудно. Мы дружно и весело жили. Она работала, я учился, в свободное вре¬мя мы ходили на лыжах, в театр, а по вечерам любили мечтать о будущем. Она мечтала, что у меня будет сильный характер, и что я буду писателем, а я о том, как буду иметь постоянный пропуск в кино.
Так было до девятого класса. Тут, как говорила мать, меня подменили. Может быть, это случилось потому, что у меня появились новые товарищи, которым мне хоте¬лось подражать, но я думаю, что сваливать все на това¬рищей не стоит. Мне было 16 лет, и кое-что я уже сооб¬ражал.
Я стал вести самостоятельную жизнь. Это выража¬лось в том, что я поздно приходил домой, стал плохо заниматься, научился курить и перестал смотреть мате¬ри в глаза. Однажды я, возвращаясь в три часа ночи, заметил около своих ворот маленькую фигурку матери. От стыда, что она не спит из-за меня, что сейчас она уви¬дит, что я выпил, я прошел мимо, будто не узнал ее.
После десятилетки я в институт не попал, так как, ведя самостоятельный образ жизни, в сущности, не за¬нимался. Я пошел работать. У меня появились собствен¬ные деньги, но я отдал матери только первую получку.
Однажды я заметил у нее на столике валидол, но я никогда не слышал, чтобы она жаловалась на сердце. Соседи находили, что она в последнее время страшно изменилась, но я, видя ее каждый день, этого не заме¬чал, вернее, не хотел замечать.
Так прошел год, наступила весна, и мать стала уго¬варивать меня готовиться к экзаменам. Я понимал, что она права, но у меня было маловато воли. Наступил май. Встретил я его хорошо. Два дня праздника с компанией собирались у меня. Мама, все нам приготовив, уходила к подруге. Третьего я уехал с ребятами за город. Уез¬жая, забыл оставить матери записку, что не приду ноче¬вать.
Пришел домой я четвертого после работы, но ее уже не застал: она умерла третьего вечером, когда в кварти¬ре никого не было.
С компанией, которая не нравилась моей матери, я сразу порвал. Настоящих друзей среди них не было, я это сделал без всякого сожаления. Не бросая работы, я стал готовиться к экзаменам и осенью, сдав все на пя¬терки, внезапно понял, что радость, которой не с кем поделиться, теряет свою прелесть.
На втором курсе я очень подружился с одним студен¬том. Олег был серьезным и добродушным парнем. Глядя на него, я думал, что он понравился бы моей маме. Вос-питанник детдома, он сохранил только смутные вос¬поминания о своих родителях, которых потерял в ран¬нем детстве.
Я чувствовал страшную потребность рассказать ему все о своей матери, о нашей замечательной жизни до последних двух лет, о том, как я мучил ее и потерял. Слу¬шая меня, Олег становился все строже и суровее, один раз он сквозь зубы процедил: «Подлец!» А я, рассказы¬вая, вдруг ясно понял, что для того, чтобы убить чело¬века, совсем не надо хотеть его убить,— это можно де¬лать каждый день равнодушно, не понимая, чем это мо¬жет окончиться. Я понял это слишком поздно.
Обычно, когда мы сидели с Олегом у меня, я потом провожал его до метро. В этот вечер он сухо сказал: «Не провожай». Я чувствовал, что могу потерять друга. Больше всего в этот вечер мне хотелось услышать слова: «Не плачь, возьми себя в руки, ты же мужчина».
Через неделю Олег подошел ко мне. «У меня к тебе просьба,— сказал он,— напиши все, что ты мне сказал.
Так, как рассказал, так и напиши. Твоя мама хотела, чтобы ты писал, попробуй для нее…»
Та, кому я посвятил этот рассказ, никогда его не прочтет и не узнает, что я всю жизнь буду стараться стать таким, как она хотела,— я взял себя в руки, ведь я — мужчина.
Е. Ауэрбах из цикла «Маленькие рассказы»
48
49
Габова Елена «Не пускайте Рыжую на озеро»
Светка Сергеева была рыжая. Волосы у неё грубые и толстые, словно яркая медная проволока. Из этой проволоки заплеталась тяжёлая коса. Мне она напоминала трос, которым удерживают на берегу большие корабли.
Лицо у Светки бледное, в крупных веснушках, тоже бледных, наскакивающих одна на другую. Глаза зелёные, блестящие, как лягушата.
Сидела Светка как раз посреди класса, во второй колонке. И взгляды наши нет-нет да и притягивались к этому яркому пятну.
Светку мы не любили. Именно за то, что она рыжая. Ясное дело, Рыжухой дразнили. И ещё не любили за то, что голос у неё ужасно пронзительный. Цвет Светкиных волос и её голос сливались в одно понятие: Ры-жа-я.
Выйдет она к доске, начнёт отвечать, а голос высокий-высокий. Некоторые девчонки демонстративно затыкали уши. Забыл сказать: почему-то особенно не любили Светку девчонки. Они до неё даже дотрагиваться не хотели. Если на физкультуре кому-нибудь из них выпадало делать упражнения в одной паре с Рыжухой – отказывались. А как физрук прикрикнет, то делают, но с такой брезгливой миной на лице, словно Светка прокажённая. Маринке Быковой и окрик учителя не помогал: наотрез отказывалась с Сергеевой упражняться. Физрук Быковой двойки лепил.
Светка на девчонок не обижалась – привыкла, наверно.
Слышал я, что жила Светка с матерью и двумя сестрёнками. Отец от них ушёл. Я его понимал: приятно ли жить с тремя, нет, четырьмя рыжими женщинами? Мать у Светки тоже рыжая, маленького росточка. Одевались они понятно как – ведь трудно жили. Но наши девчонки трудности Рыжухи во внимание не принимали. Наоборот, презирали её ещё и за единственные потёртые джинсы.Ладно. Рыжая так Рыжая. Слишком много о ней.
Очень любили мы походы. Каждый год ходили по несколько раз. И осенью, и весной. Иногда зимой в лес выбирались. Ну, а летом говорить нечего. Летом поход был обязательно с ночёвкой.
Наше любимое загородное место было Озёл. Здесь славное озеро – длинное и не очень широкое. По одному берегу сосновый бор, по другому – луга. Мы на лугах останавливались. Палатки ставили, всё честь честью.
Мы с Женькой в походах всегда рыбачили. Тем более, в Озёле. Озеро рыбное, окуни тут брали и сорога, а ерши, так те словно в очередь выстраивались, чтобы хапнуть наживку. Всегда мы девчонкам на уху приносили. Объеденье. Хоть из-за одной ухи в походы ходи, до того вкусно.
Брали напрокат лодку – была тут небольшая лодочная станция – и плыли на середину озера. Все дни напролёт с Женькой рыбачили. А вечером… Вечером, на зорьке, самый клев, а нам половить не удавалось.Из-за Рыжухи, между прочим, из-за Светки Сергеевой.
Она с нами тоже в походы ездила. Ведь знала, что одноклассники её не любят, а всё равно ездила. Не прогонишь же.
Вечером возьмёт Светка синюю лодку и тоже на середину озера гребёт. Вокруг красота, солнышко за сосны закатывается, в воде деревья отражаются, а вода тихая-тихая, и видно, как со Светкиных вёсел срываются розовые от солнца капли.
Выгребет Светка на середину озера, вёсла в воду опустит и начинает. Выть начинает.
То есть, она пела, конечно, но мы это пением не называли. Высокий голос Рыжухи раздавался далеко по озеру, по лугам.
Клевать у нас переставало.
Почему ей нужно было на середине озера петь – не понимаю. Может, окружающая природа вдохновляла? К тому же от воды резонанс сильный. Ей, наверно, нравилось, что её весь мир слышит. Что она пела – не берусь сказать. Жалобно, заунывно. Никогда я больше таких песен не слышал. Женька начинал ругаться. Ругался и плевал в озеро в сторону Рыжухи. А я неторопливо и хмуро сматывал удочки.
Выла Рыжуха час-полтора. Если ей казалось, что какая-нибудь песня не очень удавалась, она заводила её снова и снова.
Мы вытаскивали лодку на берег и шли к одноклассникам.Нас встречали смехом.
– Хорошо воет?– спрашивал кто-нибудь.
– Заслушаешься, – коротко отвечал я.
А Женька разражался гневной тирадой, которую я приводить тут не буду.
– Дура рыжая, – кривила губы Маринка Быкова. – И чего она с нами прётся? Выла бы себе дома.
А голос Рыжухи всё раздавался, и было в нём что-то родственное с начинающей расти травой, лёгкими перистыми облаками, тёплым воздухом, в котором роились ещё не умеющие кусаться комары.
Почему-то нам с Женькой не приходило в голову поговорить со Светкой по-человечески, попросить, чтобы она не пела над озером, не портила рыбалку. Может, она и не знала, что мешает кому-то.
В день последнего экзамена в девятом Нинка Пчелкина бросила клич:
– Кто завтра в поход?
И тут же устроила запись.Она же распределила обязанности. Девчонки закупают продукты, мальчишки добывают спальники, палатки. Кассетник берет Маринка, камера хорошая у Женьки, на пленку «Кодак» скидываются все.
Женька подвалил к Рыжухе, опёрся руками о её стол и сказал:
– Рыжуха, сделай доброе дело, а?
Светка вспыхнула и насторожилась. Никто к ней с просьбами не обращался.
– Какое?
– Не езди с нами в поход.
Рыжуха поджала бледные губы и ничего не ответила.
– Не поедешь? Не езди, будь другом.
– Я с вами поеду, – высоким дрожащим голосом сказала Рыжуха, – а буду отдельно.
Вот это «отдельно» и было для нас всего опаснее. Опять отдельно от всех будет на озере выть! Опять вечерней зорьки мы не увидим.
Женька отошёл от Рыжей и прошептал мне:
– В этот поход я Рыжую не пущу. Или я буду не я.
Он торжествующе посмотрел на Светку, словно уже добился своего.
Тёплым июньским днём мы устроились на палубе теплохода. Нас, дружных, двадцать пять душ. У наших ног тюки с палатками, рюкзаки, из которых выпирают буханки хлеба, торчат ракетки для бадминтона. У нас с Женькой ещё и удочки. По всякому поводу мы смеёмся. Экзамены позади – весело. Лето впереди – весело.
Рыжуха сидит на краю скамейки, рядом с ней – пустое пространство. Рядом с ней никто не садится.
За минуту до того, как отчалить, к Рыжухе подходит Женька. Он в синем спортивном костюме «Адидас» – стройный симпатичный малый. Выражение лица Рыжухи встревоженное, она чувствует подвох.
– Это твоя сумка?– спрашивает Женька и кивает на допотопную дерматиновую сумку, которая стоит около Рыжухи. В сумке, наверное, бутерброды с маргарином и яйца. Сверху высовывается серенький свитер, его Рыжуха взяла, видно, на случай похолодания. Я живо представил, как она в этом свитере сидит в синей лодке и портит нам рыбалку.
– Моя,– отвечает Светка.
– Алле хоп!– восклицает Женька, хватая сумку, и бежит с ней по палубе. И вот мы слышим, как он кричит уже с причала:
– Эй, Рыжая! Вон где твоя сумочка! Слышь?
Мы глядим через борт теплохода. Женька ставит сумку на железный пол и мчится обратно. Теплоход зафырчал, за кормой забурлило. Но трап ещё не убрали, около него стоит матрос в яркой футболке и пропускает опаздывающих пассажиров.
Рыжуха сидела-сидела, потеряно глядя в пол, потом как вскочит и – к выходу. Еле успела на берег, теплоход сразу же отчалил.
Свитера, наверно, жалко стало, бутербродов.
Женька рядом со мной стоит, Светке рукой машет и орёт:
– До свиданья, Рыжая! Гудбай! Извини, нельзя тебе на озеро, ты рыбу распугиваешь!
И девчонки со своих мест ей ручкой делают, кричат противными голосами:
– Прощай, подруга!
– Больше не увидимся!
– Ха-ха!
И давай Женьку хвалить, что он так ловко с Рыжухой устроил.
Чего девчонки радовались, я, честно говоря, не понял. Ну, мы с Женькой, ладно, нам Светка мешала рыбу ловить. А им-то что? Ведь вместе со всеми Рыжуха и не бывала – недаром её ни на одной фотографии нет. Бродила одна по лугам, одна у костра сидела, когда все уже по палаткам расходились. Ела то, что с собой из дома брала. В начале похода она свои припасы на общий стол выкладывала, но ее хлеб с маргарином и яйца Быкова в сторону двигала. При этом лицо у нее было такое же брезгливое, как на уроке физкультуры, когда выпадало делать упражнения с Рыжухой.
Теплоход ещё толком не отошёл от города, а мы о Рыжухе уже забыли. Лишь на вечерней зорьке я о ней вспомнил, и в сердце ворохнулось что-то неприятное.Но зато никто на озере не шумел. Клевало отлично. Женька был особенно оживлён. А мне это «что-то» мешало радоваться.
В десятый Рыжая не пошла. Классная сказала, что она поступила в музыкальное училище.
А ещё через пять лет произошла вот такая история.
В то время я начинал учиться в одном из Петербургских вузов. И познакомился с девушкой, которая взялась подковать меня, провинциала, в культурном отношении. В один прекрасный день Наташа повела меня в Маринку, на оперу.
И что же я вижу в первые минуты спектакля?
На сцене появляется золотоволосая красавица. У нее белейшая кожа! Как она величаво идёт! От всей её наружности веет благородством! Пока я ещё ничего не подозреваю, просто отмечаю про себя, что молодая женщина на сцене прямо-таки роскошная. Но когда она запела высоким, удивительно знакомым голосом, меня мгновенно бросило в пот.
– Рыжуха!– ахнул я.
– Тише!– шипит на меня Наташа.
– Ты понимаешь, это Рыжуха, – шепчу, нет, кричу ей шепотом, – мы с ней в одном классе учились.
– Что ты говоришь?! – всполошилась знакомая. – Ты понимаешь, кто это? Это наша восходящая звезда!
– Как её звать?– ещё на что-то надеясь, спросил я.
– Светлана Сергеева.
Весь спектакль я просидел, не шелохнувшись, не понимая, чего больше было в моём сердце – восторга или стыда.
После спектакля Наташа говорит:
– Может, пойдёшь за кулисы? Ей приятно будет увидеть своего земляка, да ещё одноклассника. Жаль, цветов не купили!
– Нет, давай в другой раз, – скромно ответил я.
Мне меньше всего хотелось встречаться с Рыжухой с глазу на глаз.
По дороге довольно вяло я рассказывал Наташе о Светке, о том, как пела она на озере. Теперь я не говорил, что она «выла». Мой авторитет в глазах знакомой значительно подскочил. А я в своих глазах…
– Надо же! – удивлялась Наташа. – С Сергеевой в одном классе учился!
Я плохо её слушал. Думал о том, что не Светка рыжая. Светка оказалась золотой. А рыжие мы. Весь класс рыжий.


