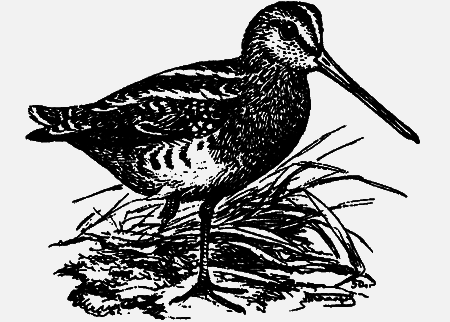Это очень приятно, когда тебя слушают, и каждый, кто приходил к Евгению Павловичу, старался принести в подарок кладку или тушку. И если кладка была редкой и хорошо препарирована, восторгу не было границ. «Золотая вещь!» — любил говорить Евгений Павлович в такие минуты.
Интересно, что из всех предметов его радовали только кладки и тушки. Вульгарный «вещизм», фетишизация чего-либо другого были ему абсолютно чужды. Будучи, например, страстным охотником, он никогда не стремился обладать дорогими ружьями, что было модным у других его коллег-охотников. У Евгения Павловича ружья были «среднего разбора», но с отличным боем. Да и библиотека у него была чисто рабочая, а не декоративная. Только то, что нужно для работы.
В коллективе Зоомузея он всегда жил несколько особняком, как чумы боялся всяческих «общественных нагрузок» и был совершенно вне мелких раздоров, которые, как и во всяком другом учреждении, немало волновали других сотрудников.
Евгений Павлович оставил глубокий след в умах и памяти целого поколения российских орнитологов, ныне, к сожалению, почти ушедшего. Когда стало очевидным, что экспедиционная работа для него закрыта навсегда, он потерял желание жить. Его трагический уход из жизни 25 июля 1968 года друзья поняли и не осудили.
ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
При подготовке этого тома к печати редакция сократила отдельные главы, пожертвовав в первую очередь эпизодами слишком «убийственными», где утилитарный подход к природе выглядит вопиюще. Согласовав все купюры с правообладателями книги, издательство пошло на такие сокращения.
ОТ АВТОРА
Есть люди, каждая беседа с которыми оставляет неизгладимый след. Именно таким человеком и был мой учитель, профессор Борис Михайлович Житков. Когда я поступил в Московский университет, он читал нам курс зоологии позвоночных, много писал научных и научно-популярных статей и книг и как-то совсем незаметно, но в то же время серьезно руководил работой многих студентов и даже их жизнью.
— Знаете, друзья, — однажды во время беседы обратился он к нам, — за свою жизнь я написал много полезных книг, но интересно, что только с тех пор, как мой однофамилец Борис Житков издал свои увлекательные рассказы, я стал пользоваться особенной популярностью. Года два тому назад меня остановил в нашем дворе маленький мальчуган. «Это ты написал о слонах?» — спросил он, глядя в упор. «Нет, это другой Житков», — пояснил я. Одно мгновение, казалось, мальчуган был озадачен моим ответом. «Но ты Житков?» — наконец спросил он. «Да, Житков». — «И Борис?» — «Да, и Борис», — ответил я. «Ну, если ты Житков и Борис — значит, это ты написал о слонах», — безапелляционно заявил он. После этого случая моя популярность растет с каждым днем. «Вот тот Житков, который написал о слонах в Индии», — показывают уже все дети Зубовского бульвара, когда я там появляюсь.
Этот маленький эпизод из жизни старика профессора, рассказанный нам между прочим, также не пропал бесследно. Я понял, что необходимо уметь писать не только научные, но и научно-популярные книги. Ведь их прочтет и оценит не узкий круг специалистов, а масса людей, причем людей самых разнообразных профессий и возрастов. И хотя я не писатель, а научный работник, но, любя науку и вспоминая слова своего учителя, в этой книге я решил в доступной форме изложить те наблюдения над животными, которые вошли в мои научные работы.
ЮНОСТЬ
ВСТУПЛЕНИЕ
Мое раннее детство протекало в Ленинграде. Когда наступало лето, наша семья выезжала на дачу в Мартышкино, но жизнь за городом почти изгладилась из моей памяти. Из нее я хорошо помню только отдельные моменты. Как-то в воскресный день мы с отцом, вооружившись сачком и банками, отправились к небольшому пруду и, ловя тритонов и карасиков у провели на его берегу большую часть дня. Эта маленькая экскурсия живо сохранилась в моей памяти. В тот день я впервые услышал пение полевого жаворонка. Он взлетел недалеко от меня из травы, поднялся в голубую высь, и в течение долгого времени оттуда лилась чудная песня — ей, казалось, не будет конца.
Много времени прошло с того дня, но и сейчас я вспоминаю ее, и когда бываю весной в поле, вслушиваюсь в звуки, знакомые мне с детства, и пытаюсь отыскать в голубом небе маленького певца. Несравненно лучше я помню свою жизнь в городе. Мне вспоминаются скучная осень и сырая зима, небо, вечно затянутое серыми тучами, как сквозь сито моросит мелкий дождь, плачут окна. Тускло было на улице, но дома я не скучал. Усевшись на кушетку, часами я перелистывал толстые книги, рассматривал картинки и мысленно уносился на далекий юг, где, по моим понятиям, вечно блистало яркое солнце на голубом небе. Однажды отец приобрел десять томов Брема, и эти книжки с изображением разнообразных животных как-то сами собой перешли в мою собственность и вскоре стали для меня самой большой драгоценностью. Совсем недавно мне попала в руки моя детская тетрадка с наклеенными картинками. Она оказалась заполненной всевозможными зверями и птицами. Этим я хочу сказать, что уже в раннем детстве больше всего меня интересовали животные, их повадки и образ жизни. Приезд к нам моего деда сделал мою жизнь еще более интересной. В то время ему было семьдесят лет. За свою жизнь дед — большой любитель природы — много путешествовал и охотился на разнообразных животных. С его приездом в нашей квартире появились чучела белых цапель, уток, фазанов и мелких птичек, перья которых отливали всеми цветами радуги. Эти птицы были собраны самим дедом во время его интересных и долгих поездок. Переходя от одного чучела к другому, я не мог оторвать глаз, сравнивал их с рисунками в своих книгах, расспрашивал деда.
Но не только чучела птиц привез с собой дед. Из своих вещей он извлек большую шкатулку. Она оказалась заполненной всевозможными мелкими предметами. Здесь были ржавые наконечники стрел, древние монеты, каменные изображения людей, окаменелые раковины и куски дерева. Все это, по словам деда, он сохранил на память. Смысл сказанного я понял несколько дней спустя.
Однажды вечером, когда в комнате запылал камин, дед уселся против него в широкое кресло и поставил на пол свою большую шкатулку. Откинув крышку и вынув из шкатулки один предмет, он с любовью осмотрел его со всех сторон, потом устремил свой задумчивый взгляд на огонь и, держа в руке невзрачную вещицу, начал свой долгий, интересный рассказ. Но он рассказывал не только о том предмете, который лежал у него в руке, — с ним была связана часть его жизни, проведенной в путешествиях. В первый вечер дед достал маленькую коробочку со странным засушенным насекомым и рассказал нам о песчаных пустынях, где беспощадно палит солнце, где к самому небу поднимаются смерчи. В следующий вечер маленькая трубка, искусно вырезанная из кости моржа, перенесла нас на далекий восток. И перед нашими глазами одна за другой вставали неведомые картины: беспокойное море, мелкие скалистые острова, занятые птичьими базарами, парусное судно, скрипящее и плачущее на все лады даже при небольшом ветре.
И так долгими зимними вечерами по рассказам деда я познакомился с многообразной природой нашей Родины, а затем и с жизнью тех изумительно ярких тропических птиц, чучелами которых были завешаны наши комнаты.
Потом наступила другая пора в моей жизни.
Из многолюдного, большого города наша семья переехала на маленькую железнодорожную станцию, затерянную в степях Нижнего Поволжья. И тогда я изо дня в день непосредственно соприкасался с природой и полюбил ее всеми силами детской души. Много времени прошло с тех пор, но и сейчас я вспоминаю эту полосу своего привольного детства. Вот в моей памяти со всеми подробностями встает небольшой железнодорожный поселок — Ахтуба. Среди безбрежных степей ахтубинские сады были настоящим оазисом — весь железнодорожный поселок утопал в зелени. Белые акации, сирень, черешни, вишни и яблони скрывали здания, их ветви настойчиво лезли в окна.
привела в науку или, во всяком случае, открыла им глаза на природу.
Да и не только это. «Записки натуралиста» – это страницы истории, живые, бесхитростные, подчас наивные, но удивительно выразительные и предельно простые. Они с необыкновенной силой дают нам возможность почувствовать, ощутить, увидеть прошлое. А знать прошлое необходимо, чтобы еще «больше любить настоящее.
В. Е. Флинт, профессор, вице-президент Всесоюзного орнитологического общества
ОТ АВТОРА
Есть люди, каждая беседа с которыми оставляет неизгладимый след. Именно таким человеком и был мой учитель, профессор Борис Михайлович Житков. Когда я поступил в Московский университет, он читал курс зоологии позвоночных, много писал научных и научно-популярных статей, книг и как-то совсем незаметно руководил работой многих студентов.
– Знаете, друзья,– однажды во время беседы обратился он к нам,– за свою жизнь я написал ряд полезных книг, но интересно, что только с тех пор, как мой однофамилец Борис Житков издал свои увлекательные рассказы, я стал пользоваться особенной популярностью.
Года два тому назад меня остановил в нашем дворе маленький мальчуган.
– Это ты написал о слонах? – спросил он, глядя в упор.
– Нет, это другой Житков,– пояснил я.
Одно мгновение, казалось, мальчуган был озадачен моим ответом.
– Но ты Житков? – наконец спросил он.
– Да, Житков.
– И Борис?
– Да, и Борис,– ответил я.
– Ну, если ты Житков и Борис – значит, это ты написал о слонах,-безапелляционно заявил он.
Этот маленький эпизод из жизни старика-профессора, рассказанный нам между прочим, не пропал бесследно. Я понял, что необходимо уметь писать не только научные, но и научно-популярные книги. Ведь их прочтет и оценит не узкий круг специалистов, а масса людей, причем людей самых разнообразных профессий и возрастов. И хотя я не писатель, а научный работник, но, любя науку и вспоминая слова своего учителя, я решил в этой книге в доступной форме изложить те наблюдения над животными, которые вошли в мои научные работы.
Мое раннее детство протекало в Ленинграде. Когда наступало лето, наша семья выезжала на дачу, но жизнь за городом почти изгладилась из моей памяти. Я хорошо помню только отдельные моменты. Как-то в воскресный день мы с отцом, вооружившись сачком и банками, отправились к небольшому пруду и, ловя тритонов и карасиков, провели на его берегу большую часть дня. Эта маленькая экскурсия живо сохранилась в моей памяти. В тот день я впервые услышал пение полевого жаворонка. Он взлетел недалеко от меня из травы, поднялся в голубую высь, и в течение долгого времени оттуда лилась чудная песня – ей, казалось, не будет конца. Много времени прошло с того дня, но и сейчас, когда бываю весной в поле, я вслушиваюсь в звуки, знакомые с детства, и пытаюсь отыскать в голубом небе маленького певца.
Несравненно лучше я помню свою жизнь в городе. Вспоминается скучная осень и сырая зима; небо, вечно затянутое серыми тучами; как сквозь сито, моросит мелкий дождь, плачут окна. Тускло было на улице, но дома я не скучал. Усевшись на кушетку, часами перелистывал толстые книги, рассматривал картинки и мысленно уносился на далекий юг, где, по моим понятиям, вечно блестело яркое солнце на голубом небе. Однажды отец приобрел десять томов Брема, и эти книги с изображениями разнообразных животных вскоре стали для меня самой большой драгоценностью. Уже в раннем детстве больше всего меня интересовали животные, их повадки и образ жизни. Недавно мне попала в руки моя детская тетрадка с наклеенными картинками. Она оказалась заполненной рисунками всевозможных зверей и птиц.
Приезд к нам деда сделал мою жизнь еще более интересной. В то время ему было 70 лет. За свою жизнь дед – большой любитель природы – много путешествовал и охотился на разнообразных животных. С его приездом в нашей квартире появились чучела белых цапель, уток, фазанов и мелких птичек, перья которых отливали всеми цветами радуги. Эти птицы были собраны Дедом во время его интересных и долгих поездок.
Переходя от одного чучела к другому, я не мог оторвать глаз, сравнивал их с рисунками в книгах, расспрашивал деда.
Но не только чучела птиц привез с собой дед. Из своих вещей он извлек большую шкатулку. Она оказалась заполненной различными мелкими предметами. Здесь были ржавые наконечники стрел, древние монеты, каменные изображения людей, окаменелые раковины и куски дерева. Все это, по его словам, он сохранил на память.
Однажды вечером, когда в комнате запылал камин, дед уселся против него в широкое кресло и поставил на пол свою большую шкатулку. Откинув крышку и вынув из шкатулки один предмет, он с любовью осмотрел его со всех сторон, потом устремил задумчивый взгляд на огонь и, держа в руке невзрачную вещицу, начал долгий, интересный рассказ. Но он рассказывал не только о том предмете, который лежал у него на руке. С ним была связана часть его жизни, проведенной в путешествиях. В первый вечер дед достал маленькую коробочку со странным засушенным насекомым и рассказал нам о песчаных пустынях, где беспощадно палит солнце, где к самому небу поднимаются смерчи. В следующий вечер маленькая трубка, искусно вырезанная из кости моржа, перенесла нас на Чукотку. И перед нашими глазами одна за другой вставали неведомые картины: беспокойное море, мелкие скалистые острова, птичьи базары, парусное судно, скрипящее и плачущее на все лады даже при небольшом ветре.
И так долгими зимними вечерами по рассказам деда я знакомился с многообразной природой нашей родины, а затем – и с жизнью тех изумительно ярких тропических птиц, чучелами которых были завешаны наши комнаты.
Потом наступила другая пора в моей жизни. Из многолюдного, большого города наша семья переехала на маленькую железнодорожную станцию, затерянную в степях Нижнего Поволжья. Именно там, изо дня в день непосредственно соприкасаясь с природой, я полюбил ее всеми силами детской души. Много времени ушло с тех пор, но и сейчас я вспоминаю эту полосу привольного детства. Вот в моей памяти со всеми подробностями встает небольшой железнодорожный поселок – Ахтуба. Среди безбрежных степей ахтубинские сады были настоящим оазисом – весь железнодорожный поселок утопал в зелени. Белые акации, сирень, черешни, вишни и яблони скрывали здания, их ветви настойчиво лезли в окна.
Как любил я наш большой запущенный сад! Зимой я проводил в нем целые дни, и меня не тянуло за его пределы. Весь сад граничил с унылой, то серой,
Есть люди, каждая беседа с которыми оставляет неизгладимый след. Именно таким человеком и был мой учитель, профессор Борис Михайлович Житков. Когда я поступил в Московский университет, он читал нам курс зоологии позвоночных, много писал научных и научно-популярных статей и книг и как-то совсем незаметно, но в то же время серьезно руководил работой многих студентов и даже их жизнью.
— Знаете, друзья, — однажды во время беседы обратился он к нам, — за свою жизнь я написал много полезных книг, но интересно, что только с тех пор, как мой однофамилец Борис Житков издал свои увлекательные рассказы, я стал пользоваться особенной популярностью. Года два тому назад меня остановил в нашем дворе маленький мальчуган. «Это ты написал о слонах?» — спросил он, глядя в упор. «Нет, это другой Житков», — пояснил я. Одно мгновение, казалось, мальчуган был озадачен моим ответом. «Но ты Житков?» — наконец спросил он. «Да, Житков». — «И Борис?» — «Да, и Борис», — ответил я. «Ну, если ты Житков и Борис — значит, это ты написал о слонах», — безапелляционно заявил он. После этого случая моя популярность растет с каждым днем. «Вот тот Житков, который написал о слонах в Индии», — показывают уже все дети Зубовского бульвара, когда я там появляюсь.
Этот маленький эпизод из жизни старика профессора, рассказанный нам между прочим, также не пропал бесследно. Я понял, что необходимо уметь писать не только научные, но и научно-популярные книги. Ведь их прочтет и оценит не узкий круг специалистов, а масса людей, причем людей самых разнообразных профессий и возрастов. И хотя я не писатель, а научный работник, но, любя науку и вспоминая слова своего учителя, в этой книге я решил в доступной форме изложить те наблюдения над животными, которые вошли в мои научные работы.
Евгений Спангенберг
Записки натуралиста
ОТ АВТОРА
Есть люди, каждая беседа с которыми оставляет неизгладимый след. Именно таким человеком и был мой учитель, профессор Борис Михайлович Житков. Когда я поступил в Московский университет, он читал курс зоологии позвоночных, много писал научных и научно-популярных статей, книг и как-то совсем незаметно руководил работой многих студентов.
— Знаете, друзья, — однажды во время беседы обратился он к нам, — за свою жизнь я написал ряд полезных книг, но интересно, что только с тех пор, как мой однофамилец Борис Житков издал свои увлекательные рассказы, я стал пользоваться особенной популярностью.
Года два тому назад меня остановил в нашем дворе маленький мальчуган.
— Это ты написал о слонах? — спросил он, глядя в упор.
— Нет, это другой Житков, — пояснил я.
Одно мгновение, казалось, мальчуган был озадачен моим ответом.
— Но ты Житков? — наконец спросил он.
— Да, Житков.
— И Борис?
— Да, и Борис, — ответил я.
— Ну, если ты Житков и Борис — значит, это ты написал о слонах, — безапелляционно заявил он.
Этот маленький эпизод из жизни старика-профессора, рассказанный нам между прочим, не пропал бесследно. Я понял, что необходимо уметь писать не только научные, но и научно-популярные книги. Ведь их прочтет и оценит не узкий круг специалистов, а масса людей, причем людей самых разнообразных профессий и возрастов. И хотя я не писатель, а научный работник, но, любя науку и вспоминая слова своего учителя, я решил в этой книге в доступной форме изложить те наблюдения над животными, которые вошли в мои научные работы.
Мое раннее детство протекало в Ленинграде. Когда наступало лето, наша семья выезжала на дачу, но жизнь за городом почти изгладилась из моей памяти. Я хорошо помню только отдельные моменты. Как-то в воскресный день мы с отцом, вооружившись сачком и банками, отправились к небольшому пруду и, ловя тритонов и карасиков, провели на его берегу большую часть дня. Эта маленькая экскурсия живо сохранилась в моей памяти. В тот день я впервые услышал пение полевого жаворонка. Он взлетел недалеко от меня из травы, поднялся в голубую высь, и в течение долгого времени оттуда лилась чудная песня — ей, казалось, не будет конца. Много времени прошло с того дня, но и сейчас, когда бываю весной в поле, я вслушиваюсь в звуки, знакомые с детства, и пытаюсь отыскать в голубом небе маленького певца.
Евгений Спангенберг
Записки натуралиста
ОТ АВТОРА
Есть люди, каждая беседа с которыми оставляет неизгладимый след. Именно таким человеком и был мой учитель, профессор Борис Михайлович Житков. Когда я поступил в Московский университет, он читал курс зоологии позвоночных, много писал научных и научно-популярных статей, книг и как-то совсем незаметно руководил работой многих студентов.
— Знаете, друзья, — однажды во время беседы обратился он к нам, — за свою жизнь я написал ряд полезных книг, но интересно, что только с тех пор, как мой однофамилец Борис Житков издал свои увлекательные рассказы, я стал пользоваться особенной популярностью.
Года два тому назад меня остановил в нашем дворе маленький мальчуган.
— Это ты написал о слонах? — спросил он, глядя в упор.
— Нет, это другой Житков, — пояснил я.
Одно мгновение, казалось, мальчуган был озадачен моим ответом.
— Но ты Житков? — наконец спросил он.
— Да, Житков.
— И Борис?
— Да, и Борис, — ответил я.
— Ну, если ты Житков и Борис — значит, это ты написал о слонах, — безапелляционно заявил он.
Этот маленький эпизод из жизни старика-профессора, рассказанный нам между прочим, не пропал бесследно. Я понял, что необходимо уметь писать не только научные, но и научно-популярные книги. Ведь их прочтет и оценит не узкий круг специалистов, а масса людей, причем людей самых разнообразных профессий и возрастов. И хотя я не писатель, а научный работник, но, любя науку и вспоминая слова своего учителя, я решил в этой книге в доступной форме изложить те наблюдения над животными, которые вошли в мои научные работы.
Мое раннее детство протекало в Ленинграде. Когда наступало лето, наша семья выезжала на дачу, но жизнь за городом почти изгладилась из моей памяти. Я хорошо помню только отдельные моменты. Как-то в воскресный день мы с отцом, вооружившись сачком и банками, отправились к небольшому пруду и, ловя тритонов и карасиков, провели на его берегу большую часть дня. Эта маленькая экскурсия живо сохранилась в моей памяти. В тот день я впервые услышал пение полевого жаворонка. Он взлетел недалеко от меня из травы, поднялся в голубую высь, и в течение долгого времени оттуда лилась чудная песня — ей, казалось, не будет конца. Много времени прошло с того дня, но и сейчас, когда бываю весной в поле, я вслушиваюсь в звуки, знакомые с детства, и пытаюсь отыскать в голубом небе маленького певца.
Несравненно лучше я помню свою жизнь в городе. Вспоминается скучная осень и сырая зима; небо, вечно затянутое серыми тучами; как сквозь сито, моросит мелкий дождь, плачут окна. Тускло было на улице, но дома я не скучал. Усевшись на кушетку, часами перелистывал толстые книги, рассматривал картинки и мысленно уносился на далекий юг, где, по моим понятиям, вечно блестело яркое солнце на голубом небе. Однажды отец приобрел десять томов Брема, и эти книги с изображениями разнообразных животных вскоре стали для меня самой большой драгоценностью. Уже в раннем детстве больше всего меня интересовали животные, их повадки и образ жизни. Недавно мне попала в руки моя детская тетрадка с наклеенными картинками. Она оказалась заполненной рисунками всевозможных зверей и птиц.
Приезд к нам деда сделал мою жизнь еще более интересной. В то время ему было 70 лет. За свою жизнь дед — большой любитель природы — много путешествовал и охотился на разнообразных животных. С его приездом в нашей квартире появились чучела белых цапель, уток, фазанов и мелких птичек, перья которых отливали всеми цветами радуги. Эти птицы были собраны Дедом во время его интересных и долгих поездок.
Переходя от одного чучела к другому, я не мог оторвать глаз, сравнивал их с рисунками в книгах, расспрашивал деда.
Но не только чучела птиц привез с собой дед. Из своих вещей он извлек большую шкатулку. Она оказалась заполненной различными мелкими предметами. Здесь были ржавые наконечники стрел, древние монеты, каменные изображения людей, окаменелые раковины и куски дерева. Все это, по его словам, он сохранил на память.
Однажды вечером, когда в комнате запылал камин, дед уселся против него в широкое кресло и поставил на пол свою большую шкатулку. Откинув крышку и вынув из шкатулки один предмет, он с любовью осмотрел его со всех сторон, потом устремил задумчивый взгляд на огонь и, держа в руке невзрачную вещицу, начал долгий, интересный рассказ. Но он рассказывал не только о том предмете, который лежал у него на руке. С ним была связана часть его жизни, проведенной в путешествиях. В первый вечер дед достал маленькую коробочку со странным засушенным насекомым и рассказал нам о песчаных пустынях, где беспощадно палит солнце, где к самому небу поднимаются смерчи. В следующий вечер маленькая трубка, искусно вырезанная из кости моржа, перенесла нас на Чукотку. И перед нашими глазами одна за другой вставали неведомые картины: беспокойное море, мелкие скалистые острова, птичьи базары, парусное судно, скрипящее и плачущее на все лады даже при небольшом ветре.
И так долгими зимними вечерами по рассказам деда я знакомился с многообразной природой нашей родины, а затем — и с жизнью тех изумительно ярких тропических птиц, чучелами которых были завешаны наши комнаты.
Потом наступила другая пора в моей жизни. Из многолюдного, большого города наша семья переехала на маленькую железнодорожную станцию, затерянную в степях Нижнего Поволжья. Именно там, изо дня в день непосредственно соприкасаясь с природой, я полюбил ее всеми силами детской души. Много времени ушло с тех пор, но и сейчас я вспоминаю эту полосу привольного детства. Вот в моей памяти со всеми подробностями встает небольшой железнодорожный поселок — Ахтуба. Среди безбрежных степей ахтубинские сады были настоящим оазисом — весь железнодорожный поселок утопал в зелени. Белые акации, сирень, черешни, вишни и яблони скрывали здания, их ветви настойчиво лезли в окна.
Как любил я наш большой запущенный сад! Зимой я проводил в нем целые дни, и меня не тянуло за его пределы. Весь сад граничил с унылой, то серой, то покрытой белой пеленой степью.
Ша юг и восток она уходила до самого горизонта и казалась мне бесконечной. Непривлекательна была степь зимой. Зато как великолепен был сад. Иной раз ветви деревьев покрывались пушистым инеем, среди них алела грудка снегиря, где-то по стволу дерева деловито стучал дятел, а вечером сотни ворон и галок собирались на высоких акациях и нестройный гомон голосов ночующей стаи проникал в самые отдаленные уголки нашей просторной квартиры.
Но и тогда я особенно любил весну и с нетерпением ждал, когда пройдет зима, когда наступит это чудное время года.
Вот весенний беспокойный ветер качает еще обнаженное дерево, а на его ветви, вздрагивая крылышками, поет скворец. Холодно еще, неприветливо, а прилетевший скворушка поет с увлечением. В его пении вы услышите кряканье утки, крик галки, скрипение немазаного колеса. Жадно вслушиваюсь я в эти нестройные звуки, узнавая в прилетевшем скворушке по манере петь старого знакомца. Второй год он прилетает в наш сад ранней весной и выводит птенцов в дупле тополя.
Пройдет еще неделька, другая. Степь покроется нежной молодой зеленью, а сад побелеет от цветущих фруктовых деревьев. На смену им зацветет сирень и белая акация, и тогда комнаты нашего дома наполнятся пряным, одуряющим запахом.
Что сравнится с весной?
Весна была для меня самым большим праздником, и не только потому, что оживала природа, но и по той причине, что весна сулила мне интересные поездки с отцом на охоту и рыбную ловлю, далекие походы в степь за тюльпанами и новых питомцев. Уже в то время я привык видеть в нашей квартире всевозможных животных. Большая вольера с канарейками стояла в одной из комнат; на окнах помещались аквариумы с рыбками. Но яркие канарейки — любимицы моей матери — и красные рыбки со свисающими хвостами и выпученными глазами не привлекали моего внимания. Веселый, бойкий скворец, наш воробей и зубастый хищник — щучонок — значительно больше нравились мне; жизнь их меня особенно интересовала. Выпавшие случайно из гнезд скворчата, молодые сорокопутики и птенцы других птичек неизменно весной попадали в нашу квартиру. Их вскармливание и воспитание занимало все мое время и делало мою жизнь осмысленной и интересной.
Евгений Спангенберг
Записки натуралиста
ОТ АВТОРА
Есть люди, каждая беседа с которыми оставляет неизгладимый след. Именно таким человеком и был мой учитель, профессор Борис Михайлович Житков. Когда я поступил в Московский университет, он читал курс зоологии позвоночных, много писал научных и научно-популярных статей, книг и как-то совсем незаметно руководил работой многих студентов.
— Знаете, друзья, — однажды во время беседы обратился он к нам, — за свою жизнь я написал ряд полезных книг, но интересно, что только с тех пор, как мой однофамилец Борис Житков издал свои увлекательные рассказы, я стал пользоваться особенной популярностью.
Года два тому назад меня остановил в нашем дворе маленький мальчуган.
— Это ты написал о слонах? — спросил он, глядя в упор.
— Нет, это другой Житков, — пояснил я.
Одно мгновение, казалось, мальчуган был озадачен моим ответом.
— Но ты Житков? — наконец спросил он.
— Да, Житков.
— И Борис?
— Да, и Борис, — ответил я.
— Ну, если ты Житков и Борис — значит, это ты написал о слонах, — безапелляционно заявил он.
Этот маленький эпизод из жизни старика-профессора, рассказанный нам между прочим, не пропал бесследно. Я понял, что необходимо уметь писать не только научные, но и научно-популярные книги. Ведь их прочтет и оценит не узкий круг специалистов, а масса людей, причем людей самых разнообразных профессий и возрастов. И хотя я не писатель, а научный работник, но, любя науку и вспоминая слова своего учителя, я решил в этой книге в доступной форме изложить те наблюдения над животными, которые вошли в мои научные работы.
Мое раннее детство протекало в Ленинграде.
Когда наступало лето, наша семья выезжала на дачу, но жизнь за городом почти изгладилась из моей памяти. Я хорошо помню только отдельные моменты. Как-то в воскресный день мы с отцом, вооружившись сачком и банками, отправились к небольшому пруду и, ловя тритонов и карасиков, провели на его берегу большую часть дня. Эта маленькая экскурсия живо сохранилась в моей памяти. В тот день я впервые услышал пение полевого жаворонка. Он взлетел недалеко от меня из травы, поднялся в голубую высь, и в течение долгого времени оттуда лилась чудная песня — ей, казалось, не будет конца. Много времени прошло с того дня, но и сейчас, когда бываю весной в поле, я вслушиваюсь в звуки, знакомые с детства, и пытаюсь отыскать в голубом небе маленького певца.
Несравненно лучше я помню свою жизнь в городе. Вспоминается скучная осень и сырая зима; небо, вечно затянутое серыми тучами; как сквозь сито, моросит мелкий дождь, плачут окна. Тускло было на улице, но дома я не скучал. Усевшись на кушетку, часами перелистывал толстые книги, рассматривал картинки и мысленно уносился на далекий юг, где, по моим понятиям, вечно блестело яркое солнце на голубом небе. Однажды отец приобрел десять томов Брема, и эти книги с изображениями разнообразных животных вскоре стали для меня самой большой драгоценностью. Уже в раннем детстве больше всего меня интересовали животные, их повадки и образ жизни. Недавно мне попала в руки моя детская тетрадка с наклеенными картинками. Она оказалась заполненной рисунками всевозможных зверей и птиц.
Евгений Спангенберг — «Записки натуралиста»
ЗООЛОГ И ПУТЕШЕСТВЕННИК
В 50-60-х годах у нас, молодых московских орнитологов, существовала нерушимая традиция: после каждой экспедиции сразу же, под свежим впечатлением, зайти в Зоологический музей на улице Герцена и, не спеша, во всех подробностях рассказать о прошедшей поездке невысокому, хрупкому на вид человеку, сидящему за простым лабораторным столом в заставленной коллекционными шкафами и сундуками комнате. И не было в Москве никого, кто бы более живо, с большим интересом и непосредственностью откликнулся бы на ваш рассказ, порадовался бы новым находкам, посетовал бы по поводу неудач, подсказал бы правильное решение спорных вопросов. Этим человеком был Евгений Павлович Спангенберг, автор книги, которую вам предстоит прочесть.
Пролетели годы, пришли новые люди, мало осталось и тех, кто знал его лично. Но жизнь Евгения Павловича — это большая страница в истории советской орнитологии, и знать ее должен каждый, кому дороги птицы, кому дорога наша родная природа, в ком живет дух странствий и открытий.
Евгений Павлович Спангенберг родился в 1898 году в Читинской области, в семье инженера-железнодорожника. С раннего детства все его привязанности были отданы птицам, природе, охоте. Это и сформировало жизненные интересы будущего ученого.
Вся жизнь, все помыслы Евгения Павловича были связаны с изучением животных, особенно птиц. Любовь к природе, к дальним странствиям определила его путь — путь зоолога, исследователя, ученого. С ружьем, биноклем и записной книжкой он обошел и объехал огромную территорию нашей Родины: Дальний Восток и Закавказье, тундры Кольского полуострова, Канина и нижней Колымы, пустыни Средней Азии и Казахстана, равнины Средней России, высокогорья Тянь-Шаня — тысячи и тысячи километров пути. И отовсюду привезены уникальные материалы, коллекции, наблюдения И все это — буквально на чистом энтузиазме, по большей части пешком, с большими трудностями, потому что тогда, в сороковые и даже пятидесятые годы, экспедиции снаряжались и оборудовались не так, как сейчас. Не было к услугам зоологов ни вертолетов, ни моторных лодок, ни телеметрии, ни звукозаписывающих приборов и длиннофокусной оптики. Палатка — и та была редкость!
Еще будучи студентом второго курса физико-математического факультета Московского университета, в 1924 году Евгений Павлович вместе со своим другом Г. А. Фейгиным совершил первую поездку в Среднюю Азию, в район нижнего течения Сырдарьи. Природа и особенно птицы этой страны покорили его воображение, и последующие четыре года он посвятил расширению и углублению исследования того же района. В 1928 году Евгений Павлович вместе со своим однокурсником, а ныне профессором С. П. Наумовым пересек Приаральские Каракумы и некоторое время работал на побережье Аральского моря. Однако он не считал исследование законченным и несколько раз снова возвращался к изучение птиц Южного Казахстана. В 1936 году он смог обследовать труднодоступный участок Кызылкумов, лежащий между старым руслом Жанадарьи и станцией Арысь. В результате этого цикла исследований, занявшего в общей сложности 9 лет экспедиционной работы, была создана база для монографического описания птиц нижней Сырдарьи и прилежащих районов. Эта сводка, опубликованная в «Трудах Зоологического музея МГУ» в 1941 году, может служить прекрасным образцом классической фаунистической работы, она содержит исчерпывающий материал по размещению и биологии птиц интереснейшей и до того времени совершенно неизученной территории. Стремление быть «первопроходцем», попасть в область орнитологического «белого пятна» и в последующие годы проявляется у Евгения Павловича постоянно. Больше всего его влекут нехоженые пути.
Параллельно исследованию Средней Азии Евгений Павлович начинает цикл экспедиций в Закавказье. Первая поездка в Азербайджан относится к 1925 году, затем Евгений Павлович работал в Ленкорани в 1929-1933 годах, в 1935-1937 годах обследовал орнитофауну Армении. Однако главная его задача — создание сводки по птицам Закавказья — осталась невыполненной.
В 1938 году внимание Евгения Павловича привлек Дальний Восток. Тогда этот край в орнитологическом отношении представлялся совершенной загадкой, и первая же поездка Евгения Павловича в долину реки Большой Уссурки принесла много неожиданного. В следующем, 1939 году Евгений Павлович снова едет на Большую Уссурку и обследует среднее ее течение со всей тщательностью, которая была присуща его полевой работе. Но итоги этих исследований сам Евгений Павлович рассматривал как сугубо предварительные и ограничился публикацией лишь нескольких статей. Только после новых поездок, последовавших уже после войны, в 1954, 1955 и 1958 годах, когда ему удалось посетить и детально обследовать южные районы Приморья, Евгений Павлович приступил к созданию монографического обзора. Эта работа, содержащая ценнейший фактический материал по биологии птиц Дальнего Востока, увидела свет только в 1965 году.
В 1946 году прерванная войной экспедиционная деятельность Евгения Павловича возобновилась. После непродолжительной, но весьма плодотворной поездки в Туркмению, когда совместно с Г. П. Дементьевым и А. К. Рустамовым он обследовал хребет Гязь-Гедык в Бадхызе, Евгений Павлович переключается на птиц Рыбинского водохранилища, где был создан Дарвинский заповедник. Эта работа была продолжена летом 1947 года, а обзор птиц Рыбинского моря, написанный совместно с И. М. Олигер, вышел двумя годами позже. Значение этой работы велико: она отражает начальный этап формирования орнитофауны искусственно созданного большого водоема и поэтому является отправной точкой для глубокого анализа всего процесса в целом. Собственно, такой анализ Евгений Павлович и ставил своей задачей, когда возобновил полевые наблюдения в Дарвинском заповеднике и прилежащих районах много позже, в 1963-1965 годы. Работа эта, однако, осталась незавершенной. Первый этап изучения фауны птиц нашей страны был завершен в 1951 -1954 годах выпуском коллективной шеститомной монографии «Птицы Советского Союза», подготовленной в стенах Зоологического музея и удостоенной Государственной премии. Лауреатом этой премии по заслугам стал и Евгений Павлович, написавший несколько разделов книги.
В 1955 году Евгений Павлович начал цикл работ по фауне птиц европейских тундр. Совместно с В. В. Леоновичем он совершает первую рекогносцировочную поездку на полуостров Канин, а в 1956-1957 годах проводит там полный полевой сезон. Чтобы сравнить орнитологическую характеристику европейских тундр с азиатскими, Евгений Павлович задумал и осуществил в 1959 году трудную экспедицию на северо-восток нашей страны, в низовья Колымы. Экспедиции на север оказались в высшей мере плодотворными и помимо богатых коллекционных материалов дали массу интереснейших наблюдений, которые легли в основу более чем десятка статей.
Перечень мест, где работал Евгений Павлович, будет неполным, если не упомянуть Крым, который Евгений Павлович очень любил. Как только выдавалось несколько более или менее свободных дней, он исчезал из Москвы и неизменно объявлялся в Крыму.
Характерной чертой Евгения Павловича как ученого было стремление побывать в одном и том же месте несколько раз. Ему постоянно казалось, что он что-то пропустил, что-то не учел, что-то не доработал. Такие повторные экспедиции позволили Евгению Павловичу не только исследовать фауну с исчерпывающей полнотой, но и проследить изменения в ее составе на протяжении ряда лет, что в свою очередь давало ключ к расшифровке причин этих изменений.
Он был необычайно строг и требователен к себе и своим работам. К публикации он допускал только совершенно безупречный материал и факты, которые проверял всесторонне. То, в чем он не был уверен, могло годами ждать окончательного подтверждения: Евгений Павлович считал, что лучше промолчать, чем говорить предположительно. Никаких домыслов, никаких гипотез — только проверенные факты! Вот почему его работы составляют золотой фонд отечественной орнитологической литературы. С годами их значение не снижается, а скорее возрастает.
Птиц Евгений Павлович знал отлично. Он мог безошибочно назвать любую птицу, увидев ее даже мельком или услышав голос. Загадок для него почти не было. Особое мастерство, какое-то почти сверхъестественное чутье проявлял он при отыскивании птичьих гнезд, и в его коллекции были кладки, которых ни до, ни после него не находил никто.
Евгений Павлович был выдающимся коллекционером. За свою жизнь он собрал богатейшую коллекцию птиц, большинство которых хранится сейчас в Зоологическом музее МГУ. Среди этих коллекций — уникальные экземпляры, ценность которых не определишь никакими деньгами.
Евгений Павлович был человеком в высшей степени своеобразным. Он не относился к категории людей, про которых говорят «широкая натура», «душа нараспашку». Нет, скорее он был замкнут, молчалив, как-то болезненно насторожен и недоверчив при первом знакомстве. Но вот вы заговаривали с ним о птицах — и все менялось: в его глазах возникала такая теплота, такой свет, такая радость, что всякая неловкость и натянутость первых минут таяла, уходила бесследно. Завоевать дружбу Евгения Павловича было нелегко, и «паролем» к ней были птицы. Он жил аскетом, не требуя для себя комфорта. Те, кто бывал у него дома, помнят коммунальную квартиру в старом доме, где собственное «жизненное пространство» Евгения Павловича ограничивалось небольшой комнатой. Письменный стол, постель, шкаф с книгами, коробки с коллекциями. Спартанская обстановка. А модная мебель и прочие атрибуты современного быта — зачем они были ему? Зато сколько захватывающих споров, сколько увлекательных рассказов слышали эти стены! Когда годы и здоровье наложили ограничения на его дальние поездки, для нас, молодых московских орнитологов, стало обычаем привозить что-нибудь особенно интересное для Евгения Павловича. Благодарный взгляд его был для нас лучшей наградой.
Евгений Павлович очень любил охоту и все, что с ней связано,- ружья, собак, сами поездки. Однако и в отношении охоты Евгений Павлович вел себя не так, как все. Для него охота была почти исключительно средством тесного общения с природой. Да и сама охота всегда выглядела как-то несерьезно: убьет он осенью пару чирков или вальдшнепа на весенней тяге — и счастлив целую неделю. Никогда он не участвовал в облавных охотах на лосей или кабанов, никогда не ездил в угодья, по-настоящему богатые дичью, хотя его нередко приглашали в благоустроенные хозяйства. Стрелял он великолепно, но демонстрировал свое искусство обычно только при охоте на бекасов, да на перепелов в Крыму. Зато говорить о ружьях и собаках, об охотничьих традициях мог часами. И, слушая его, каждый понимал, что дороги Евгению Павловичу не выстрел, не дичь, а вся атмосфера очередного выезда на свидание с природой.
Многогранность таланта Евгения Павловича особенно ярко блеснула, когда он попробовал свои силы в научно-художественной литературе. «Записки натуралиста», неоднократно переиздававшиеся и переведенные на иностранные языки, — это действительно глубоко художественное произведение. Это подлинный гимн животным, дальним дорогам, родным русскому сердцу местам. Это гимн научному поиску, радости открытия, долгой и трудной экспедиционной работе. Немало жизненных путей определила эта книга, немало людей привела в науку или, во всяком случае, открыла им глаза на природу.
Да и не только это. «Записки натуралиста» — это страницы истории, живые, бесхитростные, подчас наивные, но удивительно выразительные и предельно простые. Они с необыкновенной силой дают нам возможность почувствовать, ощутить, увидеть прошлое. А знать прошлое необходимо, чтобы еще «больше любить настоящее.
В. Е. Флинт, профессор, вице-президент Всесоюзного орнитологического общества.
ОТ АВТОРА
Есть люди, каждая беседа с которыми оставляет неизгладимый след. Именно таким человеком и был мой учитель, профессор Борис Михайлович Житков. Когда я поступил в Московский университет, он читал курс зоологии позвоночных, много писал научных и научно-популярных статей, книг и как-то совсем незаметно руководил работой многих студентов.
— Знаете, друзья,- однажды во время беседы обратился он к нам,- за свою жизнь я написал ряд полезных книг, но интересно, что только с тех пор, как мой однофамилец Борис Житков издал свои увлекательные рассказы, я стал пользоваться особенной популярностью.
Года два тому назад меня остановил в нашем дворе маленький мальчуган.
— Это ты написал о слонах? — спросил он, глядя в упор.
— Нет, это другой Житков,- пояснил я.
Одно мгновение, казалось, мальчуган был озадачен моим ответом.
— Но ты Житков? — наконец спросил он.
— Да, Житков.
— И Борис?
— Да, и Борис,- ответил я.
— Ну, если ты Житков и Борис — значит, это ты написал о слонах,- безапелляционно заявил он.
Этот маленький эпизод из жизни старика-профессора, рассказанный нам между прочим, не пропал бесследно. Я понял, что необходимо уметь писать не только научные, но и научно-популярные книги. Ведь их прочтет и оценит не узкий круг специалистов, а масса людей, причем людей самых разнообразных профессий и возрастов. И хотя я не писатель, а научный работник, но, любя науку и вспоминая слова своего учителя, я решил в этой книге в доступной форме изложить те наблюдения над животными, которые вошли в мои научные работы.
Детские годы и университет.
Мое раннее детство протекало в Ленинграде. Когда наступало лето, наша семья выезжала на дачу, но жизнь за городом почти изгладилась из моей памяти. Я хорошо помню только отдельные моменты. Как-то в воскресный день мы с отцом, вооружившись сачком и банками, отправились к небольшому пруду и, ловя тритонов и карасиков, провели на его берегу большую часть дня. Эта маленькая экскурсия живо сохранилась в моей памяти. В тот день я впервые услышал пение полевого жаворонка. Он взлетел недалеко от меня из травы, поднялся в голубую высь, и в течение долгого времени оттуда лилась чудная песня — ей, казалось, не будет конца. Много времени прошло с того дня, но и сейчас, когда бываю весной в поле, я вслушиваюсь в звуки, знакомые с детства, и пытаюсь отыскать в голубом небе маленького певца.
Несравненно лучше я помню свою жизнь в городе. Вспоминается скучная осень и сырая зима; небо, вечно затянутое серыми тучами; как сквозь сито, моросит мелкий дождь, плачут окна. Тускло было на улице, но дома я не скучал. Усевшись на кушетку, часами перелистывал толстые книги, рассматривал картинки и мысленно уносился на далекий юг, где, по моим понятиям, вечно блестело яркое солнце на голубом небе. Однажды отец приобрел десять томов Брема, и эти книги с изображениями разнообразных животных вскоре стали для меня самой большой драгоценностью. Уже в раннем детстве больше всего меня интересовали животные, их повадки и образ жизни. Недавно мне попала в руки моя детская тетрадка с наклеенными картинками. Она оказалась заполненной рисунками всевозможных зверей и птиц.
Приезд к нам деда сделал мою жизнь еще более интересной. В то время ему было 70 лет. За свою жизнь дед — большой любитель природы — много путешествовал и охотился на разнообразных животных. С его приездом в нашей квартире появились чучела белых цапель, уток, фазанов и мелких птичек, перья которых отливали всеми цветами радуги. Эти птицы были собраны Дедом во время его интересных и долгих поездок.
Переходя от одного чучела к другому, я не мог оторвать глаз, сравнивал их с рисунками в книгах, расспрашивал деда.
птицаНо не только чучела птиц привез с собой дед. Из своих вещей он извлек большую шкатулку. Она оказалась заполненной различными мелкими предметами. Здесь были ржавые наконечники стрел, древние монеты, каменные изображения людей, окаменелые раковины и куски дерева. Все это, по его словам, он сохранил на память.
Однажды вечером, когда в комнате запылал камин, дед уселся против него в широкое кресло и поставил на пол свою большую шкатулку. Откинув крышку и вынув из шкатулки один предмет, он с любовью осмотрел его со всех сторон, потом устремил задумчивый взгляд на огонь и, держа в руке невзрачную вещицу, начал долгий, интересный рассказ. Но он рассказывал не только о том предмете, который лежал у него на руке. С ним была связана часть его жизни, проведенной в путешествиях. В первый вечер дед достал маленькую коробочку со странным засушенным насекомым и рассказал нам о песчаных пустынях, где беспощадно палит солнце, где к самому небу поднимаются смерчи. В следующий вечер маленькая трубка, искусно вырезанная из кости моржа, перенесла нас на Чукотку. И перед нашими глазами одна за другой вставали неведомые картины: беспокойное море, мелкие скалистые острова, птичьи базары, парусное судно, скрипящее и плачущее на все лады даже при небольшом ветре.
И так долгими зимними вечерами по рассказам деда я знакомился с многообразной природой нашей родины, а затем — и с жизнью тех изумительно ярких тропических птиц, чучелами которых были завешаны наши комнаты.
Потом наступила другая пора в моей жизни. Из многолюдного, большого города наша семья переехала на маленькую железнодорожную станцию, затерянную в степях Нижнего Поволжья. Именно там, изо дня в день непосредственно соприкасаясь с природой, я полюбил ее всеми силами детской души. Много времени ушло с тех пор, но и сейчас я вспоминаю эту полосу привольного детства. Вот в моей памяти со всеми подробностями встает небольшой железнодорожный поселок — Ахтуба. Среди безбрежных степей ахтубинские сады были настоящим оазисом — весь железнодорожный поселок утопал в зелени. Белые акации, сирень, черешни, вишни и яблони скрывали здания, их ветви настойчиво лезли в окна.
Как любил я наш большой запущенный сад! Зимой я проводил в нем целые дни, и меня не тянуло за его пределы. Весь сад граничил с унылой, то серой, то покрытой белой пеленой степью.
Ша юг и восток она уходила до самого горизонта и казалась мне бесконечной. Непривлекательна была степь зимой. Зато как великолепен был сад. Иной раз ветви деревьев покрывались пушистым инеем, среди них алела грудка снегиря, где-то по стволу дерева деловито стучал дятел, а вечером сотни ворон и галок собирались на высоких акациях и нестройный гомон голосов ночующей стаи проникал в самые отдаленные уголки нашей просторной квартиры.
Но и тогда я особенно любил весну и с нетерпением ждал, когда пройдет зима, когда наступит это чудное время года.
Вот весенний беспокойный ветер качает еще обнаженное дерево, а на его ветви, вздрагивая крылышками, поет скворец. Холодно еще, неприветливо, а прилетевший скворушка поет с увлечением. В его пении вы услышите кряканье утки, крик галки, скрипение немазаного колеса. Жадно вслушиваюсь я в эти нестройные звуки, узнавая в прилетевшем скворушке по манере петь старого знакомца. Второй год он прилетает в наш сад ранней весной и выводит птенцов в дупле тополя.
Пройдет еще неделька, другая. Степь покроется нежной молодой зеленью, а сад побелеет от цветущих фруктовых деревьев. На смену им зацветет сирень и белая акация, и тогда комнаты нашего дома наполнятся пряным, одуряющим запахом.
Что сравнится с весной?
Весна была для меня самым большим праздником, и не только потому, что оживала природа, но и по той причине, что весна сулила мне интересные поездки с отцом на охоту и рыбную ловлю, далекие походы в степь за тюльпанами и новых питомцев. Уже в то время я привык видеть в нашей квартире всевозможных животных. Большая вольера с канарейками стояла в одной из комнат; на окнах помещались аквариумы с рыбками. Но яркие канарейки — любимицы моей матери — и красные рыбки со свисающими хвостами и выпученными глазами не привлекали моего внимания. ПтицаВеселый, бойкий скворец, наш воробей и зубастый хищник — щучонок — значительно больше нравились мне; жизнь их меня особенно интересовала. Выпавшие случайно из гнезд скворчата, молодые сорокопутики и птенцы других птичек неизменно весной попадали в нашу квартиру. Их вскармливание и воспитание занимало все мое время и делало мою жизнь осмысленной и интересной.
«Что может быть лучше, интереснее ручной зверушки или пичуги!» — думал я в детстве. И если моих сверстников-мальчуганов интересовали заводная машина, подводная лодка или проектор, то эти пахнущие свежей краской яркие игрушки привлекали мое внимание лишь на самое короткое время.
— Кому что, а курице просо,- посмеивались надо мной в семье, когда в нашей квартире появлялось новое животное. Эти слова были сама истина. Кому что, а для меня в то время зверек или птичка были самым лучшим, самым дорогим подарком.
Никогда не забуду, как однажды из соседнего поселка к отцу приехал сельский учитель. Он долго сидел у отца в кабинете, а затем вышел в столовую и, увидев меня, протянул мне картонную коробку. «Это тебе»,- сказал он между прочим и спустился с крыльца во двор, где стояли его дрожки. В крышке коробки было пробито много отверстий; я сразу сообразил, что в ней какая-то живность. Но то, что я нашел, превзошло все мои ожидания. В коробке сидел маленький живой зверек — тушканчик. Для меня это был ни с чем не сравнимый, драгоценный подарок.
Со временем тушканчик стал совершенно ручным и, пользуясь моей заботой, прожил в нашей семье, вероятно, значительно дольше, чем живут эти грызуны на свободе. Будучи ночным животным, дневные часы он проводил в клетке, свернувшись в комочек. Спустя год в маленькой транспортной клетке, специально изготовленной моим отцом, он совершил переезд в Москву, а затем в Иркутск, где около шести а тысячи километров, они возвращаются весной к месту и даже к дереву, на котором выросли. В этом отношении память у птиц замечательно развита. Таким образом, в возвращении сизоворонки в наш сад нет ничего особенного. Она вернулась на свою родину, на ту самую сухую ветвь акации, где она привыкла сидеть еще желторотым птенцом. Другое меня удивляет. Как могла птица так долго оставаться доверчивой к людям, которые ее выкормили? Из моей большой практики это единственный случай.
Сивка прожила в нашем саду недолго. Несколько дней она продержалась возле дома, влетала в комнаты, садилась на перила балкона рядом с нами, но затем вдруг исчезла. Вероятно, ручную птицу потянуло к собратьям.
ФОМКА
Мой брат и его закадычный друг — сын школьного учителя Петька — готовились к сдаче экзаменов. Каждый день к девяти часам утра Петька являлся к нам и вместе с братом просиживал в кабинете отца часов до одиннадцати. В одно осеннее утро, о котором я сейчас расскажу, Петька прибежал к нам особенно рано. Войдя в столовую, где вся наша семья собралась к утреннему чаю, он сообщил, что ему сегодня принесли живого и вполне здорового лесного кулика — вальдшнепа. Живой вальдшнеп, и в руках Петьки — это для меня было невыносимо. Достать живого и здорового вальдшнепа уже давно было моей заветной мечтой. Но осуществить свою мечту мне не удавалось.
Желая доставить мне удовольствие, один из знакомых охотников как-то принес вальдшнепа-подранка. Но лучше бы он этого не делал. Крыло птицы, перебитое у самого основания дробью, сильно распухло, и вальдшнеп, спустя два дня погиб от гангрены. Гибель его была для меня настоящим горем. И вдруг живой и здоровый вальдшнеп у Петьки! Если бы это сообщение я услышал от другого мальчика, то, конечно, принял бы все меры, чтобы приобрести птицу. Но это был Петька — сегодня он сознательно прибежал особенно рано только для того, чтобы подразнить меня и вызвать во мне зависть. «Зачем ему вальдшнеп? Он не уделит ему и минуты своего времени, и несчастная птица погибнет с голоду. Эх, если бы он отдал мне этого вальдшнепа!.. Но разве Петька способен на такой поступок?» В тот момент я чуть не заплакал.
Сразу после чая оба мальчугана скрылись в кабинете отца, а я оделся и ушел в сад. В тишине нашего запущенного сада я легче переживал свои детские невзгоды.
Было тихое осеннее утро, низко висело серое небо, от земли поднималось теплое испарение, пахло прелым листом. Я вышел на одну узкую тропинку и незаметно для себя очутился в отдаленной и глухой части сада. Здесь тропинка прихотливо извивалась среди крупных и густых кустов сирени и желтой розы. На одном из поворотов мой рассеянный взгляд неожиданно наткнулся на что-то странное. Совсем близко от тропинки, рядом с полусгнившим пеньком яблони, Вальдшнепсреди поблекшей сырой листвы неподвижно сидела крупная темная птица. Окраска ее спины со струйчатым рисунком почти сливалась с окружающим фоном, длинный клюв наискось опускался до самой земли, а чудные, большие глаза внимательно следили за моими движениями. Я замер на месте — это был вальдшнеп. Завидев меня, он лишь плотнее прижался к почве и остался неподвижным. Птица подпустила меня так близко, что, сделав вперед два шага, я мог бы попытаться схватить ее рукой, но на это я не решился. Уже тогда я хорошо знал, что вальдшнеп, подпуская к себе на самое близкое расстояние, способен быстро и ловко взлететь в воздух в вертикальном направлении. Я боялся риска. Не делая резких движений и не производя шума, я осторожно попятился назад и, как только скрылся за ближайшим кустиком, опрометью бросился к дому.
Я решил попытаться поймать вальдшнепа при помощи сачка, насаженного на длинную палку. Но я обыскал комнаты, кладовую, слетал на чердак, а сачка, как назло, нигде не было. Потеряв около четверти часа, я нашел его наконец, но — о несчастье! К длинной палке был прикреплен только металлический остов — кто же сорвал сетку? Но я не мог терять времени. Ведь вальдшнеп не будет оставаться на одном месте так долго. Заменив сетку куском кисейной занавески, я бросился по знакомой тропинке к месту, где оставил птицу. Я почти не надеялся, что найду ее, и как же велика была моя радость, когда я вновь увидел вальдшнепа! Он продолжал сидеть в той же позе и черными, влажными глазами смотрел в мою сторону. Тихо опустился я на колени и стал осторожно над самой землей двигать сачок вперед — все ближе и ближе к сидящей птице. Вот сачок у самого вальдшнепа, а он продолжает оставаться на месте. Еще секунда мучительного напряжения и, сделав резкий бросок вперед, я накрыл вальдшнепа. Но что за странность? — пойманная птица почти не билась. Трясущимися руками я вытащил ее из-под сачка, и только тогда мне стала ясна причина странного ее поведения. Вальдшнеп был худ, как щепка. Для того чтобы его поймать, не нужно было сачка на длинной палке и особенных предосторожностей. Вальдшнеп оказался так истощен длительным голоданием, что все равно не в силах был подняться на крылья.
Каждый год вальдшнепы появлялись в нашем саду поздней осенью. Как оазис среди бесплодной степи, их привлекали сады Ахтубы. Иной раз вальдшнепов встречалось очень много.
ВальдшнепВальдшнеп, перелетев через бесплодные степи, нуждается в обильной пище. И в первую очередь ему нужны дождевые черви. Но эта пища доступна для вальдшнепа далеко не всюду. Отыскивает ее вальдшнеп своим длинным, чувствительным клювом, засовывая его в сырую почву. Мягкая, сырая почва во всякое время года необходима. Для благополучия птицы. И вот в поисках вальдшнепа я осторожно исследую окраины огорода, где к нему примыкают кустарники, или бесшумно двигаюсь вдоль длинного, пересекающего сад деревянного желоба. По нему летом текла вода и, просачиваясь сквозь рассохшиеся стенки, увлажняла почву. А вот среди густых яблонь стоит наполненная водой большая бочка. Вокруг нее ребята глубоко вскопали землю: это они искали червей для рыбной ловли. Не поискать ли и здесь вальдшнепа? Признаюсь, мои поиски не были вполне бескорыстными. Я мечтал поймать вальдшнепа. И хотя при попытках накрыть птицу сачком меня преследовали неудачи, я все же ни на одну минуту не терял надежды. Вот в глубокой меже огорода, среди снятой капусты, я нахожу отверстия в почве. Это в поисках дождевых червей вальдшнеп натыкал землю своим длинным клювом. И я, опустившись на колени, устанавливаю своеобразную ловушку. В том месте, где кормится вальдшнеп, я укрепляю на суровой нитке около десятка сухих стебельков с колючим колоском на вершине. Сколько всевозможных птичек поймал я этим растением! Пристанет колючий колосок к перьям крыла птички, и та не может подняться на воздух.
«Неужели же я не поймаю вальдшнепа?» -: думал я, ожидая осеннего появления птиц. Но год этот оказался исключительным: было очень жаркое лето и сухая осень. Почва покрылась твердой коркой, дождевые черви ушли глубже и оказались недоступны для пролетной птицы. Не случайно пойманный вальдшнеп дался мне легко в руки. Сколько погибло в ту осень вальдшнепов — сказать трудно. Истощенные птицы не в состоянии были лететь дальше и массами гибли при выпадении снега.
Когда я нес пойманного вальдшнепа, он несколько раз пытался проглотить маленькую пуговку на моей курточке. Изголодавшаяся птица, видимо, принимала ее за паука или какое-то насекомое. Это заставило меня броситься бегом к дому. Влетев в столовую, я столкнулся с братом и Петькой. Они кончили занятия и собрались выйти на воздух. «Вот»,- показал я им пойманную птицу и шмыгнул в комнату матери. Я был крайне возбужден и хотел со всеми поделиться своей радостью. Но у меня не было времени, чтобы рассказать, как вальдшнеп попал мне в руки.
Но мой поступок поняли иначе. Мальчуганы многозначительно переглянулись, и физиономия Петьки ярко отразила его воинственное настроение. Видимо, только присутствие старших заставило его сдержаться. Ведь Петька и мой брат были уверены, что это их птица и что я завладел ею, пользуясь их отсутствием. Мальчуганы поспешно побежали через наш большой двор к школе. Они спешили выяснить, как их вальдшнеп мог попасть в мои руки. А еще полчаса спустя они принесли мертвого вальдшнепа. В неумелых руках он подох, как только проглотил несколько кусочков сырого мяса. «Разве можно досыта кормить изголодавшуюся птицу?» — с укором сказала им моя мать.
Многие птицы хорошо поют. Ради пения их часто держат в неволе. Но какой интерес держать вальдшнепа, тем более что этот кулик ведет сумеречный и ночной образ жизни? Мой новый питомец был до крайности молчалив и только в минуты беспокойства, да и то не всегда, издавал короткое своеобразное покрякивание. И все же вальдшнеп был для меня во много раз интереснее канареек, наполнявших наш дом своим пением. Я поместил его в светлой пустой комнате. Часть ее пола была устлана душистым сеном; здесь же стояли низкие, наполненные землей ящики с зеленью; вдоль стен и у окна помещались крупные сухие деревья. Помимо вальдшнепа здесь жили однокрылый перепел, ручной полевой воробей и две синички.
Наученный горьким опытом, я очень боялся за жизнь своего питомца и при его кормлении первое время придерживался строгих правил. Пока вальдшнеп вполне не окреп, я кормил его через каждые полчаса, но давал ему такие маленькие порции сырого мяса, что они не могли утолить голода. С жадностью проглотив крошечный кусочек, птица доверчиво тыкалась длинным клювом в мои руки, буквально выпрашивая новую подачку. Но я был непоколебим в соблюдении правил и спешил уйти из комнаты.
Спустя две недели вальдшнеп стал совершенно ручной птицей. К этому времени я уже отбросил излишние предосторожности и два раза в день кормил его досыта. Фомка — так назвал я своего питомца — отлично знал время кормежки.
Бывало, чуть забрезжит поздний зимний рассвет, а я уже в комнате у пернатых любимцев. Ложусь на пол, ставлю перед собой широкую, низкую банку с кормом и прикрываю ее ладонью. С моим появлением проголодавшийся вальдшнеп покидает излюбленный уголок за ящиком с зеленью и доверчиво вперевалку идет к кормушке. Но доступ к корму вальдшнепприкрыт рукой, и, чтобы до него добраться, Фомка поспешно просовывает длинный клюв между пальцами моей руки и один за другим извлекает из кормушки кусочки мяса. В эти моменты я безнаказанно поглаживаю его спинку.
Но вот Фомка утолил голод и, уютно усевшись в уголке, предался дремоте.
— Перестань спать, увалень,- бесцеремонно толкаю я его пальцем в бок,- ведь целый день впереди.
Фомке не нравится моя фамильярность. Сначала он вяло защищается от моей руки и вдруг, выйдя из сонливого состояния, переходит к активному нападению. Видимо, не надеясь на слабый, мягкий клюв, Фомка издает смешные крякающие звуки, взъерошивает оперение и бьет руку крылом, как голубь.
Интересно, что в течение всей зимы Фомка ни разу не пытался взлететь. «Неужели он калека?» — думал я и однажды, желая проверить догадку, подбросил вальдшнепа в воздух. Беспомощно раскрыв крылья, Фомка шлепнулся на сено и торопливо ушел в свой угол. После этого неудачного эксперимента я вполне уверовал, что, по непонятной для меня причине, Фомка потерял способность к полету. Пожалуй, я был даже рад этому. Ведь после суровой зимы придет весна и будет жалко держать здоровую птицу в неволе. Другое дело — птица-калека. Выпусти ее на волю — она все равно погибнет. Пусть же Фомка живет на моем попечении.
В том году зима затянулась. В марте бушевали метели, как на севере. После них установились морозы, звонко скрипел под ногами снег, и казалось, не будет конца холоду. И вдруг прорвало.
Бурная весна, не оглядываясь, шагала вперед, обнажая почву, превращая сугробы снега в широкие лиманы; в них отражались белые облачка, плывшие в голубом небе. Долго, где-то южнее нас, пережидали перелетные птицы весеннее ненастье и вдруг сорвались с места и неудержимо повалили к северу. Душистый степной воздух сразу наполнился бесчисленными голосами. С гоготом летели вереницы гусей, свистя крыльями, их обгоняли стаи уток, пели жаворонки, где-то кричал чибис. Празднуя победу, запоздавшая весна особенно ликовала.
Прошла неделя; наступили теплые, даже жаркие дни, зазеленела трава, на деревьях лопались набухшие почки.
Однажды, войдя в комнату, я понял, что мне пора расстаться со своими зимними питомцами. Обе синички и полевой воробей беспокойно перелетали с места на место, заглядывали сквозь стекло наружу.
Полчаса спустя я выставил вторую оконную раму и, с трудом отодвинув засовы, распахнул окно настежь. Бодрящий свежий воздух вместе с весенним гомоном ворвался в комнату и в первый момент, видимо, оглушил, испугал мое птичье население. Однокрылый перепел, пытаясь взлететь, несколько раз подпрыгнул в воздух и шлепнулся на пол. Фомка забрался в самый темный угол комнаты.
Много времени прошло, пока, наконец, обе синицы и воробей решились воспользоваться открытым окном и вылетели наружу.
Но зато как пели мои синички, перелетая с ветви на ветвь ближайшего дерева! Такого звонкого и веселого пения я не слыхал у них ни разу.
вальдшнепУже темнело, когда я вновь зашел в птичник, чтобы покормить своих питомцев. После долгого пребывания в саду мне показалось здесь особенно душно. Я открыл окно и, удобно усевшись на сено, поставил на пол чашку с кормом. Как и обычно, смешной Фомка топтался вокруг меня, толкал мои руки своим теплым клювом и, наконец, добравшись до съестного, с удовольствием глотал один за другим кусочки мяса.
Но вдруг вальдшнеп перестал есть и насторожился. Быть может, его поразил какой-нибудь звук или он заметил пролетевшую мимо окна птицу. Он как-то весь подтянулся, оперение плотно прилегло к телу, крылья слегка вздрагивали. Желая подразнить своего любимца, я толкнул птицу в бок пальцем. Но вместо того чтобы защищаться или уйти в свой уголок, Фомка неожиданно взлетел в воздух. Одно мгновение птица билась под потолком комнаты, затем ловко нырнула в открытое окно и вылетела на волю.
В следующие секунды я видел, как вальдшнеп пересек сад, взмыл вверх над большими деревьями и, наконец, как бы растаял в вечерних сумерках. «Прощай, Фомка!» Долго стоял я в раздумье у окна, смотрел на угасающую зарю, вслушиваясь в неясные звуки весеннего вечера, и вспоминал Фомку.
— Прощай, смешной Фомка! — Я закрыл окно и уселся на подоконник.
В комнате совсем стемнело и было безжизненно тихо. Только на белой стене неясно маячила маленькая, сгорбленная фигурка перепела. Однокрылая птица суетливо бегала вдоль стенки туда и обратно, издавая тихие звуки и шелестя сеном. Что-то сиротливое и гнетущее было в этих неясных звуках. И вдруг нервы мои не выдержали. Невыносимое чувство жалости и обиды заполнило мое сердце. Мне было обидно, но не за улетевшего Фомку, не за свое одиночество. В этот праздник весны до слез мне стало жалко моего бедного бескрылого перепела.
ДРУГОЕ МОЕ УВЛЕЧЕНИЕ
Не только ручные зверьки и птицы окружали меня в детстве; мое детство было тесно связано с охотничьими собаками, с ружьями, а несколько позднее и с охотой. Как же я мог пристраститься к охоте, когда так любил все живое? На этот вопрос не ответишь сразу, хотя бы в общих чертах нужно познакомить читателя с той обстановкой и с теми людьми, которые окружали меня в детстве.
Самые ранние мои воспоминания связаны с кабинетом отца, инженера-путейца. Кабинет так сильно отличался от остальных комнат нашей квартиры, что особенно врезался мне в память. Я и сейчас как будто вижу его со всеми подробностями. Просторная и всегда прохладная комната невидимой гранью разделялась на две половины. Одна представляла собой мастерскую. Вдоль стены стояли большой дубовый верстак и токарный станок. Над ними правильными рядами висели на стене разнообразные инструменты. Отец любил заниматься токарным и столярным деломоружие и шкуры и, по его словам, отдыхал за этим занятием после умственной работы. В другой половине комнаты помещались огромный письменный стол, два массивных кресла и широкий диван, обитый кожей. На стенах висели седло, шкуры зверей, охотничьи ружья, рога косуль и оленей. Простота сочеталась здесь со строгостью и образцовым порядком. Все было удобно, под руками, на своем месте. Я никогда не позволял себе шумных игр в этой комнате. Но не потому, что отец не любил шума. Сама обстановка этой комнаты как-то заставляла меня быть серьезным, стараться выглядеть старше своего возраста. С чувством благоговения часто проникал я в кабинет отца, взбирался на широкий диван и часами оставался здесь, рассматривая развешанные на стенах оружие и шкуры животных.
Мне было шесть лет, когда отец впервые взял меня на охоту.
— Приготовь сапоги, смажь их хорошенько салом — завтра пойдем на охоту,- сказал однажды он за обедом. Я едва дождался этого «завтра».
Стоял яркий и теплый сентябрьский день. Мы с отцом по железнодорожному мосту перешли волжский рукав — Ахтубу. По его правому берегу тянулись фруктовые сады и бахчи, а сразу за ними начиналось широкое займище с бесчисленными подсыхающими озерками, извилистыми ериками и болотцами. В эти места мы с отцом отправились на охоту.
Сколько здесь водилось бекасов! С характерным криком они поодиночке взлетали из-под самой морды нашей собаки Маркиза и, часто взмахивая длинными и острыми крыльями, неслись над болотом. Выстрелы отца встревожили болотных птиц. В воздух поднялись утки и стаи крупных куликов-веретенников. Некоторое время они беспокойно носились над лугом в разных направлениях, а затем постепенно рассаживались на болоте.
Первый день, проведенный с отцом на охоте, я всегда буду вспоминать с большим удовольствием. Без ружья, в тяжелых сапогах, стараясь не отставать от отца и Маркизки, бродил я за ними много часов подряд. Под ногами хлюпала болотная почва, иногда хрустели высохшие раковины прудовиков, вымокшая рубашка прилипала к телу, солнце обжигало вспотевшее лицо. Да… тяжело ходить по болоту, трудно с непривычки попасть на лету в быстрокрылую птицу — бекаса, но, сколько во всем этом жизни, нервного напряжения, своеобразной прелести! А сколько неожиданностей! Никогда не забуду, как в тот день меня испугала стая птиц, вырвавшихся из кустарника так близко и с таким страшным шумом, что у меня буквально захватило дыхание. Птицы оказались обычными серыми куропатками. Эти переживания, конечно, хорошо знакомы охотнику.
Незаметно солнце склоняется к западу и блестит в неподвижной воде. Пора домой. Мы с отцом направляемся в обратный путь. Вот Ахтуба, вот и железнодорожный мост. Над тихой рекой сгущаются сумерки.
— Меньше версты остается,- говорит мне отец. По интонации его голоса, по выражению лица я понимаю, что он хочет меня подбодрить. «Давай, мол, шагу прибавим — дом ведь совсем недалеко». Но ему жалко меня, и вместо этого он задает мне вопрос:
— Ну, что ж делать будем — домой или отдохнем?
— Посидим немного,- прошу я. Мы усаживаемся на берегу Реки и сидим долго-долго. Как приятно отдохнуть после целого Дня ходьбы по болоту. А как хорошо кругом!
«Чух-чух-Чух-чух»,- монотонно, без конца позади нас работает водокачка, да над сонной потемневшей водой, перелетая с места на место, свистят кулички-перевозчики.
А знаешь,- говорит мне с улыбкой отец,- ты сегодня, когда придешь домой, обязательно будешь капризничать. «Почему ты так думаешь?» — хочется мне возразить отцу, но это так трудно, язык не желает подчиняться.
— Ну что ж, пошли,- говорит отец. Как ни странно, но после отдыха мне не легче. Я с большим трудом поднимаюсь с места и, едва передвигая отяжелевшие ноги, бреду рядом с отцом по знакомой тропинке. Вот, наконец, и наш дом, вот и балкон. Я с трудом поднимаюсь по пологим ступенькам и, переступив порог нашей столовой, вдруг чувствую себя совершенно измученным и разбитым. Невыносимо болят ноги, кружится голова, горит лицо. Мать усаживает меня за стол, уговаривает выпить стакан молока и съесть котлету. Но разве мне сейчас до еды? «Оставьте меня в покое!» «Но как мог заранее знать о моих капризах отец?» — ломаю я голову, поздно проснувшись на другое утро.
Так вспоминается мне «боевое крещение» — первый выход с отцом на охоту. А после этого дня в моей памяти воскресает много дней, целая вереница дней, проведенных в займищах на островах Волги и на топких берегах широких степных лиманов. Без ружья я хожу сзади отца, таскаю добытую дичь, зорко слежу за его стрельбой, за работой старого пса Маркизки. Я уже не случайное здесь лицо, а терпеливый помощник и спутник, разделяющий все трудности и невзгоды жизни охотника. Иной раз собака поймает утенка или принесет отцу легко раненного в крыло кулика, и эта живая добыча поступает в мою полную собственность.
Когда мне исполнилось семь лет, я получил от отца подарок — ружье. Из него можно было стрелять дробью и пулей. Впрочем, откровенно говоря, оно никуда не годилось. И пулей и дробью оно било одинаково плохо. При стрельбе в мишень пули никогда не попадали в ту точку, куда вы целились. Выстрел же дробовым патроном был вообще безнадежен. Дробь неизменно отскакивала от всякого предмета и, насколько я помню, пробивала только бумагу. С этим ружьем я охотился больше двух лет и сделал не менее трех тысяч выстрелов, но, увы, без всякого результата. Из него охота с отцоммне не удалось убить ни одной птицы. «Старая, разбитая кочерга,- говорил про это ружье отец.- Оно, конечно, не годится для настоящей охоты, но для тебя, начинающего охотника, безусловно, будет полезно. Научись обращаться с этим ружьем, и тебе будет легко со всяким оружием». И правда — отец не ошибся. За всю жизнь я не сделал ни одного случайного выстрела. Кроме того, у отца, видимо, был и другой повод подарить мне именно это ружье. В детстве с ним охотился дед, потом начинали охоту отец и мой брат; наконец, пришла и моя очередь.
Получив в подарок плохонькое ружьишко, по словам отца — старую кочергу, я все же был бесконечно доволен. Тот памятный день для меня был праздником. Представьте себе, у меня было собственное ружье! Но неожиданно слова матери омрачили мою радость.
— Неужели и ты будешь охотником? — с каким-то упреком в голосе обратилась она ко мне.- Неужели тебе не жалко будет убивать птиц и зверей — ведь ты их так любишь! Вот ты скоро хочешь выпустить своего зайчонка, а потом встретишь его, и неужели тебе не жалко будет в него выстрелить?
Я держал в руках подаренное ружье, собственное ружье, отказаться от него у меня не хватало сил. Надо убедить мать, что она рассуждает не совсем верно, не так, например, как отец. Разве отца можно назвать злым человеком?. И в то же время он не может жить без охоты.
— Мама, неужели ты думаешь, что я выстрелю в моего зайчика? Я выкрашу ему спину и всегда буду знать, что это мой зайчонок; и почему ты думаешь, что он будет жить там, куда его выпустят? Он, конечно, убежит так далеко, что его никто не найдет.
— Хорошо… предположим, ты прав,- продолжала мать,- но скажи тогда, чем твой зайчонок лучше того бедного зайчонка, который вырос не у тебя в комнате, а на свободе? Ну, скажи, объясни мне, чем он отличается от твоего зайчонка?
Такого вопроса я, конечно, не ожидал, был поставлен в тупик и совсем расстроился.
В тот памятный вечер я долго не мог заснуть. Навязчивые мысли лезли в голову — в них я никак не мог разобраться.
Сколько вокруг меня да и во мне самом странных и непонятных противоречий. Вот сейчас у меня, наконец, есть ружье. Я на седьмом небе. Как мне хочется с ним побродить по знакомым местам, поохотиться — вдруг,- впрочем, почему вдруг,- безусловно, после ряда промахов, мне удастся застрелить красивого дикого селезня. При одной мысли об этом у меня от счастья захватывало дыхание, и почему-то совсем не было жалко птицу. Но разве у меня хватит силы застрелить зайчонка? Никогда. Мама, конечно, ошибается. Мне легче сломать и забросить подаренное ружье, чем решиться на такое дело. Значит, в степи и в лесу выстрелить в живое существо не жалко, а дома… Как все это непонятно, странно. И тем более непонятно, что так, видимо, мыслю не только я, но и другие. Даже старого Маркизку не заставишь задушить моего зайчонка. «Возьми его, Маркизка, возьми его!» — сколько раз приказывал я собаке, заранее зная, что из этого ничего не выйдет. Обычно собака в таких случаях посмотрит на меня своими добрыми, смеющимися глазами и начнет искать блох в мехе у зайчонка. А ведь тот же Маркизка на охоте ведет себя совершенно иначе.
Вот и отец тоже не любит, когда у нас убивают домашнюю птицу. В этом меня вполне убедило недавнее происшествие с домашними селезнями. Здоровенных и жирных двух селезней специально для воскресного обеда наша нянька Васильевна однажды привезла с базара. Но ей не удалось осуществить своих намерений. Оба селезня были похищены мной и братом и спрятаны в надежном месте.
— Да вы совсем с ума посходили? — кричала на нас Васильевна.- Где утки? Чтоб сейчас же были на месте!
Но, не рассчитывая на наше повиновение, с этими словами она бросилась к моей матери. Мы с братом поспешили убраться из дому. «Пускай себе разрядится впустую, а там будь что будет». Обычно в четыре часа дня со службы возвращался отец, и вся семья встречалась в столовой. Этим моментом, конечно, воспользовалась Васильевна. Она хорошо знала, что слово отца для нас, ребят, было всегда законом. Но, к большой нашей радости, на этот раз Васильевна ничего не добилась.
— Конечно, дети не должны вести себя так по отношению, к старому человеку, и тем более по отношению к своей бывшей няне. Куда это годится? Чтоб этого больше никогда не было! — закончил отец, но о спрятанных селезнях ни единого слова. Как это понимать? Так этот вопрос и остался неразрешенным. А несколько дней спустя оба злосчастных селезня уже без риска попасть на обед под незаметным присмотром той же Васильевны расхаживали по двору среди прочей домашней птицы.
В октябре, когда дни становились прохладными, а ночи холодными, время от времени мы предпринимали более далекие выезды на охоту. В таких случаях уже с вечера к крыльцу подкатывала большая телега, доверху наполненная душистым сеном. Ранним утром в ней размещали котелки, сумки, ящики с патронами, ружья и прочую охотничью утварь, и мы дня на два отправлялись то на далекие лиманы, то в волжские займища. Частым спутником отца при таких выездах кроме нас, ребят, подростка-кучера Васи и старого Маркизки был сослуживец отца — Николай Иванович Хованский. Из наших знакомых Николай Иванович мне особенно нравился. Коренастый и широкоплечий, с некрасивым, но замечательно симпатичным и добрым лицом, он как-то сразу располагал к себе. Кроме того, Николай Иванович был превосходным стрелком, настоящим любителем-охотником, и это еще больше возвышало его в моих глазах. В молодости он потерял правый глаз, но не бросил охоты, а стал стрелять с левого плеча, прицеливаясь левым глазом, и постепенно достиг в такой стрельбе настоящего искусства. До страсти увлекаясь охотой, больше всего на свете, как выражался Николай Иванович, он любил «трудную стрельбу» по бекасу.
— Мал золотник, да дорог, промахнуться не стыдно и стрелять не жалко — уж очень шустрый «враг». А уж если не спуделяешь, убьешь — сердце радуется. Вот это настоящая охота.
В то же время он с явным пренебрежением отзывался об охоте на уток. И хотя иногда выезжал на утиную охоту, но делал это без обычного азарта, так сказать, за компанию и потому, что в это время «настоящей» дичи, то есть бекасов, было немного.
— Я уж лучше здесь посижу да обед на славу сварю, — бывало, скажет он, оставаясь в лагере. — Не по сердцу мне эта охота. Утята не все еще на крылья поднялись, дураки еще, а их уже выколачивают беспощадно… Разве это охота? Настоящая бойня, только собак портить,- и он с явной недоброжелательностью прислушивался к частой стрельбе, доносившейся с соседних озер. Интересно, что точно такого же взгляда всегда придерживался мой отец. Это, видимо, имело большое значение в их дружбе и в частых совместных выездах на охоту.
Пасмурное утро. Дорогой, убегающей вдаль до самого мглистого горизонта, мы едем на телеге безотрадной осенней степью. Свистит, порой завывает ветер, под его порывами бьются уцелевшие сухие стебли трав, перегоняя друг друга, катятся и скачут по степи круглые серые перекати-поле. Неуютно, тоскливо кругом. Однако наше настроение совсем не соответствует окружающей картине непогожего осеннего утра. Часа два быстрой езды по укатанной степной дороге, и мы будем у цели — в овражистой местности неподалеку от Волги, где можно пострелять вволю по куропаткам и зайцам. И каждый из нас с нетерпением ждет, когда же кончится долгий, однообразный переезд по унылой степи. От нечего делать смотрю по сторонам, слежу, как позади все дальше уползают и постепенно тонут пирамидальные тополя Ахтубы, как далеко вперед убегает дорога, туда, где открываются все новые и новые горизонты.
— А ну-ка, Вася, останови лошадь, — положив на плечо кучера руку, говорит отец. Телега замедляет ход, сворачивает на целину и останавливается рядом с дорогой. — Не пора ли? — спрашивает меня отец. — Деревень близко нет, и вон там овраг большой начинается, густые заросли.
Мне с полуслова понятно, о чем идет речь. Среди наваленного на телегу сена я нащупываю прикрытую одеялом корзину и извлекаю из нее за уши большого серого зайца. Он дрыгает в воздухе задними ногами, дико смотрят в стороны его глаза. Я опускаю зайца на землю и, слегка придерживая за уши, глажу по спине. Испуганный светом и необычной обстановкой, мой зайчонок — выкормыш, ставший совсем взрослым и здоровенным зайцем, неподвижно лежит среди жесткой полыни; беспокойный ветер раздувает мягкую серую шерсть. Сойдя с телеги, ко мне приближаются и остальные спутники. Только старый Маркизка, приподняв свою большую заспанную голову, продолжает оставаться в телеге.
— Раз… два…- подняв над головой кнут, медленно командует Вася.- Три! — наконец резко выкрикивает он, с силой ударяя кнутом по сухой полыни; от нее взвивается облачко пыли. Одновременно я отпускаю длинные заячьи уши, толкаю его сзади и когда зверь срывается с места, хлопаю что есть силы в ладоши, моему примеру следуют другие. Засунув посиневшие от холода пальцы в рот, резко свистит Вася.
— Держи его, ату, держи! — зычно кричит и хохочет Хованский.
Ничего не понимая спросонок, среди нас мечется, визжит и лает одуревший Маркизка. А перепуганный русак, заложив на спину длинные уши, во всю прыть несется по степи, унося в своем робком заячьем сердце страх и недоверие к человеку.
Вот и выпустили на свободу бывшего моего питомца, напугали его на прощание, чтобы не доверял людям, и, вновь разместившись в телеге, поехали дальше, и куда же? — на охоту за зайцами. Ну, разве не смешно это, не чудаки разве охотники? И я не вольно всматриваюсь в загорелое и обветренное лицо Хованского, любуясь им. Какая-то необыкновенная светлая улыбка озаряет некрасивые черты, делая его таким милым и привлекательным.
«Нет,- невольно думаю я,- и Хованский, и отец, безусловно, добрые, отзывчивые люди. Они всем сердцем любят родную природу, животных, но что тут поделаешь, если оба они охотники?»
Много лет спустя мне стало, наконец, ясно, что охота не пустая забава. Она воспитывает превосходного стрелка, выносливого и сообразительного бойца и наблюдательного натуралиста, умеющего хозяйским глазом смотреть на родную природу. Это не только увлекательный, но и полезный вид спорта.
— Я бываю рад, когда в мою часть попадают охотники, сказал мне однажды знакомый полковник: из них выходят отличные разведчики, их редко настигает вражеская пуля.
В один весенний день в моей жизни одновременно произошли два события. За утренним чаем отец как бы вскользь сообща о своем назначении в Иркутск.
— Итак, поедем на вашу суровую родину,- обратился к нам, ребятам,- увидим прозрачную Ангару, кедры, тайгу, холодный Байкал.
Надо сказать, что из рассказов отца и матери в то время я уже имел представление о суровой красоте сибирской охотаприроды знал, что крупные и яркие цветы Сибири совсем не пахнут, что здесь много всевозможной дичи, что сибирские охотники при стрельбе из пулевого оружия почти не делают промаха, я представлял себе, как веками суровая природа Сибири воспитывала молчаливого, предприимчивого и сильного человека; он перестал бояться ее, проникал все глубже в тайгу, использовал ее богатства. Разве это не интересно, не замечательно? И когда я так думал, меня иной раз начинали тянуть неведомые просторы далекой родины. Я мечтал попасть в Сибирь, познакомиться с ней ближе. Однако сообщение отца во время завтрака поразило меня. Как я расстанусь с нашим садом? Ведь в нем протекла большая часть жизни, к нему я был так привязан. Мечтая увидеть родину, я никогда не думал о том, что переезд в Сибирь надолго, если не навсегда, оторвет меня от южной природы. А сад в это утро был чудный, необыкновенный. Цвела белая акация, наполняя неподвижный воздух пряным запахом, сквозь ветви сирени с балкона виднелось синее небо, пели скворцы, перекликались иволги. Неужели придется навсегда расстаться с этой чарующей красотой юга?
Второе событие по сравнению с решением семьи переехать в Сибирь было ничтожно и все-таки в наших ребячьих глазах казалось большим событием. После долгих ожиданий Николай Иванович Хованский получил, наконец, давно выписанное им ружье. Медленно в то время шли посылки. Это ружье было мелкокалиберной винтовкой бокового огня фирмы «Буфало Лебель». Николай Иванович ждал ружье с таким нетерпением и так часто рассказывал о его преимуществах, сравнивая с прочими моделями, что это нетерпение передалось и нам. Поэтому неудивительно, что в тот памятный день, узнав о полученной посылке, мы с трудом дождались четырех часов, когда Хованский возвращался со службы, и, не теряя ни минуты, отправились посмотреть новинку.
Ружье действительно оказалось замечательным. Длинный легкий ствол винтовки почти на всем протяжении покоился на деревянном ложе, тонкая мушка, способствующая большой точность прицела, была защищена кольцевым предохранителем, механизм скользящего затвора работал безукоризненно. А как оно было прикладисто! Вскинешь его к плечу, и прорезь и мушка сразу встанут на свое место, сольются в одно целое — только остается навести на цель и нажать спусковую гашетку. Одним словом, не ружье, а настоящая драгоценность — мечта охотника.
Вместе с ружьем Хованский получил более десятка коробок с пулями. Одни из них, маленькие остроконечные баскетки, по словам Николая Ивановича, годились для стрельбы в белок и рябчиков. К сожалению, ни белки, ни рябчики не водились в степях под Ахтубой. Вторая, контрбоевая, пуля соответствовала современной пуле малокалиберной винтовки. Она была вполне пригодна Для стрельбы по сидящим уткам, стрепетам и зайцам. Наконец последняя, боевая, пуля предназначалась для стрельбы крупной Дичи — гусей, дроф, лисиц, причем на самое далекое расстояние.
охота«Хоть и мала пулька, а лошадь наповал убьет»,- пояснял Хованский, показывая длинный и тонкий патрончик. Он был смазан густым, издающим особый запах оружейным салом, сквозь его слой тускло блестела медь. Невольно мы рассматривали боевую пулю с большим волнением. Какая невероятная сила таилась в этом ничтожном снаряде! Немудрено, что при осмотре ружья и патронов у нас с братом разгорелись глаза и дрожали руки. За такое ружье, за такие пули не жалко ничего на свете.
Из толстых досок Хованский изготовил большую квадратную мишень и прикрепил ее метрах в шестидесяти от окна своего кабинета на стене несколько выступающего над землей погреба. Усевшись в кресло и облокотившись на подоконник, было чрезвычайно удобно стрелять по мишени. Уже с первых выстрелов стало ясно, что ружье обладает превосходным боем: пули ложились в мишень удивительно точно. Забыв о горестях дня и испытывая громадное удовольствие, мы стреляли из винтовки до наступления сумерек. После появления нового ружья у Хованского мы охотно заглядывали к нему при всяком удобном случае — вдруг удастся разок-другой пальнуть из винтовочки. Сам Николай Иванович стрелял регулярно после обеда, и если нам удавалось попасть своевременно, то он никогда нам не отказывал.
— Научиться хорошо стрелять из винтовки — не простое дело. Надо стрелять каждый день, практика нужна, и тогда будешь стрелять как следует,- говорил он.
С этими словами Николай Иванович доставал винтовку, коробку с пулями и, удобно усевшись в кресло, делал несколько выстрелов. Мы же с братом должны были бегать к мишени и смотреть, куда попадали пули. После этого он передавал нам винтовку и, усевшись рядом, следил за стрельбой. — Сибиряки хорошо стреляют только потому, что у них белок много. Чтобы не испортить шкурку, они бьют белку в глаз и при этом, конечно, приучаются стрелять без промаха, — вставлял он фразы.
Прошло около месяца. Но вот однажды, посетив Николая Ивановича, мы застали его в каком-то странном состоянии.
— Тихо,- поднося палец к губам, предупредил он, когда мы несколько громко с ним поздоровались.
Затем он осторожно открыл шкаф, достал оттуда винтовку в чехле и передал ее брату.
— Пока она цела, бери ее себе и беги домой.- Ничего не понимая, мы продолжали стоять на месте. — А пули я потом сам принесу,- продолжал Николай Иванович, выталкивая нас за дверь.
Причину случившегося мы уяснили позднее. За день до нашего последнего посещения возвратилась домой жена жена охотникаХованского. Она гостила где-то на Волге у своих родственников. Это была уже пожилая, тихая и необыкновенно добрая женщина. Приезд заботливой хозяйки был для Николая Ивановича настоящим праздником. Видимо, ему достаточно надоели все хозяйственные заботы, которые легли на него с отъездом жены. Но, к сожалению, благодушное настроение Николая Ивановича продолжалось недолго. Как и всякая хлопотливая женщина, жена Хованского на другой же день заглянула в свою кладовку. И — о ужас! — на мгновение она остолбенела: банки с вареньем, маринадами, четвертные бутыли с наливками и томатом — гордость хозяйки — все это было вдребезги разбито, уничтожено сильными боевыми пулями.
— Ну, кто мог подумать, что такой маленький кусочек свинца пробьет толстую стену погреба и наделает столько неприятностей!..- неделю спустя, добродушно улыбаясь, оправдывался Николай Иванович.- А все-таки какой бой, какая невероятная силища! Только здесь ни к чему такая винтовка — стрелять некого, разве сусликов. А вот в Сибири она действительно вам пригодится.
Осенью мы уезжали в Сибирь. Как сейчас помню мрачный ноябрьский день. Мокрые желтые листья покрывали дорожки сада, в кустах бузины, предсказывая затяжное ненастье, как оголтелые, трещали воробьи. Порой налетал ветер, и под его порывами качались и глухо скрипели голые ветви акаций. Я прощался с родными местами, с Хованским, с Маркизкой. Отец не решился везти старую собаку в далекую Сибирь и подарил ее Николаю Ивановичу. Верный пес оставался в надежных, хороших руках, но от этого мне было не легче. Старый Маркизка и одноглазый охотник с того дня навсегда ушли из моей жизни.
НЕУДАЧНЫЙ ДЕНЬ
Вот и Сибирь — моя далекая суровая родина. Вот и Иркутск, и неприветливая быстрая Ангара. А за ней сначала Кайская, потом Синюшкина гора, поросшие редким смешанным мелколесьем да багульником. Где же сибирская глушь — тайга, темные кедры, о которых я так много слышал, живя на юге?
тайгаШироко раскинулась мрачная хвойная тайга в глубине страны, там, где в то время не было ни торных дорог, ни жилья человека. Далекой, недоступной казалась она мне в первое время. Не один Десяток километров трудного пути отделяли меня, жителя большого города, от настоящей природы. А неведомые лесные просторы с каждым днем все сильнее манили меня к себе, я мечтал о них. Но вот прошла долгая зима, и мои мечты, наконец, превратились в действительность. С наступлением летних каникул наша семья переехала в деревеньку Смоленщину, и оттуда уже я на легкой лодчонке по извилистой речке Ольхе не один раз пробирался в тайгу. Моим постоянным спутником была наша новая охотничья собака, ирландский сеттер; звали его Барька.
Летние экскурсии вдали от Иркутска и частые выезды на охоту весной и осенью несколько примиряли меня с непривычной жизнью в большом городе. Зимой я учился и мечтал о лете, летом в полной мере осуществлял свои замыслы. Когда мне исполнилось четырнадцать лет, моя бабушка подарила мне настоящее двуствольное ружье, и я с особенным нетерпением ждал весны, чтобы вырваться за город и по-настоящему испытать свои силы в стрельбе — поохотиться.
В начале мая представился удобный случай. К нам забежал приятель моего брата и сообщил, что завтра утром мы сможем поехать на винокуренный завод, расположенный в пятидесяти восьми километрах от Иркутска, по Верхоленскому тракту. Управляющий заводом звал нас в гости, писал, что в эту весну налетело особенно много уток и гусей, и советовал не терять времени. Мы тут же решили воспользоваться приглашением и прожить в этом интересном, глухом уголке до конца весенней охоты.
Ранним утром на другой день в нашем дворе уже стояла запряженная в телегу лошадка. Хозяин называл ее рысаком. Он торопил нас с отъездом. Но вот все готово, пожитки уложены, мы размещаемся в телеге. Минуем тряскую мостовую города, а затем выезжаем на Верхоленский тракт.
Сразу за Иркутском начинаются горы. Верхоленский. тракт, извиваясь змеей, то взбегает на перевалы, то спускается в глубокие лощины. Чуть зеленеет травка, покрываются молодой зеленью березки, на склонах холмов алеют цветы багульника.
Мы мысленно стремимся вперед, но наш пресловутый рысак, называемый так лишь за то, что он под гору бежит рысью, едва передвигает ноги, и не потому, что он стар или плохо упитан, а так, по привычке, свойственной выносливой сибирской лошади.
После долгой зимы нам, впервые вырвавшимся из города, даже однообразная дорога и медленное движение кажутся восхитительными. Целый день почти беспрерывной езды, и мы остановились на ночь в маленькой деревушке. Ее бревенчатые избы тянутся вдоль дороги в один ряд. Но как она непривлекательна! Ни одного деревца, ни одного палисадника на всем ее протяжении. Одни потемневшие избы, хозяйственные пристройки, сложенные дрова и ничего больше.
Несмотря на весну и теплые дни, изба, в которой мы остановились, была жарко натоплена. Помимо хозяев ее населяло несметное количество блох, не дававших ни одной минуты покоя. Все наши попытки уснуть не увенчались успехом. Надев валенки и накинув полушубки, мы выбрались на воздух и, пока наши хозяева и возница спали сном праведников, уселись на дровах под открытым небом и ждали рассвета.
Ночь была тихая, звездная, холодная. В темном небе беспрерывно летели птицы; они стремились к северу, наполняя воздух свистом крыльев, гортанными голосами, гоготом, писком. В окрестных озерах бухали ночные цапли-выпи.
Раннее утро. Измученные с непривычки бессонной ночью, мы безучастно смотрели, как наш возница бодро и деловито запрягает лошадь.
Опять езда в течение целого дня. На подъемах мы с трудом передвигали ноги, едва поспевая за телегой, используя спуски, забирались в телегу и, трясясь из стороны в сторону, засыпали на короткое время.
Но все трудности позади, забыта скучная дорога, бессонная ночь. Мы на месте. Завод стоит как бы на острове. Его окружают большие пруды, соединенные журчащими речушками, болота и леса, затопленные полой водой. Вдали на холмах темнеет тайга. Два живых существа — старик-управляющий и его любимец, бесхвостый сеттер Марсик,- были несказанно рады нашему приезду, но кто был рад больше, сказать затрудняюсь.
По старости лет управляющий забросил охоту. Уже два года его двустволка висела на стене без употребления. С этим не в состоянии примириться его четвероногий приятель, и между хозяином и собакой возникают частые недоразумения.
Вот в четверти километра от дома, на противоположной стороне пруда, там, где его берега сплошь заросли лозой, вдруг раздается отчаянный вопль собаки. Старик всполошен. Неужели Марсик попал в капкан, оставленный ребятами от зимнего промысла? Дряхлой походкой он спешит к пруду, садится в лодку и гонит ее к противоположному берегу. Одновременно послан верховой. Он скачет по плотине, огибая пруды. А отчаянный визг все продолжает доноситься. Но тревога напрасна: куцый Марсик просто не может поймать дикого утенка.
Или другой случай.
Сторож завода застрелил утку. Она упала на глубокое место пруда, откуда ее извлек Марсик. Вместо того чтобы отдать птицу владельцу, Марсик выплывает далеко в стороне и, сделав большой полукруг, с уткой в зубах возвращается домой.
С нашим приездом Марсик изменил своему хозяину. В отведенном для нас помещении он проводил дни и ночи. Ведь здесь так приятно пахло ружьями, пороховым нагаром, смазанными жиром охотничьими сапогами. Зайдет, бывало, хозяин, пожурит его за измену, и Марсик, как бы извиняясь за свое поведение, поплетется за ним домой. Но не пройдет и получаса, как он опять; радостный и возбужденный, появится среди нас и своими умными глазами следит за каждым нашим движением — не собираемся ли мы на охоту.
Весенняя охота с подружейной собакой, как известно, запрещена охотничьим законодательством, но в то время мы по молодости лет не придавали этому значения. Ледяная вода крайне затрудняет добычу убитых уток, кроме того, место было глухое, и мы широко пользовались услугами обеих собак — Барьки и Марсика.
Как-то на вечерней заре товарищ брата выстрелил по налетевшей гусиной стае. Одна из птиц, легко раненная в крыло, упала в воду, остальные, издавая тревожное гоготание, взмыли вверх и исчезли в темном небе. Обе наши собаки, не ожидая приказания, кинулись с берега и поплыли к месту, где упал гусь. Им на помощь по воде быстро скользила легкая лодка. Однако гусь как будто сквозь воду провалился. Его не было нигде. Упустить такую добычу, как гусь,- разве это не обидно?
Я не мог успокоиться весь вечер.
— Попробуй найди его теперь,- заявил товарищ брата,- а уж если найдешь, твой будет.
Эти слова меня окончательно раззадорили, и на другое утро еще до рассвета я был на знакомом месте.
Вот на побагровевшем востоке появилось яркое, но холодное солнце. Над водной поверхностью, как дым, заклубился туман, затягивая лес, кустарники противоположного берега. Несмотря на утренний холод, от которого стыли руки, с двумя верными помощниками-собаками я тщательно обследую берег, кусты, островки.
Солнце поднимается все выше, туман рассеивается, берег пруда обыскан во всех направлениях, а вчерашнего гуся нет и следа. Но куда же он мог деться, не ушел ли за ночь в Соседнее лесное озеро?
И вместо того, чтобы бросить напрасные поиски, отдохнуть и вернуться домой к горячему чаю, я волоком тащу лодку сначала лугом, затем сквозь густые кустарники, туда, где среди леса блестит вода, где, спускаясь по косой линии, в воздухе токуют бекасы.
Наконец на месте. Вновь начинаются поиски. Собаки обыскивают берег, а я двигаюсь на лодке по чистой воде у прибрежных зарослей. Сколько труда, упорства, и все ради какого-то гуся. Но это поймут только охотники. И вот, когда озеро почти все осмотрено, когда последняя надежда найти птицу исчезает, в прибрежных зарослях поднимается шум, и на чистой воде, хлопая крыльями, появляется вчерашний злосчастный гусь; следом за ним плывут обе собаки. Раздается мой первый выстрел, за ним следует другой, третий, много, целая канонада выстрелов, но гусь невредим. Он быстро уходит от лодки, а я все стреляю, не учитывая того, что тело птицы не на поверхности, а под слоем воды и дробь идет рикошетом, не причиняя ей вреда. И так до последнего выстрела. Патронташ мой пуст, я откладываю бесполезное ружье в сторону.
Домой я вернулся с пустыми руками. К счастью, я не застаю никого дома: все на охоте, и мне не приходится краснеть за себя, за свою неудачу. Дрожа всем телом, спешно переодеваюсь в сухое белье, в костюм, предназначенный не для охоты, а для того, чтобы при случае быть прилично одетым. Счастье в контрастах, и сейчас, согревшись, я ощущаю это в полной мере.
Но прошел час, другой. Я согрелся, набил патроны. Что же Делать дальше? Одному сидеть дома скучно, книг нет, а на дворе весна. Не пойти ли навстречу приятелям? Ведь уже скоро обед, и они должны возвращаться домой с охоты.
Я собрался выйти на воздух. Но неужели не брать ружья? А вдруг налетят гуси: они то и дело пролетают над заводом. Я перекинул через плечо ружье, сунул в карман несколько патронов и вышел на крылечко. За мной увязались обе собаки.
Солнце светило ярко, под крышами оживленно чирикали воробьи, от пруда доносился гомон водяной птицы. Крякали утки, свистели кулички, иногда над водной гладью пролетала чайка.
Незаметно для себя я вышел на берег, а оттуда — на узкую свеженастланную плотину, отделявшую пруд от затянутого тиной болота. Земля здесь еще не просохла, ноги скользили по узкой тропинке, и, выбрав сухой клочок почвы и удобно усевшись на обломок дерева, я стал смотреть на воду, на синеющий вдали лес, на пролетавших в стороне уток. Обе собаки улеглись позади меня.
Но что это? Далеко на насыпи я заметил какое-то животное. Осторожно приподнялся, сделал несколько шагов вперед и стал всматриваться. Это был заяц. Не подозревая о близости человека, он бежал по насыпи, быстро приближаясь ко мне. Выстрелить весной по зайцу — величайший позор для охотника. Серьезный охотник ради мяса не убьет зайца в весеннее время. Я отлично знал это. Мне просто хотелось понаблюдать за ним и так, ради практики, прицелиться по бегущему зверю — ведь мне придется стрелять зайцев в другое время. Еще несколько секунд, и заяц совсем близко, и хоть я стою во весь рост, но косой не замечает меня. Как мне было стыдно потом за свой поступок! Но в тот момент я не только прицелился, но и выстрелил. К счастью, я промахнулся. Заяц подпрыгнул на месте и полным ходом пустился наутек. Но того, что произошло в следующую секунду, я никак не ожидал.
Заметив зайца, обе собаки рванулись вперед и сбили меня с ног с такой силой, что я не смог удержаться на насыпи. Мое ружье полетело в сторону, а я скатился по крутонаклонной скользкой поверхности прямо в болото, в тину. Опять холодное купание. Я вылез из болота, скользя и падая, забрался по глинистому откосу наверх и задворками, чтобы меня никто не встретил, пробрался домой. Во что превратился мой праздничный костюм! С головы до ног я был покрыт желтой, холодной и липкой грязью.
Так, незаметно для меня самого, несмотря на большую любовь к животным, я пристрастился к охоте. Что поделаешь! Охота стала для меня чем-то совершенно необходимым. И если суровая сибирская зима заставляла меня подолгу оставаться в городе, я начинал тосковать о природе. Скорей бы весна, первые проталины, робкая песенка рано прилетевшей птички.
Прошел год-другой, и я стал бродить с ружьем не только для того, чтобы застрелить ту или другую птицу. Мне просто необходимо было общение с природой. И когда случалось сделать неудачный выстрел, я не особенно сожалел. Охотясь, я сначала бессознательно изучал животных в природе. Отношение к животным отца и его друзей-охотников, которое я видел в детстве, не прошло бесследно — я сам стал бережно относиться к природе.
ЖУРКА
Сейчас мне хочется рассказать о ручном журавле-красавке. Эта замечательная птица прожила у меня 6 лет.
С журавлями я познакомился в раннем детстве. Весной и осенью с характерным курлыканьем они пролетали над станцией Ахтуба. Крупные птицы выстраивались в воздухе большим углом, иногда несколькими углами и, медленно взмахивая широкими крыльями, летели в избранном направлении или начинали кружиться над одним местом.
Щуря глаза от яркого весеннего солнца, а осенью прячась от ветра, я спешил отыскать в небе вереницы крикливых странников и провожал каждую стаю глазами до тех пор, пока она не исчезала из виду. Иной раз с высоты до меня доносились не только трубные крики взрослых птиц, но и тонкий протяжный писк. Это кричали молодые журавлята, впервые следовавшие за стариками к местам зимовок.
Мне хотелось, чтобы среди наших подсадных уток, используемых для охоты, и домашней птицы по двору на длинных ногах расхаживал ручной журавль. О том, что журавлей иногда держат на птичьих дворах, где они не допускают ссор среди домашней птицы, я неоднократно слышал от взрослых. Представьте же себе, какими жадными глазами я провожал журавлиные стаи и особенно те из них, среди которых, судя по писку, летели журавлята.
И вдруг мои мечты разлетелись самым неожиданным образом. К счастью или к несчастью,- судите сами — в руки мне попала книжка, в корне изменившая ход моих мыслей. Я прочел рассказ о жизни журавля в неволе. У этого журавля было поранено крыло, он не мог летать и жил на дворе вместе с домашними птицами. Насколько я помню, рассказ назывался «Журка». Вероятно, рассказ был написан с большим мастерством. Во всяком случае, он произвел на меня, сильного и энергичного мальчишку, потрясающее впечатление и глубоко врезался в память.
Десятки раз я вспоминал журавля-инвалида, представлял себе, как он, не имея возможности подняться в воздух, чтобы присоединиться к вольным собратьям, громкими криками провожал пролетные журавлиные стаи. И когда этот призыв достигал стаи, журавли отвечали дружными криками и, поджидая птицу, описывали в воздухе широкие круги. Но журавль-инвалид не мог взлететь, и стая, все еще призывая собрата, выстраивалась в угол и продолжала свой путь.
Мучительная жалость к птице калеке наполняла мое сердце. Мне казалось, что журавли как-то особенно тяжело переносят потерю свободы, и, не желая быть виновником или даже свидетелем страдания птицы, я решил никогда не заводить журавля, Но я был мальчуганом-подростком, старался казаться грубым, стыдился своего чувства и тщательно скрывал его от близких.
— Хочешь, подарю тебе живого журавленка? — однажды возвратившись домой, спросил меня отец.
— Не хочу,- наотрез отказался я, и этим отказом поставил его в тупик.
— Не хочешь иметь журавленка? Ничего не понимаю,- продолжал он.- Ведь журавлята замечательно привязываются к человеку, как собака. Он будет совсем ручным.
Отец хорошо знал, что всякая живность для меня всегда была самым лучшим, самым дорогим подарком, и вдруг такой нелепый отказ. В чем дело? Моя выходка, как мне казалось, его обидела.
— Значит, журавленка не брать? — на следующее утро вновь спросил отец и, получив отрицательный ответ, больше уже не возвращался к этому вопросу.
Спустя некоторое время я узнал, что пойманный охотником журавленок был куплен нашим знакомым — железнодорожным врачом, помещен в конюшню ив дальнейшем случайно убит лошадью.
Позднее мне представлялись и другие случаи завести эту птицу, но я не хотел изменять своего решения.
Наверное, лет десять прошло с тех пор, как я отказался от журавленка. За это время наша семья переехала сначала в Иркутск, потом на Украину и поселилась в маленьким Городке на берегу Днепра.
В тот период я особенно увлекался охотой и большую часть свободного времени проводил с ружьем то в днепровских плавнях за утками, то в степях за зайцами и куропатками. Быть может, потому, что это давно прошло, или потому, что я был молод, эта пора моей жизни никогда не изгладится из моей памяти — чудное было время. Я люблю природу Украины. Люблю ее деревеньки с утопающими в зелени белыми хатками, необъятную ширь степей, окруженные вербами ставки, где по вечерам, как исступленные, поют соловьи и квакают лягушки. Душистый воздух, яркое солнце, южное, синее небо — все здесь бесконечно мило и дорого моему сердцу.
Как-то в августе я возвращался с охоты степной дорогой. Было уже очень поздно, когда дорога вывела меня к небольшой деревеньке. Мне we хотелось ночью будоражить деревенских собак, и я, свернув с дороги, пошел в обход, целиной. Надо сказать, что в те годы я не жалел своих ног и, предпринимая большие переходы, часто приводил их в плачевное состояние. Стертые ноги не давали мне покоя, и я решил переобуться. Но, покончив с этим, я не пошел дальше, а разлегся на траве, вслушиваясь в доносившиеся звуки. Кругом в пожелтевшей траве сонно трещали сверчки, где-то далеко, вероятно у куреня на бахче, лаяла собака, из деревеньки неслась украинская песня:
Ты не лякайся, що нас кто пидслухает,
Тыхо, ни витру, ни хмар.
Ничинька-матонька сном всих окутала
И не шелохне в гаю,-
негромко пел молодой голос. Эти звуки сливались с шорохами и гомоном бесчисленных ночных насекомых и, казалось, вместе с теплом нагретой за день земли поднимались все выше и выше к звездному небу. И хотя в песне, в трескотне сверчков не было ничего особенного, я никак не мог оторваться от этой своеобразной музыки — лежал и слушал.
Вдруг откуда-то поблизости донесся тихий журавлиный голос. Обычно так переговариваются журавли, ночуя в степи. Я застыл на месте. Несколько секунд спустя, производя крыльями неясный шорох, в двадцати шагах от меня опустилась стая журавлей-красавок. Видимо, возбужденные полетом, птицы сначала негромко «переговаривались» между собой, отряхивали и приводили в порядок оперение, а затем одна за другой укладывали голову на спину и затихали. Только один журавль продолжал бодрствовать и, медленно расхаживая поодаль от спящей стаи, всматривался в окружающую степь.
Стараясь не потревожить птиц, я лежал неподвижно. Но сторожевой журавль случайно несколько приблизился ко мне и вдруг остановился. Видимо, непонятный предмет, лежащий в степи, вызвал его недоверие. Не решаясь двигаться дальше, он, насколько было возможно, вытянул шею и, желая рассмотреть меня, поворачивал голову. Наверное, я все-таки шелохнулся или, быть может, громко вздохнул. Так или иначе, но в следующее мгновение птица поняла, что опасность рядом. Не спуская с меня глаз и потому спотыкаясь о стебли бурьяна, сторожевой журавль как-то боком быстро зашагал в сторону. «Керрии»,- прорезал темноту невыносимо резкий в тишине крик, и по этому сигналу все кочующие птицы взлетели в воздух и, уже громко перекликаясь: «крри-крру-крру-крру», пытались собраться в стаю в ночном небе.
Настала осень. Собираясь участвовать в загоне на лисиц и зайцев, я решил привести в порядок ружье и отправился к оружейному мастеру. Стояло прохладное ноябрьское утро. Покрытое сплошными серыми тучами низко висело небо, на окраине города местами зеленела трава, блестели лужи, к сапогам назойливо липла грязь. После коротких поисков я нашел на воротах нужный номер и постучал в калитку. Долго не открывали. Наконец послышались шаги, оружейный мастер впустил меня во двор и пригласил в комнаты. Однако то, что я увидел, заставило меня задержаться.
Как сейчас помню широкий квадратный двор, какие нередки на Украине. Слева стояли два больших скирда соломы, справа тянулся низкий выбеленный домик с черепичной крышей, а позади помещалась кирпичная конюшня, около нее высоко поднималась куча навоза. Эта куча навоза и привлекла в тот момент мое внимание. На ее вершине, резко выделяясь на темном фоне, на одной ноге стоял журавль-красавка. И, вместо того чтобы пойти к крыльцу, я, увлекая за собой хозяина, направился к конюшне, близ которой стояла птица. Это был великолепный, вполне взрослый журавль. Его чистое светло-серое оперение плотно прилегало к телу, голову украшали белые косички, свисая к тонкой изящной шее, ярко-красные глаза внимательно следили за мной — незнакомым человеком.
— Подранок? — спросил я мастера, указывая на журавля
— Нет, года три тому назад молодым взят.
— Подрезано крыло? — вновь задал я вопрос.
— Да нет, не подрезано, летает,- и, чтобы доказать правоту своих слов, он снял с руки рукавицу, какую иной раз надевают слесари во время работы, и бросил ее под ноги птицы. «Крри»,- кричал журавль и, раскрыв крылья, схватил рукавицу клювом высоко подбросил в воздух. Когда же, падая, рукавица поравнялась с ним, он поймал ее на лету, бросил далеко в сторону и сам залетел. С криком птица сделала большой полукруг над двором, затем опустилась среди группы мокрых после дождя домашних кур.
И не улетает? А когда журавли летят, неужели и на них не обращает внимания? А кормите чем? А где зимой держите? — забыв о цели посещения, забрасывал я мастера вопросами, восхищаясь чудной птицей.
Пять минут спустя я уже знал все подробности. Журавля звали Журкой, он прожил на этом дворе три года, был совершенно ручным. Когда весной и осенью над городом пролетали журавлиные стаи, он громко кричал, поднимался в воздух и, сделав несколько больших кругов, всегда возвращался во двор. Журку очень любят, но никто его не хочет принуждать жить во дворе, и если он улетит, то, значит, на свободе ему будет лучше, жалеть его нечего, тем более что он съедает втрое больше курицы, а толку от него мало — яиц не несет. Я был в восторге.
— Быть может, вы согласитесь продать мне птицу? — обратился я к мастеру.- Я большой любитель всего живого, и вашему Журке будет хорошо житься.
— Ну, уж это вы с хозяйкой решайте,- ответил мастер и повел меня в комнаты.
— Да на что мне ваши гроши! — возразила мне хозяйка.
— Ей деньги не нужны, породистых кур достать хочет,- добавил хозяин.
Но породистых кур взять было неоткуда, и я попробовал предложить жившего у меня самца-павлина или пару цесарок. Пришлось разъяснить, что павлин обладает громадным красивым хвостом, перья которого ежегодно вырастают заново и что цесарки несут много яиц, отличающихся очень крепкой скорлупой.
— Павлин — ничего,- доброжелательно кивнул головой хозяин.
— А те шо, яички крепки несут? — вопросительно добавила хозяйка.
Видя, что журавль почти мой, я решил быть щедрым. Хозяину я отдаю неистощимого носителя ярких перьев, которыми при Желании можно через несколько лет украсить все комнаты, а хозяйке — цесарок, несущих крепкие яйца. К общему удовольствию, обмен состоялся. Но перед тем как рассказать о жизни. У меня приобретенного журавля, несколько слов я скажу о птицах, Послуживших в качестве обменной ценности.
Конечно, каждому из читателей доводилось слышать, как скрипит иногда немазаное колесо. Крутится оно вокруг собственной оси и через определенные промежутки времени цепляется за ось одним и тем же местом, издавая назойливый скрип, вспомнил о немазаном колесе не случайно, а потому, что точно же кричит цесарка. Надоедливая, глупая эта птица. Иной раз попадет она за какой-нибудь низенький заборчик и вместо того, чтобы перелететь через него, начнет бегать вдоль забора, издавая назойливые звуки.
А в это время, соскучившись, вторая цесарка бегает и скрипит по другую сторону забора — «чудный» дуэт получается. Терпишь иногда, терпишь и, наконец, запустишь в цесарку метлой или веником. Как пулемет, затрещит испуганная птица и, легко поднявшись на крылья, перелетит во двор соседа. Пройдет некоторое время, забудется пережитый испуг, и цесарка заскрипит в соседнем дворе и будет кричать до тех пор, пока в нее и там не запустят метлой. Этим я не хочу сказать, что цесарки никуда не годные птицы, но мне они; в то время надоели ужасно, и я был рад от них избавиться.
И если крикливые цесарки вызывали у соседей желание запустить в них первым попавшимся под руку предметом, то вид и крик моего павлина вызывали иное желание. Я бы очень хотел увидеть павлина на его родине — в лесах Индии или Цейлоне, но никому не советую держать эту яркую птицу в городских условиях. «Каяуу»,- на весь квартал не то громко мяукал, не то кричал павлин, взлетев на забор и опуская длинный разукрашенный яркими спинными перьями хвост на улицу. И по этому сигналу не только у ребят, но и у взрослых появлялось неудержимое желание схватить павлина за хвост и выдернуть из него хотя бы пару замечательных перьев. «Ведь привыкли же не рвать цветы с клумбы городского парка»,- раздраженно думал я. Впрочем, спущенный на улицу павлиний хвост — неотразимый соблазн, мимо которого действительно пройти трудно. Так или иначе, павлиний хвост, благодаря своей длине и яркости, бросался всем в глаза и был причиной ссор с ребятами и взрослыми. Меняя павлина, я раз и навсегда избавлялся от неприятной обязанности постоянно следить, чтобы случайный прохожий не вырвал пера из хвоста птицы.
— Какое значение может иметь одно вырванное перо? — говорили мне. Безусловно, никакого — ведь хвост моего павлина все равно никогда не успевал отрасти полностью. Но несчастью, у меня не было сил подчиняться холодной логике и оставаться спокойным.
Я глубоко убежден, что и вы, читатели, поступали бы так в моем положении. Представьте, например, такой случай. Однаж
ды порывистый взлет павлина с забора привлек мое внимание. Несомненно, кто-то пытался схватить его с улицы. «Опять ребята»,- мелькнуло у меня в голове. Не теряя ни секунды, я перемахнул через забор и нос к носу столкнулся со «злодеем». Вы, конечно, убеждены, что злодеем оказался соседний мальчишка. Ничего подобного. На тротуаре стоял прекрасно одетый пожилой человек с весьма внушительной внешностью. Мое неожиданное появление привело его в сильное замешательство. Ведь он не успел скрыть следы «преступления». Улика была налицо — в левой руке он держал большое красивое перо павлина.
— Догадываюсь, молодой человек, что это ваш павлин,- любезно заговорил он, не дожидаясь вопросов.- Одно можно сказать — замечательная, красивая птица.
— Да, павлин мой,- бледнея от негодования, процедил я сквозь зубы,- но скажите, пожалуйста, на каком основании вы вырвали это перо? Давайте-ка его сюда.
— Простите, пожалуйста, но ведь я только одно перо, одно перышко. Какое это может иметь значение? Ведь у Вашего павлина множество таких перьев. Право же, молодой человек, нельзя горячиться из-за пустяков. Уверяю вас, что я не мог предполагать, что причиню вам неприятность. Конечно, красивое перышко, но, в сущности, оно мне и не нужно.
— Да не один вы перья из павлина щиплите, все соседние мальчишки занимаются этим, но им, десятилетним, простительно, а вот вам, дожившему до седин человеку, стыдно такими вещами заниматься.
Высказав протест в такой форме, мне следовало взять перо и гордо удалиться. Этим я поставил бы противника в незавидное положение. Но, увы, у меня не было дипломатических способностей. Допущенная мной резкость позволила незнакомцу с честью выйти из глупого положения.
— Щипать несчастную птицу не жалко, это пустяки по-вашему,- сказал я,- а вот если у вас прохожие начнут по волоску выдергивать? Как вам это понравится?
Мгновенно лицо незнакомца стало страшным, тяжелая трость застучала о тротуар.
— Вы забываетесь, невоспитанный молодой человек, мои внуки никогда не позволят себе такой дерзости! — кричал он, содрогаясь всем телом.- Вы просто грубиян.
С этими словами незнакомец повернулся ко мне спиной и пошел прочь. Вся его фигура выражала оскорбленное достоинство. Вероятно, случайно, в волнении, он забыл в руке прекрасное павлинье перо и теперь небрежно размахивал им из стороны в сторону. Впрочем, мне показалось, что он боялся зацепить им за торчащие из соседнего палисадника ветви сирени.
«Мало того, что перо вырвал и утащил, он к тому же и меня изругал»,- уныло думал я, идя к калитке. После этого случая самое лучшее — как можно скорее расстаться с павлином.
«Как хорошо,- думал я,- что вкусы людей столь различны. Иначе этот обмен не мог бы состояться».
А сейчас мастер был в восторге от павлина, его жене нравились цесарки. Я же был бесконечно рад, что приобретенный журавль не походил ни на цесарок, ни на павлина.
Выпустить хорошо летающего журавля на двор я боялся. Улетит, чего доброго. На первое время я поместил его в просторный сарай, широко открыв дверь и затянув ее сеткой. Пусть привыкает к новой обстановке и сдружится с домашними птицами. В то время у меня жили две самки и один селезень и семья серых куропаток под руководством крошечной курочки-бентамки. Трех таких курочек и одного петушка я специально держал для подкладки под них яиц диких птиц. В ту весну я нашел гнездо серой куропатки и, взяв из него восемь яиц, подложил под курочку. Маленькая квочка прекрасно высидела куропаток, и сейчас уже совсем большие птицы послушно следовали за приемной матерью.
Журка быстро свыкся с этой компанией, и уже одно его присутствие в дальнейшем могло оказаться полезным. Дело в том, что куропаточки привлекали внимание ворон и кошек, но присутствие крупной птицы, конечно, будет сдерживать их хищнические наклонности. Понятно, что я с нетерпением ждал, когда смогу выпустить Журку из сарая на волю.
— Пора! — спустя неделю решил я и, отодвинув сетку, осторожно выгнал всех птиц из сарая на широкий двор.
«Крри»,- громко закричал журавль и, совершив короткий пробег, взлетел. Перепуганные куропатки, как горох, рассыпались в разные стороны и неподвижно залегли, где попало. Журка же, взмахивая широкими крыльями и крича, удалялся в противоположную от своего прежнего дома сторону и, наконец, исчез за высокими зданиями.
Остаток дня в высоких охотничьих сапогах пробродил я по улицам окраины, заглядывая в каждый двор и все надеясь найти улетевшего журавля.
— Не опустилась ли здесь большая птица, «як черногуз» (как аист)? — расспрашивал я встречных ребят и взрослых.
Но птицы никто не видел. Вероятно, я тщательно исследовал эту часть города. Во всяком случае, когда вечером печальный и усталый я возвращался домой, ребята издали узнавали меня.
— Опять дядька «як черногуз» идет,- говорили они друг другу.
Безрезультатные поиски продолжались и на следующий день. Только к вечеру, потеряв надежду найти улетевшую птицу, я на всякий случай отправился к ее бывшему владельцу. Первого, кого я увидел, войдя в калитку, это Журку. Спрятав голову под крыло, он стоял на одной ноге на вершине выброшенного из конюшни навоза.
— А мы ему второй день ничего есть не даем — все вас поджидаем,- встретил меня хозяин.- Накормишь, так он, пожалуй, сюда летать повадится.
Но мне было не до разговоров. Я спешил перенести Журку и, возвратившись домой, на этот раз без всякой опаски выпустил его во двор у сарая. Пока птица утоляла голод, сильно стемнело, и Журка вынужден был вместе с другими моими питомцами зайти в сарай, где и провел ночь. С этого дня птица уже не пыталась улететь к прежнему владельцу. Вскоре она привязалась ко мне и сдружилась с окружающим ее пернатым населением.
Однажды громкий крик журавля привлек мое внимание. «Что там случилось?» — подумал я и поспешил в конец двора, откуда доносились настойчивые крики птицы.
Здесь несколько грядок маленького огорода, заросшего пожелтевшей растительностью, были обнесены старой рыболовной сетью. В ней, запутавшись в ячейках, беспомощно висела одна моя куропатка, около нее суетился маленький петушок, и, с опаской дергая клювом сетку, кричал журавль. Я поспешил взять бьющуюся куропатку в руки. Журка перестал кричать, но вполне успокоился только после того, как я освободил злосчастную птицу из сетки и выпустил ее во двор.
Журка, видимо, хорошо знал хищных птиц. Пролетавший низко над двором ястреб-перепелятник или парящий в небе орел всегда привлекали его внимание. Повернув голову набок и зорко всматриваясь в летящую птицу своим красным глазом, журавль громким криком оповещал все живое об опасности. Но и сам он, видимо, боялся этих страшных пернатых и спешил укрыться под группой росших во дворе акаций.
И если о настоящих хищниках журавль только предупреждал криком, то в отношении серых ворон он прибегал к более активным действиям. «Крри»,- издавал он короткий резкий крик и стремительно налетал на опустившуюся во дворе ворону, заставляя ее переместиться на другое место. «Крри»,- продолжал он гонять ворону, пока та, наконец, теряла надежду завладеть чем-нибудь съедобным и убиралась подальше от голосистой, настойчивой птицы. Появление во дворе всех четвероногих — от собаки до мышонка — вызывало в журавле протест.
Я расскажу только о двух небольших происшествиях. Одно из них связано с кошкой, другое — с крошечным мышонком.
Однажды в холодный декабрьский день я выпустил из сарая во .двор всю живность. Ночью выпал снег и сейчас слабо таял под холодными косыми лучами солнца. Вероятно, снег и холодный ветер вскоре побудили моих питомцев забраться в сарай и рассесться там на толстом слое сена. В это время на росших во дворе акациях копошилась большая синица. Неподалеку от жилых построек она разыскала часть шапки подсолнуха, наполненного семенами. С трудом справляясь с порывами ветра, она перетаскивала семечко на акацию, вскрывала и съедала его и опять летела за новой добычей.
Частые перелеты птички над самой землей вскоре заметила кошка. Однако хитрый хищник не пытался поймать синицу близ построек, где негде было укрыться. Кошка залегла на пути пере лета синицы, спрятавшись за лежащим поленом, и внимательно следила за движением птицы. Чем ближе пролетала синица, тем напряженнее прижималась к земле кошка — вот-вот прыгнет. Эту сцену я наблюдал через окно комнаты и только хотел выйти наружу, чтобы выгнать кошку из ее засады и прекратить опасную игру, как увидел Журку. Он быстрыми, но осторожными шагами незаметно подошел сзади к кошке, сильно ударил ее клювом в спину и, резко крикнув, подскочил вверх. Как будто подброшенная электрическим током, кошка также подлетела на метр в воздух и затем кинулась через весь двор к строениям. Летя над самой землей, Журка с громким криком наносил ей удар за ударом, дергал за хвост и прекратил преследование только после того, как кошка скрылась в отдушине подполья. После этого случая кошка считала наш двор далеко не безопасным местом и не пыталась здесь охотиться за птицами.
В одно прекрасное утро, кормя птиц во дворе, я обнаружил, что у меня совсем мало осталось корма. Чтобы освободить мешок, я вытряс все остатки среди кормившихся птиц. Вдруг журавль взлетел в воздух и издал такой резкий крик, что я вздрогнул от неожиданности. Все остальные птицы, привыкшие считать крик журавля сигналом тревоги, рассыпались в разные стороны. Недоумевая, я замер на месте и ждал, когда пыль от мешка осядет на землю и позволит выяснить, что случилось. Виновником тревоги оказался маленький мышонок. Я вытряс его на землю вместе с зерном из мешка и этим вызвал переполох среди моего птичьего населения. Преследуемый журавлем мышонок каким-то чудом избежал гибели и скрылся в норке под стенкой сарая. В течение нескольких последующих дней осторожная птица зорко следила за темным отверстием норки. Вероятно, журавль был уверен, что скрывшийся мышонок вновь появится наружу.
Рано наступает на юге весна. В самом начале марта прилетели скворцы. Почти одновременно с ними в степях появились большие табуны дроф, а спустя неделю я уже видел над городом крикливую стаю гусей. «Когда же полетят журавли? — с некоторой тревогой думал я.- Ведь их появление так или иначе должно отразиться на Журке».
И вот однажды в яркий солнечный день до моего слуха долетели давно знакомые, своеобразные трубные голоса журавлиной стаи. Заслышав вольных собратий значительно ранее меня, Журка взбежал на высокий погреб и, следя отсюда за летящими птицами, наполнил воздух какими-то особыми призывными криками. Но птицы летели очень высоко. Образовав в голубом небе широкий угол, они, как казалось снизу, едва двигались к северу и, вероятно, не слышали крика Журки. Но с этого дня Журку как подменили. Он не находил себе места, мало интересовался окружающей его жизнью и то и дело поглядывал в голубую даль. Его беспокойство с каждым днем возрастало. Как-то громкий крик журавля разбудил меня ночью. Я оделся и вышел на воздух.
Стояла довольно прохладная весенняя ночь. В закрытом сарае громко и настойчиво кричал мой журавль. В разных направлениях ему откликались журавли-красавки. Видимо, пролетная стая, сбитая с толку криком ручной птицы, разбилась на маленькие группы и теперь, потеряв ориентировку, носилась в воздухе. Порой журавли опускались так низко, что были слышны взмахи их крыльев, и казалось, что весь двор наполнялся их громкими, резкими криками. Десятки вольных птиц как будто настойчиво требовали освобождения пленного собрата.
— Ручаюсь, улетит, если вы выпустите журавля из сарая, — услышал я рядом знакомый голос.
Разбуженный крикливыми птицами, в валенках и полушубке стоял на крыльце мой сосед.
— Ну и пусть улетает, — раздраженно ответил я и, пройдя двор, настежь открыл дверь птичника.
На темном фоне земли тотчас появился светлый силуэт Журки. Несколько секунд он топтался на месте, затем с криком разбежался по двору и поднялся в воздух. Еще некоторое время крики журавлей раздавались поблизости, затем стали удаляться и, наконец, смолкли. А я еще долго оставался в конце двора. Мне не хотелось сейчас встречаться и говорить с соседом — ведь я прощался с Журкой, к которому успел привязаться за зиму.
«В такую ночь невозможно не улететь», — думал я, вслушиваясь в ночные звуки.
Казалось, все огромное темное небо насыщено свистом крыльев и криком. Масса разнообразных птиц избрала эту ночь для перелета к северу. Вот четко выделяются чудные, протяжные голоса уток-свиязей, захлебываясь, свистит кулик-черныш, цыркает маленькая птичка — лесной конек. Все движется, все спешит в темноте ночи на север, на свою далекую родину.
Осторожный стук в окно разбудил меня утром.
— Вы уж меня не ругайте, что бужу вас так рано после бессонной ночи, — улыбаясь, говорит сосед. — Вы знаете, Журка-то не улетел, а я был вчера уверен, что больше его никогда не увижу. Вот смотрите туда,- указал он в конец двора, когда я вскочил на ноги и прильнул к стеклу. Там у сарая медленно на своих Длинных ногах расхаживал Журка. Много раз после описанного случая ручной журавль поднимался в воздух и пытался присоединиться к журавлиной стае. Но по непонятным для меня причинам он не улетал, а, проводив стаю, возвращался обратно. Я уверен, что не только большая привязанность, на которую способна эта птица, удерживала его около человека. У журавля оказался небольшой физический недостаток. Когда Журка поднимался в воздух, он несколько вбок отгибал вытянутую назад правую ногу. При длительном полете она могла мешать прямому движению. Быть может, этот маленький недостаток не позволял ему присоединиться к диким собратьям.
Уезжая с Украины, я не смог расстаться с Журкой и привез его в Москву. Сначала он жил в московской квартире, потом на даче. Позднее я передал его зоопарку, где Журка жил в загоне с другими журавлями. При моем посещении он всегда узнавал меня и, когда я удалялся от загона, поспешно шел вдоль изгороди, а затем кричал, пока я не исчезал из виду.
ВЫБОР ПРОФЕССИИ
— Не будешь же ты только охотником, — сказал мне однажды приятель.
Мы сидели с ним у костра, на гриве среди торфяного болота. Солнце успело высоко подняться над горизонтом, заливая веселыми лучами желтую прошлогоднюю траву, темные пни, молодые сосенки. Прохладное весеннее утро сменялось теплым безветренным днем. Вдали за обнаженным, прозрачным березняком ворковал тетерев, да в голубом воздухе свистел кроншнеп.
— Что и говорить — замечательная вещь охота, — продолжал приятель, снимая с костра котелок. — Но охота охотой, однако пора подумать и об учебе.
За последнее время разговор о поступлении в высшее учебное заведение особенно часто возникал между нами, но, к сожалению, каждый раз кончался разногласием, почти ссорой. Вот и в это чудное утро, на охоте, когда хотелось отдохнуть от всего, подышать воздухом, он с первых же слов приобрел неприятный характер.
— Не делай глупостей, — продолжал приятель. — Говорю тебе, поступай в технический вуз. Пойми, наконец, что пять лет учебы, и ты инженер — вполне обеспеченный человек, и тогда занимайся птицами, охоться сколько тебе угодно. Ведь за то, что ты будешь знать, как живут звери и птицы, тебе денег платить не будут.
— Не будем говорить об этом, — перебил я собеседника. — Пойду туда, куда меня тянет — не хочу себя ломать только ради какого-то материального благополучия. Лучше скромно жить, но заниматься любимым делом.
— Ну и возись со всякой дрянью — с мышами и лягушками, — увидишь, что из этого выйдет. Вспомнишь мои слова — пожалеешь, да поздно будет, — махнул он рукой, показывая этим, что разговор между нами исчерпан.
Много воды утекло с того времени, но и сейчас я частенько вспоминаю этот разговор на охоте. И вспоминаю его с улыбкой, так как свое дело, свою профессию и сейчас не променяю ни на какие блага в мире.
После тишины лесов и полей, где бойкий крик пестрого дятла или пение жаворонка не мешает нам улавливать едва слышные звуки и шорохи, невообразимым шумом и суетой встретил меня Московский университет. Все куда-то спешили, на ходу сообщали друг другу какие-то новости, объясняли что-то, смеялись. Вот группа юных студенток-первокурсниц. Человек двадцать их сгруппировалось у какого-то объявления. Все они говорят разом, стараются перекричать друг друга, и никто не слушает, что говорит сосед. Ну что тут можно понять, разве можно в чем-нибудь разобраться? Но, вероятно, это и есть та жизнь, о которой читаешь в книгах, — дружная жизнь шумного коллектива студентов. Надо только суметь примкнуть к нему, и тогда все сразу наладится, пойдет своим чередом. Настойчивый, громкий звонок прерывает мои размышления. Толпа студентов разом отрывается от доски объявлений и, продолжая перекидываться фразами и смеяться, шумно рассаживается в просторной аудитории. Захваченный общим потоком, за ними иду и я. Стихает аудитория, начинается лекция.
Попав в университет, я почувствовал себя совершенно беспомощным. Мне как-то не удавалось достаточно быстро разобраться в массе объявлений, в расписаниях лекций и практических занятий. Я часто по недоразумению посещал лекции, которые меня в сущности мало интересовали, и, напротив, не попадал на те занятия, которые были необходимы. К счастью, это продолжалось недолго. Как и другие новички, я вскоре перезнакомился со студентами-первокурсниками и завел товарищей.
Со смехом и удовольствием вспоминаю знакомство со своим другом и спутником по экспедиции Сергеем Наумовым. Это случилось в первый месяц моего пребывания в университете. «Не совсем обычный студент, — подумал я, пристально рассматривая вошедшего в аудиторию парня. — И почти наверное, судя по его костюму, — охотник». Это был высокий блондин с длинными, зачесанными назад волосами. Простая защитная косоворотка, здоровенные, с длинными голенищами охотничьи сапоги и какая-то естественная непринужденность заставили меня обратить на него внимание. «Интересно знать, охотник он или, только оригинальничая, носит костюм охотника», — подумал я, проводив его глазами, и уткнулся в свою работу.
Кончилось занятие. Я только вышел на широкий университетский двор, как большими решительными шагами ко мне подошел тот самый студент.
— Я Наумов, — отрекомендовался он, протягивая мне здоровенную руку. — Я вашего папашу знаю и вашу собаку сеттера знаю, — на выставке встретились. Давайте познакомимся.
Мое предположение оправдалось: Наумов действительно оказался большим любителем-охотником, и это способствовало нашей дружбе.
Не успело закончиться первое полугодие, как мы с Сергеем были посвящены во все особенности университетской жизни. Выяснили, что ряд студентов-старшекурсников уже ведут настоящую научную работу и ежегодно, то самостоятельно, то под руководством одного из профессоров кафедры, выезжают в далекие научные экспедиции. В то время особенно интересовала московских зоологов Средняя Азия. Из поездок участники экспедиций привозили большие и ценнейшие коллекции. Как это интересно! Исследования в природе и собирание недостаточно изученных зверей и птиц — именно то, о чем я мечтал до поступления в университет. «Надо как можно лучше освоить технику снятия шкурок и набивки тушек», — решил я, глядя на разложенные по столам коллекции. Несколько дней спустя я уже получил разрешение практиковаться под руководством опытного препаратора. В то время единственным препаратором при Зоологическом музее университета был старик Цельмин; звали его Август Карлович. Во многих отношениях Август Карлович был замечательным человеком. В молодости, живя в Латвии, он сначала пристрастился к охоте, потом до тонкости изучил дело препаратора. Он переселился в Москву и работал то в одном, то в другом музее, сопровождая в экспедициях наших ученых.
Иной характер носили тогда научные экспедиции. На далекие окраины русской земли проникали только смелые и энергичные люди.
Представьте себе, что вам сейчас захотелось побывать на Крайнем Севере, увидеть океан, тундру, ее обитателей. Ну что же — это не так сложно. Нужно только желание. Вы со всеми удобствами усаживаетесь в глубокое, мягкое кресло, «стальная птица» поднимает вас в воздух и в короткое время переносит на громадное расстояние. Посмотрите в окно. Где-то далеко внизу медленно уползает назад земля, сначала хвойные леса Севера, потом безбрежная тундра. Постепенно самолет спускается ниже и вскоре летит на высоте ста-двухсот метров. Хорошо видны выступающие среди воды кочки, камни, шапки лишайника. Вот стая гусей-гуменников отдыхает на берегу мелководного водоема. Самолет для них не диковина. Они лениво склоняют набок головы, смотрят в прозрачное небо. Какое им дело до пролетающей «стальной птицы»? Но вдруг гуси настораживаются, сбиваются, в тесную группу. Прямо на них, меняя свои очертания, бежит по земле тень самолета. Ближе, ближе… С гоготом поднимаются птицы в воздух и крикливым косяком летят в сторону — туда, где до самого горизонта широко раскинулась то ровная, то холмистая тундра, где во всех направлениях, отражая бледное небо Севера, блестят озера.
Еще несколько летных часов, и вы на месте. Но не среди безлюдных пространств Севера, а на одной из факторий или на маяке, где прилетевших встречают радушные люди, где есть радио, теплое помещение и запасы продуктов. Разве не приятна и не интересна такая экскурсия?
А в то время?..
Загадочен, недоступен кячался Север. Страшен был и далекий путь. Тысячи километров бездорожья отделяли города и селения от берегов Ледовитого океана. Глухая тайга, топкие болота криволесья и необъятная тундра преграждали дорогу и пугали своей беспредельностью даже смелого человека. Но тем интереснее русским ученым казался Север. Жажда знания окраин русской земли манила к себе, заставляя предпринимать долгие, полные лишений и опасностей экспедиции. Одним из таких ученых был замечательный знаток птиц нашей Родины — Сергей Александрович Бутурлин. Он не раз посещал самые отдаленные уголки сибирского Севера, привозя из поездок большие коллекции птиц и новые сведения об их жизни. Частым спутником Сергея Александровича был препаратор Август Карлович. Когда я попал к нему в мастерскую в качестве практиканта, он был уже стариком и любил вспоминать о своем прошлом.
— Семьи не имел, свободным человеком был — почему не поехать даже на год поохотиться в тундре, — начал он однажды, прерывая работу и закуривая. — С Бутурлиным хорошо ездить — спокойно. Заботливый, внимательный человек Сергей Александрович. И добрый. Когда мы вернулись с ним из последней поездки, он мне отличное ружье подарил. Да, в экспедициях лучшего товарища найти трудно. Одно плохо — горяч очень. Как вспылит — прямо беда, себя не помнит.
И вот, чтобы пояснить свои слова, Август Карлович рассказал мне маленький эпизод из своей жизни.
В одно лето Бутурлин и препаратор Цельмин спускались на лодке вниз по многоводной реке Колыме. Течение могучей сибирской реки быстро несло лодку, нагруженную продовольствием, спальными мешками и прочей экспедиционной утварью. По сторонам уплывали назад берега, одна за другой сменялись картины. Сергей Александрович сидел на корме лодки, правил веслом и писал путевой дневник. Препаратор тоже занимался делом: он снимал шкурки с птиц, добытых на последней стоянке. — Смотрите, Август Карлович, прямо на нас впереди летят какие-то птицы, — нарушил молчание Сергей Александрович. — Это гагары — берите скорей ружье!
Препаратор не спеша отложил работу, взял ружье и приготовился к выстрелу. Прямо на лодку невысоко летели две крупные птицы. Они вытянули длинные шеи и часто махали короткими крыльями.
«Tax… тах», — грянули выстрелы, но, увы, без результата. Обе гагары, видимо, не получив даже ранения, продолжали лететь в прежнем направлении. «Смотрите вперед, Август Карлович, еще летят», — предупредил Бутурлин спутника. И действительно, далеко впереди показалась еще пара птиц, за ней небольшая стайка, потом опять пара, а за ними еще и еще. Все гагары летели вверх по течению, придерживаясь средней части реки, по которой плыла лодка. «Tax… тах», — вновь грянул дуплет. «Tax… тах…», «тах… тах…» — с короткими интервалами еще и еще раздавались выстрелы.
Август Карлович, едва успевая перезаряжать двустволку, стрелял и стрелял по близко налетающим птицам. Но что за странность, какая досада! — стрельба не достигала цели. Над рекой стлался пороховой дым, тяжелые войлочные пыжи высоко взлетали в воздух и падали в воду. Иной раз обсыпанные пробью гагары взмывали над лодкой, но уже в следующую секунду вновь выправлялись и спокойно летели дальше.
— Август Карлович, да вы с ума сошли, что ли? — вдруг не своим голосом закричал Бутурлин. — Нельзя же так бессовестно мазать. Расстреляете дробь и порох, где мы их возьмем, чем в устье стрелять будем?
— Я хорошо целюсь, правильно целюсь, Сергей Александрович, но не могу убить этих птиц, — пытался оправдываться препаратор. — Неправда, — вновь закричал Бутурлин. — Вы совсем не целитесь, на таком расстоянии нельзя промахнуться, вы забыли, где мы находимся, вы пуделяете, как мальчишка…
С этими словами Бутурлин выхватил ружье из рук своего спутника и, встав на одно колено, приготовился к выстрелу. Пары и небольшие группы гагар все еще продолжали пролетать над плывущей вниз по течению лодкой.
— Вот смотрите, как надо стрелять! — повернулся на мгновение Бутурлин к смущенному и растерянному Августу Карловичу. — Смотрите, — и он вскинул двустволку.
Будучи превосходным стрелком, Сергей Александрович, конечно, был уверен в своей правоте и спешил доказать это на деле. Но эффект получился обратный. Дуплет и у него не дал никаких результатов. Обе птицы после выстрелов благополучно продолжали путь. Дрожащей рукой Бутурлин вынул пустые патроны, отбросил их в сторону и зарядил новые.
«Tax… тах…» — вновь прокатились выстрелы, но, увы, опять безуспешно. И тогда за ними последовала настоящая канонада. Клубы дыма ползли над водой, над лодкой взмывали в воздух гагары, но, пережив короткий испуг, невредимые продолжали лететь вверх по течению. А на корме, подобрав брошенное весло и выправив лодку, скромно сидел препаратор. Ему не хотелось показывать, что на этот раз он был рад в душе неудаче своего горячего товарища.
— Что же вы сказали Сергею Александровичу, когда он кончил пальбу? — с интересом спросил я рассказчика.
— Что сказал? Ну что я мог сказать? Ничего не сказал, — развел руками Август Карлович.
Для читателей, безусловно, остается загадкой, почему стрелки сделали так много промахов. Не вполне ясно это и для автора книги. И в моей практике были такие случаи, когда хорошо бьющее ружье без видимой причины временно теряло боевые качества. Возможно, это было связано с плохим снаряжением патронов или с изменениями температуры и влажности воздуха, при которых бой ружья иногда резко меняется:
Но перейду к своему основному рассказу. В течение нескольких месяцев, как только у меня выкраивалось свободное время, я шел к препаратору и работал под его руководством. Одновременно я увлекся чтением специальной литературы. Как много я нашел здесь интересного, увлекательного! Описания многолетних путешествий Северцова и Пржевальского особенно нравились мне — от них я не мог оторваться. Их сменили более поздние работы, посвященные изучению степей и пустынь Средней Азии и многих других частей нашей необъятной Родины. Прочитанные книги о путешествиях русских ученых, доклады студентов-старшекурсников о научных поездках и рассказы старика-препаратора не прошли бесследно. Меня неудержимо потянуло в Среднюю Азию. «Хотя бы несколько дней провести в этой стране, повидать природу ее своими глазами, — мечтал я. — Ведь для такой поездки не нужны большие средства, а немного достать, вероятно, сумею».
Прошло месяца два, и мне улыбнулось счастье.
— Хочешь подработать? — остановил меня однажды председатель домоуправления.
— Конечно, хочу, — не задумываясь, ответил я.
— Срочно нужно очистить все наши крыши от снега — хорошо заплачу.
В течение четырех дней я трудился с утра до вечера, а когда наши крыши были очищены, предложил свои услуги соседнему домоуправлению. Собрав небольшую сумму, я и предпринял свою первую поездку в Среднюю Азию.
Не скажу, чтобы поездка была вполне удачна. После утомительного пути я вышел из вагона на маленькой станции между Ташкентом и Самаркандом и поселился на краю станционного поселка в семье «водокачника». Отсюда я лягушкаежедневно ходил в тугайные заросли, где в изобилии водились фазаны, или ездил на охоту на маленькой лодке. Привольно, без всяких забот, но, к сожалению, как-то особенно быстро прошли две недели. Пора было думать о возвращении в Москву.
Много лет прошло с того времени, когда я впервые пристрастился к охоте, взялся за полевую исследовательскую работу, за добывание живых диких животных. Где только я не побывал за этот период жизни!
С рюкзаком и ружьем за плечами я прошел пешком много тысяч километров. И, несмотря на разнообразие природы, с которой сталкивался, живо сохранил в памяти все, что пришлось видеть. Иной раз разверну карту Советского Союза и, не замечая времени, часами брожу по ней глазами.
Вот на реке Урале стоит город Оренбург. Какое великолепие здесь в степях в весеннее время! А там, далеко на юго-востоке, жаркий Ташкент. Велики, безбрежны кажутся степи и пустыни, отделяющие эти два города. Но ведь эти пространства мы с моим другом Сергеем прошли пешком. И в памяти одна за другой воскресают картины прошлого, вспоминаются случаи из экспедиционной жизни. О них, хотя бы частично, я сейчас и расскажу.