Многомудрый Литрекон знает, что готовиться к итоговому сочинению тяжело, ведь впереди маячит финальный босс — ЕГЭ. При таком набитом доверху графике никто не может сосредоточиться на литературе, особенно если этот предмет не входит в список выбранных экзаменов. Поэтому Литрекон рекомендует Вам взять за основу короткие рассказы для итогового сочинения 2020-2021 года. Это прекрасный материал для аргументов. Его можно освоить за считанные дни до ИС. Приятного просвещения!
Содержание:
- 1 «Забвению не подлежит»
- 2 «Разговор с собой»
- 3 «Время перемен»
- 4 «Я и другие»
- 5 «Между прошлым и будущим: портрет моего поколения»
«Забвению не подлежит»
Короткие рассказы о войне для итогового сочинения выручат каждого выпускника, ведь в программе не так много «маленьких» произведений на эту тему.
| Название книги | О чем? |
| «Память», Юрий Яковлев | Девочка рассказывает учительнице о подвиге юной партизанки, и они вместе погружаются в историю. |
| «Девочки с Васильевского острова», Юрий Яковлев | Юная героиня после войны «подружилась» с Таней Савичевой, читая ее дневник о блокаде. Теперь она помогает людям строить памятник. |
| «В старом танке», Владимир Железников | Мужчина и мальчик залезают в танк, ставший памятником в центре города. Герой рассказывает ребенку о своем пропавшем отце и о геройском подвиге неизвестного танкиста. Мальчик хочет разыскать пропавшего без вести отца героя. |
| «Как мы искали партизан», Елена Пономаренко | Дети в оккупации ищут отряд партизан, голодают, но в финале встречают добрую учительницу, и она помогает им найти отряд. |
| «Учитель истории», Юрий Яковлев | Дети до сих помнят историю об учителе, который принял смерть добровольно вместе со своими учениками. Теперь наряду с танкистом и разведчиком в их игре есть учитель истории. |
Но не только война попадается в рамках направления «Забвению не подлежит». Еще более непонятными темами являются вечная актуальность и сохранение памятников искусства. Тут пригодятся не только рассказы, но и поэмы (и даже небольшие повести). Ссылки укажут путь до краткого содержания.
| Название книги | О чем? |
| «Бахчисарайский фонтан», А.С. Пушкин | Автор восславляет фонтан хана и рассказывает историю произведения. Вот так фонтан донес историю любви и ревности до наших дней. |
| «Медный всадник», А.С. Пушкин | Искусство увековечило образ Петра и отразило его характер. Оно до сих пор сохранилось и является одним из главных достоинств культурной столицы. |
| «Пушкину», С.А. Есенин | Автор обращается к памятнику Пушкина на Тверском бульваре. Это произведение вдохновило его на новый виток творчества. |
| «Корзина с еловыми шишками», К.Г. Паустовский | Композитор встретил маленькую девочку и посвятил ей мелодию. Она узнала об этом через много лет, и ее душа наполнилась ликованием и жаждой жизни. |
| «Портрет», Н.В. Гоголь | Настоящее искусство не стареет, потому что всегда производит неизгладимое впечатление на человека, как портрет ростовщика из книги. |
| «Чучело», В.К. Железников | Герой всю жизнь потратил на сбор коллекции картин своего прадеда. Он многим пожертвовал, чтобы собрать полотна. Но в финале он отдал их городу и обогатил его уникальным музеем. |
Вот еще короткие рассказы о том, что не подлежит забвению:
- «Уроки французского», В. Распутин. Автор вспоминает о своей учительнице, которая спасла его от голода в трудные времена. Ее поступок нельзя забыть, ведь героиня совершила нравственный подвиг.
- «Болото», Е. Пономаренко. Маленький мальчик чудом выжил после того, как фашисты убили его семью. Он шел к партизанам через болото. Весь путь он прошел только благодаря тому, что помнил советы деда о том, как пройти через трясину.
- «Моцарт и Сальери», А.С. Пушкин. Несмотря на то, что Сальери убил Моцарта, в памяти людей остался настоящий талант, перед которым меркнет всякое злодейство.
- «Светка», Е. Пономаренко. Героиня вспоминает, как они спаслись от немцев, которые хотели брать у детей кровь для раненых. Ей помогла сбежать подруга, а потом их приютила у себя бабушка Стася. Такое преступление против человечества нельзя забыть.
- «Оккупация», Е. Пономаренко. Предатель из русских стал полицаем и был опаснее для родного села, чем оккупанты. Он хотел отправить детей в Германию на работы, но его и других полицаев остановили партизаны. Преступление предателей нельзя забыть, это вечное бесчестье.
- «Кортик прапорщика», Н. Бадеев. Сын героя передал в музей кортик своего легендарного отца, который не покинул боевой пост, несмотря на опасность для жизни. Он внес огромный вклад в оборону Ленинграда.
- «Корабль из легенды». Рассказ о пушке, которая помогла нашим предкам защитить Родину. Теперь ее место в музее, ведь потомки должны помнить о жертвах, принесенных людьми прошлого ради будущего.
Если этого материала Вам мало, напишите в комментариях, мы добавим необходимое в сжатые сроки.
«Разговор с собой»
В этом году направления итогового сочинения донельзя абстрактны, поэтому для удобства разобьем небольшие рассказы на популярные тематические направления. Ссылки ведут на краткие содержания (для наиболее нетерпеливых читателей).
Вот короткие произведения о призвании и любви к своему делу:
| Название книги | О чем? |
| «В прекрасном и яростном мире», А. Платонов | Главный герой — талантливый машинист. Он настолько погружен в свою сферу деятельности, что запомнил свой маршрут наизусть и воспроизвел его по памяти, когда потерял зрение. |
| «Песчаная учительница», А. Платонов | Главная героиня стала учительницей в занесенном песком селе, но ее наука оказалась никому не нужной, ведь жители прозябали в нищете из-за стихии. Она приручила пески и помогла беднякам бороться с песком. В финале она уезжает в новую деревню с такими же проблемами. |
| «Сигнал», В.М. Гаршин | Два героя спорят о том, как добиться справедливости. Один предпочитает смирение и честный труд, а другой — идеологическую борьбу. В итоге второй отчаивается и ломает рельсы, чтобы поезд сошел, и власти услышали его жалобы. А первый жертвует собой, чтобы спасти состав и выполнить свой долг. |
Вот смысл жизни и его поиски:
- «Дары волхвов», О. Генри. Джим и его супруга покупают друг другу подарки, жертвуя самым дорогим, что у них есть. Герои живут ради любви, и этот выбор дарует им неземное счастье.
- «Душечка», А.П. Чехов. Героиня перенимает взгляды и смысл жизни своего супруга, и так брак за браком. У нее нет ничего своего, поэтому в финале она чувствует себя опустошенной.
- «Дом с мезонином», А.П. Чехов. Художник спорит с гражданской активисткой о смысле бытия. Она выступает за то, что человек должен жить, чтобы приносить обществу конкретную пользу. Он же является индивидуалистом и стремится к красоте и личностному росту.
- «Старик и море», Э. Хемингуэй. Герой борется со стихией и старостью, отправляясь на рискованную рыбалку. Он доказывает, что смысл жизни — в борьбе против обстоятельств и победе над своей слабостью.
- «Царь-рыба», В.П. Астафьев. Герой пытается поймать огромного осетра, но едва не погибает и переосмысливает свою жизнь, приходя к выводу, что нагрешил, и судьба наказывает его. Он понял, что эгоистичное существование ради наживы и потребительское отношение к природе — это очень плохо. Важнее всего человеческие отношения и нравственный выбор.
Вот еще интересные произведения к сокращении, направленные на раскрытие наиболее актуальных тем:
| Название книги | Для каких тем? |
| «Айвенго», Вальтер Скотт | Толерантность
Отношения отца и сына, конфликт разных поколений Перемены в обществе Вред консерватизма Польза традиций и культурных памятников |
| «Робинзон Крузо», Даниэль Дефо | Человек вне общества
Саморазвитие Жизнь с целью Влияние религии и созидания на личность Толерантность |
| «Кукла», Е. Носов | Ценность прошлого
Уроки войны Совесть |
| «Очарованный странник», Н.С. Лесков | Поиск смысла жизни
Самосовершенствование Влияние перемен |
| «Кавказский пленник», Л.Н. Толстой | Что способствует развитию человека?
Влияние прошлого на будущее Отношения в семье Влияние среды на внутренний мир |
Внутренний мир — одна из самых ходовых тем этого года. Короткие рассказы для итогового сочинения могут ее раскрыть, так что ловите список.
| Название | Темы |
| «Дама с собачкой» | Любовь помогает в познании себя
Контраст внутреннего мира и внешнего Трудно быть собой |
| «Хамелеон» | Влияние обстоятельств на сущность человека
Ложь перед самим собой |
| «Человек в футляре» | Замкнутость в себе
Страхи, подавляющие личность Зависимость внутреннего мира от внешнего |
| «Душечка» | Что формирует наш внутренний мир? Влияет ли окружение на наше мировоззрение?Какие чувства влияют на состояние души? |
| «Тоска» | Проблема одиночества
Как пережить горе? Что мешает человеку быть счастливым? |
Если нужно раскрыть еще какие-то важные темы и подобрать для них короткие рассказы для итогового сочинения, пишите в комментариях. Мы оперативно добавим новую информацию!
«Время перемен»
«Маленькие» рассказы для итогового сочинения есть и по направлению «Время перемен». Вот самые короткие и универсальные:
- «Конь с розовой гривой», В. Распутин. Мальчик меняется к лучшему под воздействием жизненного опыта.
- «Холодная осень», И. Бунин. Эпоха перемен слишком быстро меняет условия жизни, и многие люди оказываются за бортом истории.
- «Шинель», Н. Гоголь. Новая верхняя одежда делает героя счастливее и меняет его отношение к себе. Чтобы изменить жизнь, нужно начать с самооценки.
- «Тапер», А. Куприн. Под лежачий камень вода не течет: если бы Юра не работал по ночам на праздниках и не учился мастерству пианиста, он никогда не познакомился бы с нужными людьми и не стал бы знаменитым композитором. Человек может изменить свою судьбу.
- «Беда», М. Зощенко. Что мешает человеку измениться к лучшему? В том числе и вредные привычки.
- «Срезал», В. Шукшин. Люди, которые ничего не хотят менять в своей жизни и сидят на одном месте, всегда будут не удовлетворены своим положением. Пример тому — Глеб, который завидовал всем, кто уехал из деревни в город.
- «Левша», Н. Лесков. Герой обосновал необходимость перемен в армии, но его никто не услышал. В результате Россия получила значительное отставание в сфере вооружения. Увы, один человек не может изменить мир.
- «Дикий помещик», М. Салтыков-Щедрин. Не все изменения идут на пользу людям. Вот барин избавился от крепостных, но в итоге одичал и деградировал, ведь без них не мог даже чулок натянуть.
- «Муму», И. Тургенев. Герой переехал на новое место службы, но изменения принесли ему лишь страдания, и он вернулся обратно в деревню. Не все перемены ведут к положительным результатам.
- «Мцыри», М. Лермонтов. Герой пытался изменить свою судьбу, но тщетно, все предопределено.
О переменах в себе или вокруг себя писали многие авторы, но не так кратко, как хотелось бы. Но хорошо, что есть подробные краткие содержания, которые по размеру не превышают рассказы. Ссылки в таблице. Вот интересные варианты по направлению «Время перемен»:
| Название книги | Темы |
| «Белая гвардия» | Революция
Разочарование в переменах Последствия перемен |
| «Собачье сердце» | Последствия революции
Как трудно даются изменения Как изменить страну? Может ли человек изменить мир? |
| «Ася» | Боязнь перемен
Стоит ли бояться перемен? Зона комфорта |
Как Вы знаете, аргументация для итогового сочинения может быть намного шире, чем мы думаем. Не только книги из школьной программы достойны занять свое место в экзаменационной работе. Можно использовать даже статьи из журналов и блогов, было бы желание и умение применить этот материал. Это не сложнее, чем писать сотой сочинение по «Войне и миру». Здесь Вы найдете подборку статеек о переменах в себе и обществе, а также о других важных проблемах этого года.
| Название | Тема |
| Притчи (они удобны тем, что в конце всегда пишут мораль истории — то, что пригодится Вам для эссе) | о смысле жизни, внутреннем мире и зоне комфорта — найдется своя притча для каждой темы. |
| История блогера о переменах в жизни | Как изменить себя?
Почему не нужно бояться перемен? Перемены к лучшему? |
| Короткие истории людей, которые кардинально изменили себя и свою жизнь | Как изменить себя?
Почему не нужно бояться перемен? Перемены к лучшему? Жизнь с целью и без цели |
| Интервью руководителя проекта «Историческая память городов» | О том, почему важно сохранить памятники, как это сделать и т.д. |
| Статья о том, как представители европейских стран в ООН переписывают историю войны | Полезная статья, которую можно использовать в качестве аргумента: К чему ведет забвение ВОВ? |
«Я и другие»
Почему люди друг друга не понимают и как это исправить? Об этом будут многие сочинения по направлению «Я и другие». А вот и короткие произведения на эту тему. Ссылки указывают на краткие содержания.
| Название книги | О чем? |
| «Маленький принц», Антуан де Сент-Экзюпери | Маленький рассказчик рисовал странные рисунки, и взрослые сказали ему, что у него нет таланта. Он поверил, но зря, ведь оказалось, что он просто имел уникальный внутренний мир художника, недоступный обычным взрослым. А ведь родителям нужно было проявить всего лишь немного креатива, чтобы понять своего сына… |
| «Пересолил», А.П. Чехов | Землемер очень боялся ехать с незнакомым возницей через лес ночью, поэтому он приврал о себе, что он, мол, бандит. Но Клим испугался и убежал в лес, оставив землемера в расстроенных чувствах. Недопонимание было следствием страха и недоверия. |
| «Кошка под дождем», Эрнест Хемингуэй | Он читает газету и не обращает внимания на Нее. Она же вышла на улицу и увидела кошку под дождем. Ее первый порыв — взять животное под уютный кров, но Он остался безразличен и к этому. Их разделяют разные жизненные ценности: ей хочется уюта и семьи, а ему — свободы. |
| «Челкаш», М. Горький | Вор, живущий в городе, и крестьянин из деревни не могут понять друг друга из-за ментальных противоречий и разных жизненных ориентиров. |
| «Попрыгунья», А.П. Чехов | Она — яркая представительница богемы, он — скромный врач. Разумеется, она его недооценивает и всячески принижает, а он ее любит, но не может дать то, что она хочет. Герои не могут найти общего языка, потому что они из разных миров. |
А может ли человек обойтись без общества? Вопрос на века. И он очень часто попадался на пробниках этого года. Так что вот короткие рассказы для подготовки к итоговому сочинению, посвященные роли коллектива в жизни личности:
- «Пари», А.П. Чехов. Человек уходит из общества на 15 лет и утрачивает человеческий облик.
- «Старуха Изергиль», М. Горький. Ларра получает изгнание в наказание и не может вынести этой ноши. В итоге он сам пожелал умереть.
- «Ионыч», А.П. Чехов. Несмотря на свое презрение к обществу, Старцев не может покинуть его и абстрагироваться.
- «Человек в футляре». Пытаясь жить вне общества человек не развивается, а деградирует.
- «Премудрый пискарь», М. Е. Салтыков-Щедрин. Герой всю жизнь держался в стороне от других, потому что боялся, но в итоге попросту растратил все годы на прозябание в темной дыре своего одиночества.
О дружбе, любви, общении нам повествуют вот эти небольшие рассказы для итогового сочинения:
- «О любви», А. П. Чехов.
- «Тихое утро», Ю.П. Казаков.
- «Юшка», А. Платонов.
- «Макар Чудра», М. Горький.
- «Барышня-крестьянка», А. С. Пушкин.
Чего-то не хватает? Литрекон дополнит список коротких рассказов для итогового сочинения, но напишите ему в комментариях, что лучше добавить?
«Между прошлым и будущим: портрет моего поколения»
Это самое непопулярное направление, на котором многие поставили крест из-за того, что для некоторых тем нужно привлекать прямо совсем-совсем новую литературу. А как быть, если даже современные авторы пишут о прошлом? Правильно, выбирать другое направление! Так что здесь ограничимся кратким списком рассказов, которые более или менее современны.
- «Конец блицкрига», С. Алексеев. Современный автор с гордостью пишет о том, как советская армия остановила нацистов. Это говорит о преемственности поколений.
- «Шесть спичек», А. и Б. Стругацкие. Ради прогресса ученый жертвует собой и получает серьезную травму. Авторы говорят о том, что самое ценное в мире — это человек, поэтому им жертвовать нельзя.
- «Спонтанный рефлекс», А. и Б. Стругацкие. Урм — универсальная рабочая машина. Он имеет исключительные интеллектуальные и физические возможности, это первый в мире искусственный интеллект. Но люди не могут предугадать то, что появилось в машине от людей — спонтанный рефлекс. Это говорит о неоднозначности научного прогресса.
- «Улыбка», Рэй Брэдбери. Люди будущего разрушают достижения прошлого, чтобы отомстить предкам за их недальновидность и свои несчастья. Вот так разрушение преемственности поколений ведет к деградации.
- «Замечательный костюм цвета сливочного мороженого», Рэй Брэдбери. Герои купили дорогой костюм и носили его по очереди, чтобы стать более успешными. Но оказалось, что новая одежда не способствует исполнению мечты. Важен не статус, а масштаб личности.
Чтобы привести пример, касающийся именно нашего поколения, используйте короткие статьи из СМИ:
А вот и блок статей про отношения нашего поколения с окружающим миром:
Многомудрый Литрекон желает Вам удачи на экзамене!
Метки: 11 класситоговое сочинениекороткие рассказынебольшие рассказы
Читайте также:
Перейти к контенту
Рассказы о войне
Список сказок и рассказов:
Отзывы: 11
-
максим
09.11.2021 в 20:17
-
Наталья В.
18.02.2022 в 20:37
Рассказы как раз то что надо, всем советую
Ответить
-
Юлия М.
27.02.2022 в 13:49
обалдеть. советую. Много чего узнала. Хочу чтобы этого не повторялось дай бог нашим спасителям здоровья.
Ответить
-
Спасибо очень помогли
Ответить
-
Андрей
18.04.2022 в 17:28
мне понравилось
и спасибо я очень радОтветить
-
Сергей
04.05.2022 в 22:06
Очень хорошие рассказы
Ответить
-
Валерия
10.05.2022 в 15:16
Спасибо, помогли с д.з.
Ответить
-
отлично! всем советую
Ответить
-
? советую очень круто
Ответить
-
Мне не понравилось.
Ненавижу много читатьОтветить
Рассказы о войне: читать онлайн популярные, лучшие народные сказки для детей, мальчиков и девочек, и их родителей о любви и Родине, природе, животных. Если вы не нашли желаемую сказку или тематику, рекомендуем воспользоваться поиском вверху сайта.
Война — это вооруженный конфликт между двумя и более политическими образованиями, который происходит на фоне различных претензий или в целях навязывания своей воли оппоненту. Именно такую сухую формулировку выдает Википедия.

Это разрушенные семьи.
Это умирающие от голода дети.
Это разрушение мира и доброты.
Это страдания и боль.
Это смерть. Много смертей.
Война сметает все общечеловеческие ценности, заставляя людей показать свою равнодушную и жестокую сущность. Когда над головой свистят пули и человека делают мишенью, важно только одно — выжить. И ради этого кто-то предает свою семью, друзей и Родину, а кто-то защищает их до конца, жертвуя собой. Люди, прошедшие через войну, никогда не обретут прежнего Я.
Человек устроен так, что тема войны будет актуальна во все времена. И эта тема очень привлекает писателей и поэтов, которые написали об этом тысячи произведений. Сегодня разберем проблему войны в произведениях нижеперечисленных литераторов и приведем подборку аргументов для сочинения ЕГЭ по русскому языку.
Л.Н. Толстой «Война и мир»
В знаменитой эпопее Льва Николаевича война разбивается на две категории: как фон для повествования и как один из главных персонажей, который раскрывает образы других. Примеры аргументов к сочинению ЕГЭ по роману «Война и мир»
Ложный и истинный патриотизм. Практического каждого персонажа затронул дух патриотизма, однако проявлялось это по-разному. Андрей Болконский, Денис Давыдов, Николай Ростов отчаянно сражались в бою, стремясь разгромить врага и защитить народ. Они были готовы отдать свои жизни, в чем и проявляется истинный патриотизм. Антипод этому — патриотизм ложный, ярко выраженный в образе Анны Павловны Шер и людей в ее окружении. Идет война, а они продолжают вести светскую жизнь. Их противостояние врагу заключалось только в осуждающих разговорах, отказе от французского языка и французских блюд.
- Готовность человека смириться с войной. Как только началась Отечественная война, князь Болконский стремится в зону боевых действий. Он желает совершить подвиг, почувствовать себя причастным к происходящим событиям и обрести славу воина. В противовес этому предстает Пьер Безухов, который не понимает, почему люди начали массово убивать друг друга. Он не участвует в боях, но помогает солдатам в меру своих сил. Суровая действительность до него доходит только после Бородинского боя. Но даже попав в плен, Пьер не смог проникнуться военным духом.
- Роль человека в истории. Наполеон чувствовал упоение и наслаждение от собственной власти. Думал только о своем величии и был равнодушен к солдатам (например, когда погибли бойцы при переправе через Неман). Из-за эгоизма Наполеон был обречен на поражение. Кутузов же был великим полководцем, так как понимал желание народа. Его интересы совпадали с интересами масс – защитить Родину от врага. Именно поэтому он побеждал в боях.
М.А. Шолохов «Тихий Дон»
В романе описываются события Первой мировой (с 1914 по 1917 г.) и Гражданской войн (с 1917 по 1922 г.).Примеры аргументов к сочинению ЕГЭ:
- Око за око. Ярко показано, что насилие может порождать только насилие. Молодой казак Митька Коршунов, которого война сделала жестоким человеком, спокойно убивает семью Кошевых и даже наслаждается этим. Мишка Кошевой, который не смог защитить родных, в ответ лишает жизни деда Гришака.
- Достоинство на войне. Гражданская война славилась беспощадностью: все убивали всех. Григорию Мелехову удалось сохранить человечность. Он не участвовал в грабежах и разбоях побежденных, не насиловал женщин и очень жалел, что взял в руки оружие и убивал людей. Осознав это, он спасает от верной смерти своего врага Степана Астахова, который стрелял ему в спину. Мелехову удалось понять, что война является бессмысленным братоубийством.
М.А. Шолохов «Донские рассказы»
Сборник, куда вошли 8 рассказов, посвященных теме Гражданской войны.Аргументы для сочинения:
Люди меняются, если есть ради кого. Центральным героем в рассказе «Шибалково семя» является Яков Шибалко, человек-боец, который всегда находится в гуще сражения. Он ежедневно наблюдает за убийствами и зверствами солдат и не видит ничего плохого в этом, ведь страна целиком охвачена войной. Убивать противников стало для него делом обыденным. Будучи одиноким человеком, Яков меняется, когда у него рождается сын. Сослуживцы посоветовали ему убить младенца, ударив «головой об колесо», а тот не смог. Неожиданно Шибалко предстает перед читателями в совершенно ином свете – оказывает он еще способен сострадать и чувствовать. Ему не безразлична судьба сына и Яков становится любящим отцом.
- Бессмысленность и жестокость Гражданской войны. По мнению Шолохова, данный вид войны самый опасный из всех, так как против друг другу воюют люди, которые говорят на одном языке. Противостояние красного казачества против белого привело к страшным преступлениям. Только из-за того, что их взгляды отличаются, вырезали целые деревни, брат «шел» против брата, а отцы убивали собственных детей. Люди уподоблялись кровожадным животным, думая, что, убив другого, они становятся ближе к победе. Но в братоубийственной войне проиграли обе стороны. Гражданская война стала трагедией в истории русского народа.
«Сказание о Борисе и Глебе»
Памятник древнерусской литературы, который описывает убийства Глеба и Бориса, сыновей князя Владимира Красно Солнышко. Аргументы:
- Жажда власти. После смерти князя Владимира Святополк, третий по старшинству среди братьев, решает захватить власть. Для этого он подсылает убийц к Борису и Глебу, первым претендентам на престол. Те отказываются развязывать войну против брата, чтобы не ухудшить ситуацию на Руси, и оба погибают.
- Война приводит к бессмысленным жертвам. Против Святополка поднимает войско Ярослав, желая отомстить за убийства братьев. После жестокой битвы Ярославу удалось победить противника, после чего в стране междоусобицы прекратились и снова наступил мир. Власть, которую так отчаянно желал Святополк, ускользнула и все убийства оказались бессмысленными. От Святополка отрекается бог, он умирает в муках, на его могиле стоит смрад. Борис и Глеб, отказавшиеся поднять оружие, были возведены в лик святых. Таким образов автор показывает, что война — это всегда плохо.
Б.Л. Васильев «А зори здесь тихие»
Повесть рассказывает о чувствах и состоянии людей, которые невольно оказались вовлечены в военные действия. Аргументы для сочинения ЕГЭ:
У войны не женское лицо. Пять юных девушек, которые даже не успели познать жизнь, были вынуждены взять в руки оружие. Несмотря на возраст, девушки показали мужество и отвагу, выступая против диверсантов. Произведение показывает противоестественность их смерти. Женька — красивая и смелая девчонка, которой гулять бы и гулять, но она умирает в попытке спасти Риту. Однако Рита получает смертельное ранение в живот и, чтобы не стать обузой, убивает себя. У нее остается сын. Романтичная Галя — сирота, погибает со словом «мама» на устах. Лиза, которая мечтала о любви, утонула в болоте. Соню, образованную и утонченную девушку, убили, когда она вернулась за кисетом старшины.
- А зори здесь тихие… Зори символизирует начало нового дня. У пятерых героинь жизнь тоже только начиналась, однако они принесли себя в жертву. Зори тихие от того, что погибло огромное количество людей, защищая эту тишину ради детей и внуков.
В.П. Катаев «Сын полка»
Повесть рассказывает, как сказывается на детях война. Аргументы ЕГЭ:
- Раннее взросление детей на войне. Мальчик Ваня Солнцев остается без семьи. Одинокого ребенка в лесу находят разведчики и отправляют в детдом. Но он сбегает и приходит обратно в батарею. Ваня мечтает стать полезным человеком и спасти Родину. Он идет в разведку и даже успешно справляется с заданиями, которые ему поручают. Ване пришлось быстро повзрослеть: он рано узнал, что такое смерть и война.
- Защита Родины — общее дело. Валентин Катаев делает упор на то, что в военное время нет разделения на старых и молодых, женщин и мужчин. Важна помощь каждого человека, важно единство народа — только так можно победить врага. Здесь все друг за друга. Ваня Солнцев не думает о загубленном детстве, ему важно спасти страну. Что говорит о его жертвенности. Капитан Енакиев видит это и спасает мальчику жизнь, отправив его перед последним боем в штаб. Мужчина думал над тем, что мальчик имеет право на детство и жизнь.
М.А. Шолохов «Судьба человека»
Рассказ о человеке, которому пришлось пройти не через одну войну. Аргументы к сочинению ЕГЭ:
Проблема семьи. Во время гражданской войны Андрей Соколов теряет мать и сестру. Великая Отечественная унесла жизни его жены, двоих дочерей и сына. Судьба Андрея — это один пример из тысячи подобных, которые свидетельствуют о том, какой разрушительный эффект оказывает война. Соколов сталкивается с сироткой, мальчиком Ванюшей, который растет беспризорником. Он усыновляет его и обретает новый смысл жизни. Рассказ отражает судьбу людей, которым удалось пережить ужасные послевоенные годы и обрести надежду на счастье.
- Достоинство русского солдата. Соколов 2 года провел в плену. Однажды в комендантской ему предложили выпить за победу Германии и фюрера, однако главный герой отказался, несмотря на угрозу смерти. Такой поступок вызвал уважение даже у коменданта, который славился садистским характером. Победила сила человеческого духа и Соколова оставили в живых.
В.В. Быков «Сотников»
Василь Владимирович — белорусский писатель, который прошел через Великую Отечественную войну. Аргументы к сочинению ЕГЭ:
Нравственный выбор. Сотников и Рыбак служат в одном полку. Их посылают в деревню, где они сталкиваются с фашистами. Рыбак не бросает раненого товарища в трудную минуту. Ситуация меняется после ареста. Перед бойцами стал выбор: спасти свои жизни и стать полицаем или же умереть во имя Отчизны.
Сотников понимает, что не сможет предать своих товарищей по оружию и отказывается сотрудничать. Рыбак, который отчаянно хочет жить, решает схитрить. Он планировал вступить в сговор с врагом и при первой же возможности сбежать. Однако он попадает в ловушку, с чего и начинается его нравственное падение. Его заставляют казнить Сотникова. Закидывая петлю на шею друга, Рыбак понимает, что это «одна петля на двоих». Быков показал, что в кризисной ситуации выявляется вся сущность человека. Самое главное — поступать по совести.
А.Т. Твардовский «Василий Теркин»
Поэма о Василии Теркине. Это идеализированный образ человека на войне. Аргументы:
Патриотизм. В образе главного героя Твардовский представил весь русский народ в целом, который смог объединиться и победить врага. Василий идет на фронт не только потому, что это его обязанность, но и осознанное желание. То есть он чувствует искреннее желание помочь Родине и народу. Он должен защитить родные земли от фашистского захватчика, даже если придется пожертвовать собственной жизнью.
- Мужество и героизм. Все намерение защитить Родину Василий подтверждает конкретными действиями. Он бесстрашно взрывает самолет врага и переплывает ледяную реку, чтобы доставить указания на другой берег. В своих поступках никакого подвига и героизма Теркин не видит и думает, что любой бы на его месте поступил так. В поэме не описываются ужасающие картины войны, а передается посыл, как должен поступать человек, чтобы спасти свою страну.
В.Г. Распутин «Живи и помни»
В повести затрагивается проблема дезертирства. Примеры аргументов:
- Предательство. Война поставила Андрея Гуськова перед сложным выбором. Между защитой страны и спасением своей жизни он выбирает второе. Пока в его деревне женщины, старики и дети надрываются на полях, главный герой вынужден ото всех скрываться. Гуськовым движет страх. Он не хочет умирать и думает только о собственном спасении. Во всем герой винит только войну. Распутин откровенно описывает внутренний мир человека, который осознанно пошел на дезертирство.
- Последствия предательства. В преступление Гуськов втягивает свою жену Настену. Ей приходится скрывать от всех, что ее муж вернулся и теперь прячется. Женщина беременна, а вся деревня считает, что она гуляет, пока Андрей воюет. Женщина не выдерживает давления и совершает суицид. Война закончилась, а Гуськов будет жить и помнить о предательстве Родины и о том, что он подтолкнул на страшный шаг своего любимого человека. Это последствия его выбора.
Э.М. Ремарк «Три товарища»
Роман описывает события послевоенного времени, когда люди пытаются оправиться от страшных событий и жить дальше. Аргументы к сочинению ЕГЭ:
Проблема «Потерянного поколения». Наступил долгожданный мир. Три товарища, Готтфрид, Отто и Роберт, смогли выжить и вернуться домой. Однако чувство безысходности и боли, которое появилось с началом войны никуда не делось. Перед глазами все также стояли ужасающие и жестокие события, свидетелями и участниками которых им довелось стать. У них нет настоящего, будущее потеряно, есть только военное прошлое – именно поэтому их окрестили потерянным поколением. Свое спасение три товарища видят в дружбе и выпивке.
- Равнодушие к жизни. Люди привыкли, что на войне их жизни могут в любой момент оборваться. Чтобы с этим справиться, они стали равнодушными ко всему. Равнодушие сохранилось и в мирное время. После увиденного к прежней жизни практически невозможно вернуться. Война глубоко проникает в сознание и меняет мировоззрение. Роберт делает попытку жить — он начинает отношения с Патрицией, но счастье влюбленных длится недолго. Жизнь Патриции уносит туберкулез и в этот момент Роберт чувствует только одно — равнодушие.
М. Зусак «Книжный вор»
Действие разворачивается в нацистской Германии. Примеры аргументов для сочинения ЕГЭ:
- Добро и зло. Гитлер начинает войну в Европе. В немецких городах людей учат доносить друг на друга. Все евреи, инакомыслящие и люди, отказавшиеся вступать в партию, подвергались гонениям. Их отправляли в концлагеря или расстреливали. Царствует нацизм – настоящее воплощение зла. В противовес ему поставляется семья Хуберман, где воспитывается маленькая Лизель. Ее отец отказался быть партийным и тайком помогает евреям. Опасность для семейства стала еще более выраженной, когда они согласились помочь еврею Максу и спрятали его у себя в подвале.
- Смерть. Повествование ведется от лица Смерти, унесшая в те года немало жизней. Мир и спокойствие, которого так не хватало наяву, Лизель черпала из книг. Своими книгами она щедро делилась и с Максом. Когда они перечитали все, что можно, Лизель решает брать тайком книги из библиотеки. В те времена они были на вес золота, так как власть распорядилась сжигать все книги. Зусак показывает, что в мире, где властвует насилие, даже маленькие добрые поступки, могут спасти чью-то жизнь от смерти.
Война не щадит никого. Кого-то убивает, а тех, кого оставляет в живых, уничтожает страданиями, постоянно напоминая о душевных ранах. Война разрушает нравственные ценности, учит жестокости и насилию. Однако даже здесь есть место добру, любви и состраданию – именно это в конечном счете приводит к миру. В своих произведениях писатели рассказывают о губительном начале войны и призывают людей избегать их.
4 примера итогового сочинения 2022-2023 на тему произведение о войне которое вас взволновало или запомнилось? С аргументами из литературы, каждое сочинение с вступлением и выводом для допуска к ЕГЭ 2023.
Пример итогового сочинения ЕГЭ 2022-2023
К счастью, мы имеем представление о войне только по книгам, новостям или фильмам. И многие из них, несомненно, трогают за душу. Мы сочувствуем каждому герою, который пострадал в жерновах истории. Ведь большинству людей не нужны никакие сражения, но интриги власть имущих вынуждают нас вновь и вновь наступать на одни и те же грабли. Об этом писали многие авторы, но есть книги, которые взволновали меня больше всего.
Сильное впечатление на меня произвела повесть В.Л. Кондратьева «Сашка». Главный герой — почти мой ровесник. У него за плечами нет жизненного опыта, на войне он — случайный гость. Он страдает от голода и холода, ежедневно рискует собой, но все равно не теряет мужества. Он готов под обстрелом доставать приличную обувь для командира — эта трогательная забота в ужаснейших условиях дорогого стоит. Но больше всего меня поразила мудрость, с которой он отпустил Зину. Девушка не дождалась его в госпитале и завела роман с другим мужчиной. Сначала она стеснялась сказать правду, даже пыталась как-то поощрить его из благодарности за свое спасение, но Саша понял, что ее сердце занято другим. Зина увлеклась лейтенантом, который скоро должен был уйти на передовую. Сашка оставил влюбленных наедине и поспешил перейти в другую больницу, чтобы не смущать девушку. Удивительно, что боец не потерял тактичность и человечность в условиях военного времени. Его поступок взволновал меня. На такое смирение способен далеко не каждый человек, а ведь на дворе военное время, когда сердца ожесточаются. Меня тронула способность Сашки противиться этому пагубному влиянию.
Не менее впечатляющей является книга В.А. Закруткина «Матерь человеческая». Главная героиня потеряла мужа и сына, ее дом сожгли враги, ее односельчан угнали в плен. Мария едва с ума не сошла от горя, но она была беременна, и мысль о будущем ребенке удержала ее от самоубийства и сумасшествия. Женщина нашла в себе силы встать на ноги и трудиться во имя того, кто должен был продолжить род ее супруга. Меня глубоко тронул эпизод, когда Мария находит раненого немца и уже готова убить его, но он произносит слово «Мама», и это заставляет героиню передумать. Она разрыдалась и поняла, что не падет до уровня своих мучителей. Мария сердцем поняла, что ее пленник — такая же жертва войны. Она ухаживала за ним, пока он не умер. Ее милосердие — самая мощная сила, которая прекратила бойню и вернула мир хотя бы на этот клочок земли. Невозможно читать этот фрагмент без слез.
Таким образом, многие книги о войне способны вызвать переживания, взять за душу и навеять светлые мысли о том, как люди боролись за мир и сохраняли человечность, несмотря ни на что. Все они были жертвами политических интриг и счетов, но каждый из них стремился к гармонии и созиданию. Такая литература вдохновляет на хорошие дела.
Пример №2 итогового сочинения ЕГЭ 2022-2023
Произведение о войне, которое меня взволновало? Их много, потому что война – это страшное время. Время огромных человеческих потерь, ведь погибло очень много людей, которые сражались за свою Родину. Нельзя, чтобы это время было забыто, ведь это история, история нашей страны, история нашего народа. Многие предавали свою страну, а другие, наоборот, были ей верны до последней капли крови.
В литературе немало примеров произведений о войне, которые оставили неизгладимый след в моей душе, взволновали настолько, что я не могла даже уснуть. Мне казалось, что, если я закрою глаза, то увижу весь ужас войны, самой страшной в истории человечества – Великой Отечественной войны. Например, такие мысли у меня возникали, когда я читала повесть Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке». Главный герой этого произведения во время Великой Отечественной войны был лётчиком. Однажды, во время одного жестокого боя, его самолёт был подбит немецким истребителем. Алексею Мересьеву чудом удалось выжить, но он лишился обеих ног. Несмотря на это, Алексей нашёл в себе силы научиться танцевать на протезах, чтобы вернуться в строй и продолжить борьбу с фашизмом. Для меня Алексей Мересьев – самый настоящий герой! Его судьба так меня взволновала, что я решила посмотреть старый советский фильм с одноимённым названием. Не поверите, но я не раз тихонько украдкой вытирала горькую слезу, будто пережила с главным героем самые трудные эпизоды его жизни. Так его нелёгкая судьба меня взволновала!
Ещё пример. Это рассказ Михаила Александровича Шолохова «Судьба человека». Вот уж поистине нелёгкая доля выпала на судьбу главного героя этого произведения Андрея Соколова! Он жил в трудное для страны время. Но судьба подарила ему хорошую жену, Ирину, которую он очень любил: « Ласковая, тихая… бьётся, чтоб и в малом достатке сладкий квасок тебе поднести…» Когда началась Великая Отечественная война, он ушёл на фронт, был дважды ранен, попал в плен к немцам. Но и в плену вёл себя как истинный патриот. Помните диалог Андрея Соколова с комендантом лагеря Мюллером, когда русский солдат отказался работать на немцев? Мюллер даже зауважал его. Ведь Андрей Соколов оказался достойным противником в глазах немецкого оккупанта! Тогда он принёс буханку хлеба в барак к военнопленным, которые поровну разделили её на всех. И в этой ситуации Андрей Соколов вёл себя достойно.
После войны он вернулся домой. Но на месте дома зияла глубокая воронка. Родные все погибли. Горю не было конца. Но Андрей Соколов не ожесточился. Он решил усыновить мальчика Ванюшку, которого война сделала сиротой. Ванюшка в лице Андрея обрёл отца, друга, защитника. Сила духа русского солдата помогла Андрею Соколову выжить в самых жестоких обстоятельствах. Не дала его душе очерстветь, ожесточиться, а сделала его ещё сильнее. Это выше всяких похвал и достойно глубокого уважения. Никогда не забуду страницы этого рассказа Шолохова, которые заставили волноваться мою душу.
Таким образом, эти два произведения о войне, о которых я коротко рассказала, оставили глубокий след в моём сердце. Никто не забыт – ничто не забыто! И я не забуду печальные страницы той страшной войны!
Пример №3 итогового сочинения ЕГЭ 2022-2023
Особую актуальность приобретает тема войны перед наступлением Дня Победы. Обучаясь в школе, мы часто знакомились с произведениями на военную тематику, в число которых вошла повесть Б. Васильева «А зори здесь тихие». Произведению удалось отставить в душе молодого поколения неизгладимые впечатления, в результате чего были формированы патриотические чувства школьников, появилось уважение к героиням повести.
Сюжетная линия посвящена 5 молодым девушкам – зенитчицам, и их командиру. Действие происходит в период ведения Великой Отечественной Войны, а именно в мае 1942 года, на территории сельской местности — 171-ого железнодорожного разъезда. Командиром этого разъезда назначен старшина Федот Васков. По прибытию на место предназначения солдаты сначала осматриваются, а затем гуляют и пьют.
Старшина Васков такого не приемлет и пишет многочисленные рапорты. В итоге, он становится командиром взвода «непьющих» бойцов, направленных к нему в распоряжение, – девчат-зенитчиц.
Однажды девушка Рита на территории леса обнаруживает двух немцев, о чем сообщает старшине. Васкову начальство отдает приказ о «поимке» немцев. Старшина осознает, враги хотят взорвать Кировскую железную дорогу и направляются именно туда. Васков решает добраться туда первыми посредством преодоления пути через болота, лежащие между озерами. С ним отправляются на задание девушки-зенитчицы. Благополучно добравшись до озера, команда получает информацию, что немцев шестнадцать. Силы неравные, поэтому девушку Лизу старшина посылает, обратно к разъезду с целью вызова подмоги.
Тем временем командир с остальными девушками принимает решение немцев ввести в заблуждение, изображая лесорубов, шумящих и валящих деревья. Все девушки погибают, и только старшина остается в живых. В плен были взяты три немца. Из леса он вышел с победой. Повесть передает страшную трагичность войны и судеб ее невольных участников, которые проявили героизм, и бесстрашие перед смертью.
Пример №4 итогового сочинения ЕГЭ 2022-2023
Существует множественное число произведений о войне, обладающих способностью взволновать читателя. Особенно запоминающимся для некоторых почитателей военных повествований стало то, в котором дети говорят о войне. Какой перед глазами детей в тот период, предстала Великая Отечественная война, поведала миру писательница Светлана Алексеевич. Ею был создан цикл рассказов «Последние свидетели». Именно они вызвали волнительные переживания читателей.
Данное произведение стало сборником достоверных воспоминаний, прозвучавших из уст маленьких свидетелей. Не оставил равнодушными никого рассказ «Папа», который повествует о том, как отца одного мальчика забрали на фронт, и ему запомнился данных трагических эпизод на всю оставшуюся жизнь. Сильно мальчик скучал по отцу и, увидев на улице города солдата, обладавшего схожими чертами с его папой, побежал за ним.
Когда ему удалось догнать служивого, мальчик прокричал: «Папа!». Убедившись, что этот человек не был его отцом, он заплакал. Во время прочтения эпизода, мало кто сдерживает слезы. Но солдат ребенка взял на руки и, подняв высоко над собой, произнёс ласково: «Сынок!». Хотя солдат и не был отцом мальчика, в нем проявилось благородство души и стремление подарить ребёнку надежду на то, что отец обязательно с фронта возвратиться домой живым.
Волнующее душу произведение представлено еще одним рассказом – повествованием маленькой девочки по имени Катя. В начале войны к ней не пришло еще осознания всего самого страшного, что несет это кровавое действие. С ней случилось ужасное — дом был разбомблен немецкими самолётами, а они с мамой бежали из родного города. Встречавшиеся им на пути чужие люди, кормили их хлебом и молоком, и вообще, чем могли, тем и помогали. Однако никакой возможности продвигаться дальше не существовало, потому что их ждала только немецкая засада впереди, и необходимо было возвращаться на место разрушенного дома.
Маленькие свидетели ещё рассказывали о том, как страшная война закончилась, и какова была их радость от воцарения мира на земле!
Темы итогового сочинения 2022-2023 природа и культура в жизни человека
Темы итогового сочинения 2022-2023 природа и культура в жизни человека
ПОДЕЛИТЬСЯ МАТЕРИАЛОМ
ОН УБИЛ МОЮ СОБАКУ (Юрий Яковлев)
(1)Он стоял на пороге директорского кабинета, и руку ему оттягивал большой чёрный портфель в белых трещинках. (2)Кожаная ручка оторвана, держится на одном ушке, и портфель достаёт почти до полу.
(3)Директор школы оглядывал мальчика и мучительно пытался вспомнить, за какие грехи вызван к нему этот очередной посетитель. (4)Разбил лампочку или заехал кому-нибудь в нос? (5)Разве всё запомнишь.
(6)– Подойди сюда и сядь… (7)Что у тебя за история?
(8)Таборка посмотрел на директора и спросил:
(9)– Это вы про собаку?
(10)– Про собаку.
(11)– Я боялся, что с ней что-нибудь случится, и привёл её в школу. (12)В живой уголок. (13)Туда берут ужей и золотых рыбок.
(14)А собаку не взяли. (15)Что она, глупее этих ужей?
(16)– И ты привёл её в класс? (17)Теперь директор вспомнил, за что приглашён к нему этот возмутитель спокойствия. (18)И ждал только подходящего момента, чтобы обрушить свои громы на эту круглую, давно не стриженную голову.
(19)– Всё? — спросил директор.
(20)– Нет, — сказал мальчик, — мы ещё были в милиции.
(21)Час от часу не легче! (22)Директор с шумом придвинул кресло к столу.
(23)– Как ты очутился в милиции?
(24)Таборка не вспыхнул и не заволновался, он заговорил сразу, без заминки:
(25)– Моя собака не кусалась. (26)Не то что собаки, которые живут за большими заборами и вечно скалят зубы. (27)Их чёрные носы смотрят из-под ворот, как двустволки. (28)А моя собака махала хвостиком. (29)Она была белой, и над глазами у неё два рыжих треугольника. (30)Вместо бровей…
(31)Мальчик говорил спокойно, почти монотонно. (32)Слова, как круглые ровные шарики, катались одно за другим.
(33)– И женщину она не кусала. (34)Она играла и ухватила её за пальто. (35)Но женщина рванулась в сторону, и пальто порвалось. (36)Она думала, что моя собака кусается, и закричала.
(37)Меня повели в милицию, а собака бежала рядом.
(38)Мальчик поднял глаза на директора: рассказывать дальше? (39)Директор сидел на кончике своего кресла и грудью навалился на стол. (40)Глаза его прищурились, как будто он целился. (41)Они не видели ничего, кроме Таборки.
(42)– В милиции нас продержали два часа. (43)Но в милиции не убили собаку. (44)Там один, с усами, даже погладил её и дал ей сахару… (45)Оказывается, собаке полагается номер и намордник. (46)По правилам. (47)Но когда я нашёл мою собаку, у неё не было ни номера, ни намордника. (48)У неё вообще ничего не было. (49)– Где ты нашёл её?
(50)– В посёлке. (51)Хозяева переехали в город, а собаку бросили. (52)Она бегала по улицам, всё искала хозяев.
(53)– Заведут собаку, а потом бросят!
(54)Эти слова вырвались у директора, и он вдруг почувствовал, что после них уже не сможет ударить кулаком по столу. (55)Мальчик не ухватился за его слова. (56)Он неожиданно возразил:
(57)– Они бросили собаку, но не убили. (58)А я наткнулся на неё. (59)Отдал ей свой завтрак, и с тех пор она не отходила от меня.
(60)Таборка неожиданно умолкал и так же неожиданно начинал говорить, словно часть мыслей оставлял при себе, а часть высказывал вслух.
(61)– Когда я в первый раз привёл собаку домой, он был в отъезде. (62)Мама сказала: (63)«От собаки одна только грязь!» (64)Какая грязь может быть от собаки? (65)От собаки одна радость. (66)Потом мама сказала: (67)«Я твоей собакой заниматься не буду. (68)Занимайся сам!» (69)Так я для того и взял собаку, чтобы заниматься самому.
(70)Таборка не отрывал глаз от пепельницы, а директор скрестил пальцы и положил их под щеку и не спускал с мальчика прищуренных глаз.
(71)– А потом приехал он и выгнал собаку. (72)Чем ему помешала собака?.. (73)Я не мог выгнать собаку. (74)Её один раз уже выгоняли. (75)Я поселил её в сарае. (76)Там было темно и скучно. (77)Я всё время думал о своей собаке. (78)Даже ночью просыпался: может быть, ей холодно и она не спит? (79)А может быть, она боится темноты?.. (80)Это, конечно, ерунда: собака ничего не боится! (81)В школе я тоже думал о ней, ждал, когда кончатся уроки: её завтрак лежал у меня в портфеле… (82)Потом он заплатил штраф за порванное пальто и выгнал собаку из сарая. (83)Я привёл её в школу. (84)Мне некуда было её деть.
(85)Теперь слова мальчика уже не были круглыми шариками.
(86)Они стали шершавыми и угловатыми и с трудом вырывались наружу.
(87)– Я не знал, что он задумал убить мою собаку. (88)Меня тогда не было. (89)Он подозвал её и выстрелил ей в ухо.
(90)В комнате стало тихо. (91)Как после выстрела. (92)И долгое время ни мальчик, ни директор не решались прервать молчание.
(93)Директор подошёл к мальчику и наклонился к нему:
(94)– Ты можешь помириться с отцом?
(95)– Я с ним не ссорился.
(96)– Он тебя когда-нибудь бил?
(97)– Не помню.
(98)– Обещай мне, что ты помиришься с отцом.
(99)– Я буду отвечать на его вопросы… (100)Пока не вырасту.
(101)– А что ты будешь делать, когда вырастешь?
(102)– Я буду защищать собак.
(По Ю. Яковлеву)
Я ПОЗДНО ПОНЯЛ… Елизавета Ауэрбах, из цикла «Маленькие рассказы»
Мать моя была худенькая маленькая женщина с очень мягким и веселым характером. Ее все любили. А она любила меня, для меня жила и работала. Рано овдовев, так и не вышла замуж. Я хорошо помню, как она в первый раз повела меня в школу. Мы с ней очень волновались. Во дворе школы было очень много взрослых, и все они держались за своих детей. Когда ребятам велели построиться в шеренгу, родители построились вместе с ними. Кудрявый учитель, улыбаясь, сказал: «Взрослые, отойдите, школьники пойдут в классы без вас». Мать, разжав мою руку, сказала: «Не плачь, возьми себя в руки, ты же мужчина» — и подтолкнула меня. Но я очень быстро освоился в новой обстановке и заявил, что буду ходить в школу самостоятельно, и мать по телефону сказала подруге: «Он стал совсем взрослым, в школу ходит один и послал кошку к чертовой бабушке».
Помню, в четвертом классе одна девочка подарила мне живую черепаху. Мне никто никогда не дарил черепах, и я очень полюбил эту девочку. Я сделал ей из коры чернильницу в подарок, но она отдала эту чернильницу другой девочке, сказав, что это не чернильница, а «бузня». Дома я, не выдержав, разревелся и рассказал все матери. «Знаешь,— сказала она,— со мной однажды так же было. Это очень больно, и я тоже плакала, но я женщина, мне простительно, а ты мужчина, возьми себя в руки». Мне стало легче, и я сразу разлюбил эту капризную девчонку.
Своего отца я не помню, мать одна воспитывала меня. И я не задумывался, легко ей или трудно. Мы дружно и весело жили. Она работала, я учился, в свободное время мы ходили на лыжах, в театр, а по вечерам любили мечтать о будущем. Она мечтала, что у меня будет сильный характер, и что я буду писателем, а я о том, как буду иметь постоянный пропуск в кино.
Так было до девятого класса. Тут, как говорила мать, меня подменили. Может быть, это случилось потому, что у меня появились новые товарищи, которым мне хотелось подражать, но я думаю, что сваливать все на товарищей не стоит. Мне было 16 лет, и кое-что я уже соображал.
Я стал вести самостоятельную жизнь. Это выражалось в том, что я поздно приходил домой, стал плохо заниматься, научился курить и перестал смотреть матери в глаза. Однажды я, возвращаясь в три часа ночи, заметил около своих ворот маленькую фигурку матери. От стыда, что она не спит из-за меня, что сейчас она увидит, что я выпил, я прошел мимо, будто не узнал ее.
После десятилетки я в институт не попал, так как, ведя самостоятельный образ жизни, в сущности, не занимался. Я пошел работать. У меня появились собственные деньги, но я отдал матери только первую получку.
Однажды я заметил у нее на столике валидол, но я никогда не слышал, чтобы она жаловалась на сердце. Соседи находили, что она в последнее время страшно изменилась, но я, видя ее каждый день, этого не замечал, вернее, не хотел замечать.
Так прошел год, наступила весна, и мать стала уговаривать меня готовиться к экзаменам. Я понимал, что она права, но у меня было маловато воли. Наступил май. Встретил я его хорошо. Два дня праздника с компанией собирались у меня. Мама, все нам приготовив, уходила к подруге. Третьего я уехал с ребятами за город. Уезжая, забыл оставить матери записку, что не приду ночевать.
Пришел домой я четвертого после работы, но ее уже не застал: она умерла третьего вечером, когда в квартире никого не было.
С компанией, которая не нравилась моей матери, я сразу порвал. Настоящих друзей среди них не было, я это сделал без всякого сожаления. Не бросая работы, я стал готовиться к экзаменам и осенью, сдав все на пятерки, внезапно понял, что радость, которой не с кем поделиться, теряет свою прелесть.
На втором курсе я очень подружился с одним студентом. Олег был серьезным и добродушным парнем. Глядя на него, я думал, что он понравился бы моей маме. Воспитанник детдома, он сохранил только смутные воспоминания о своих родителях, которых потерял в раннем детстве.
Я чувствовал страшную потребность рассказать ему все о своей матери, о нашей замечательной жизни до последних двух лет, о том, как я мучил ее и потерял. Слушая меня, Олег становился все строже и суровее, один раз он сквозь зубы процедил: «Подлец!» А я, рассказывая, вдруг ясно понял, что для того, чтобы убить человека, совсем не надо хотеть его убить,— это можно делать каждый день равнодушно, не понимая, чем это может окончиться. Я понял это слишком поздно.
Обычно, когда мы сидели с Олегом у меня, я потом провожал его до метро. В этот вечер он сухо сказал: «Не провожай». Я чувствовал, что могу потерять друга. Больше всего в этот вечер мне хотелось услышать слова: «Не плачь, возьми себя в руки, ты же мужчина».
Через неделю Олег подошел ко мне. «У меня к тебе просьба,— сказал он,— напиши все, что ты мне сказал. Так, как рассказал, так и напиши. Твоя мама хотела, чтобы ты писал, попробуй для нее…»
Та, кому я посвятил этот рассказ, никогда его не прочтет и не узнает, что я всю жизнь буду стараться стать таким, как она хотела,— я взял себя в руки, ведь я — мужчина.
БОРИС ЕКИМОВ «ГОВОРИ, МАМА, ГОВОРИ»
По утрам теперь звонил телефон-мобильник. Черная коробочка оживала:
загорался в ней свет, пела веселая музыка и объявлялся голос дочери, словно рядом она:
— Мама, здравствуй! Ты в порядке? Молодец! Вопросы и пожелания? Замечательно! Тогда целую. Будь-будь!
Коробочка тухла, смолкала. Старая Катерина дивилась на нее, не могла привыкнуть. Такая вроде малость — спичечный коробок. Никаких проводов. Лежит-лежит — и вдруг заиграет, засветит, и голос дочери:
— Мама, здравствуй! Ты в порядке? Не надумала ехать? Гляди… Вопросов нет? Целую. Будь-будь!
А ведь до города, где дочь живет, полторы сотни верст. И не всегда легких, особенно в непогоду.
Но в год нынешний осень выдалась долгая, теплая. Возле хутора, на окрестных курганах, порыжела трава, а тополевое да вербовое займище возле Дона стояло зеленым, и по дворам по-летнему зеленели груши да вишни, хотя по времени им давно пора отгореть рдяным да багровым тихим пожаром.
Птичий перелет затянулся. Неспешно уходила на юг казарка, вызванивая где-то в туманистом, ненастном небе негромкое онг-онг… онг-онг…
Да что о птице говорить, если бабка Катерина, иссохшая, горбатенькая от возраста, но еще проворная старушка, никак не могла собраться в отъезд.
— Кидаю умом, не накину… — жаловалась она соседке. — Ехать, не ехать?.. А может, так и будет тепло стоять? Гутарят по радио: навовсе поломалась погода. Ныне ведь пост пошел, а сороки ко двору не прибились. Тепло-растепло. Туды-сюды… Рождество да Крещенье. А там пора об рассаде думать. Чего зря и ехать, колготу разводить.
Соседка лишь вздыхала: до весны, до рассады было еще ох как далеко.
Но старая Катерина, скорее себя убеждая, вынимала из пазухи еще один довод — мобильный телефон.
— Мобила! — горделиво повторяла она слова городского внука. — Одно слово — мобила. Нажал кнопку, и враз — Мария. Другую нажал — Коля. Кому хочешь жалься. И чего нам не жить? — вопрошала она. — Зачем уезжать? Хату кидать, хозяйство…
Этот разговор был не первый. С детьми толковала, с соседкой, но чаще сама с собой.
Последние годы она уезжала зимовать к дочери в город. Одно дело — возраст: трудно всякий день печку топить да воду носить из колодца. По грязи да в гололед. Упадешь, расшибешься. И кто поднимет?
Хутор, еще недавно людный, с кончиной колхоза разошелся, разъехался, вымер. Остались лишь старики да пьянь. И хлеб не возят, про остальное не говоря. Тяжело старому человеку зимовать. Вот и уезжала к своим.
Но с хутором, с гнездом насиженным нелегко расставаться. Куда девать малую живность: Тузика, кошку да кур? Распихивать по людям?.. И о хате душа болит. Пьянчуги залезут, последние кастрюлешки упрут.
Да и не больно весело на старости лет новые углы обживать. Хоть и родные дети, но стены чужие и вовсе другая жизнь. Гостюй да оглядывайся.
Вот и думала: ехать, не ехать?.. А тут еще телефон привезли на подмогу — «мобилу». Долго объясняли про кнопки: какие нажимать, а какие не трогать. Обычно звонила дочь из города, по утрам.
Запоет веселая музыка, вспыхнет в коробочке свет. Поначалу старой Катерине казалось, что там, словно в малом, но телевизоре, появится лицо дочери. Объявлялся лишь голос, далекий и ненадолго:
— Мама, здравствуй! Ты в порядке? Молодец. Вопросы есть? Вот и хорошо. Целую. Будь-будь.
Не успеешь опомниться, а уже свет потух, коробочка смолкла.
В первые дни старая Катерина лишь дивилась такому чуду. Прежде на хуторе был телефон в колхозной конторе. Там все привычно: провода, черная большая трубка, долго можно говорить. Но тот телефон уплыл вместе с колхозом. Теперь появился «мобильный». И то слава богу.
— Мама! Слышишь меня?! Живая-здоровая? Молодец. Целую.
Не успеешь и рта раскрыть, а коробочка уж потухла.
— Это что за страсть такая… — ворчала старая женщина. — Не телефон, свиристелка. Прокукарекал: будь-будь… Вот тебе и будь. А тут…
А тут, то есть в жизни хуторской, стариковской, было много всего, о чем рассказать хотелось.
— Мама, слышишь меня?
— Слышу, слышу… Это ты, доча? А голос будто не твой, какой-то хрипавый. Ты не хвораешь? Гляди одевайся теплей. А то вы городские — модные, платок пуховый повяжи. И нехай глядят. Здоровье дороже. А то я ныне сон видала, такой нехороший. К чему бы? Вроде на нашем подворье стоит скотиняка. Живая. Прямо у порога. Хвост у нее лошадиный, на голове — рога, а морда козиная. Это что за страсть? И к чему бы такое?
— Мама, — донеслось из телефона строгое. — Говори по делу, а не про козиные морды. Мы же тебе объясняли: тариф.
— Прости Христа ради, — опомнилась старая женщина. Ее и впрямь упреждали, когда телефон привезли, что он дорогой и нужно говорить короче, о самом главном.
Но что оно в жизни главное? Особенно у старых людей… И в самом деле ведь привиделась ночью такая страсть: лошадиный хвост и козья страшенная морда.
Вот и думай, к чему это? Наверное, не к добру.
Снова миновал день, за ним — другой. Старой женщины жизнь катилась привычно: подняться, прибраться, выпустить на волю кур; покормить да напоить свою малую живность да и самой чего поклевать. А потом пойдет цеплять дело за дело. Не зря говорится: хоть и дом невелик, а сидеть не велит.
Просторное подворье, которым когда-то кормилась немалая семья: огород, картофельник, левада. Сараи, закуты, курятник. Летняя кухня-мазанка, погреб с выходом. Плетневая городьба, забор. Земля, которую нужно копать помаленьку, пока тепло. И дровишки пилить, ширкая ручною пилой на забазье. Уголек нынче стал дорогущий, его не укупишь.
Помаленьку да полегоньку тянулся день, пасмурный, теплый. Онг-онг… онг-онг… — слышалось порой. Это казарка уходила на юг, стая за стаей. Улетали, чтобы весной вернуться. А на земле, на хуторе было по-кладбищенски тихо. Уезжая, сюда люди уже не возвращались ни весной, ни летом. И потому редкие дома и подворья словно расползались по-рачьи, чураясь друг друга.
Прошел еще один день. А утром слегка подморозило. Деревья, кусты и сухие травы стояли в легком куржаке — белом пушистом инее. Старая Катерина, выйдя во двор, глядела вокруг, на эту красоту, радуясь, а надо бы вниз, под ноги глядеть. Шла-шла, запнулась, упала, больно ударившись о корневище.
Неловко начался день, да так и пошел не в лад.
Как всегда поутру, засветил и запел телефон мобильный.
— Здравствуй, моя доча, здравствуй. Одно лишь звание, что — живая. Я ныне так вдарилась, — пожаловалась она. — Не то нога подыграла, а может, склизь. Где, где… — подосадовала она. — Во дворе. Воротца пошла отворять, с ночи. А тама, возля ворот, там грушина-черномяска. Ты ее любишь. Она сладимая. Я из нее вам компот варю. Иначе бы я ее давно ликвидировала. Возля этой грушины…
— Мама, — раздался в телефоне далекий голос, — конкретней говори, что случилось, а не про сладимую грушину.
— А я тебе о чем и толкую. Тама корень из земли вылез, как змеюка. А я шла не глядела. Да тут еще глупомордая кошка под ноги суется. Этот корень… Летось Володю просила до скольких разов: убери его Христа ради. Он на самом ходу. Черномяска…
— Мама, говори, пожалуйста, конкретней. О себе, а не о черномяске. Не забывай, что это — мобильник, тариф. Что болит? Ничего не сломала?
— Вроде бы не сломала, — все поняла старая женщина. — Прикладаю капустный лист.
На том и закончился с дочерью разговор. Остальное самой себе пришлось досказывать: «Чего болит, не болит… Все у меня болит, каждая косточка. Такая жизнь позади…»
И, отгоняя горькие мысли, старая женщина занялась привычными делами во дворе и в доме. Но старалась больше толочься под крышей, чтобы еще не упасть. А потом возле прялки уселась. Пушистая кудель, шерстяная нить, мерное вращенье колеса старинной самопряхи. И мысли, словно нить, тянутся и тянутся. А за окном — день осенний, словно бы сумерки. И вроде зябко. Надо бы протопить, но дровишек — внатяг. Вдруг и впрямь зимовать придется.
В свою пору включила радио, ожидая слов о погоде. Но после короткого молчания из репродуктора донесся мягкий, ласковый голос молодой женщины:
— Болят ваши косточки?..
Так впору и к месту были эти душевные слова, что ответилось само собой:
— Болят, моя доча…
— Ноют руки и ноги?.. — словно угадывая и зная судьбу, спрашивал добрый голос.
— Спасу нет… Молодые были, не чуяли. В доярках да в свинарках. А обувка — никакая. А потом в резиновые сапоги влезли, зимой и летом в них. Вот и нудят…
— Болит ваша спина… — мягко ворковал, словно завораживая, женский голос.
— Заболит, моя доча… Век на горбу таскала чувалы да вахли с соломой. Как не болеть… Такая жизнь…
Жизнь ведь и вправду нелегкой выдалась: война, сиротство, тяжкая колхозная работа.
Ласковый голос из репродуктора вещал и вещал, а потом смолк.
Старая женщина даже всплакнула, ругая себя: «Овечка глупая… Чего ревешь?..» Но плакалось. И от слез вроде бы стало легче.
И тут совсем неожиданно, в обеденный неурочный час, заиграла музыка и засветил, проснувшись, мобильный телефон. Старая женщина испугалась:
— Доча, доча… Чего случилось? Не заболел кто? А я всполохнулась: не к сроку звонишь. Ты на меня, доча, не держи обиду. Я знаю, что дорогой телефон, деньги большие. Но я ведь взаправду чуток не убилась. Тама, возля этой дулинки… — Она опомнилась: — Господи, опять я про эту дулинку, прости, моя доча…
Издалека, через многие километры, донесся голос дочери:
— Говори, мама, говори…
— Вот я и гутарю. Ныне какая-то склизь. А тут еще эта кошка… Да корень этот под ноги лезет, от грушины. Нам, старым, ныне ведь все мешает. Я бы эту грушину навовсе ликвидировала, но ты ее любишь. Запарить ее и сушить, как бывалоча… Опять я не то плету… Прости, моя доча. Ты слышишь меня?..
В далеком городе дочь ее слышала и даже видела, прикрыв глаза, старую мать свою: маленькую, согбенную, в белом платочке. Увидела, но почуяла вдруг, как все это зыбко и ненадежно: телефонная связь, видение.
— Говори, мама… — просила она и боялась лишь одного: вдруг оборвется и, может быть, навсегда этот голос и эта жизнь. — Говори, мама, говори…
Бумажная победа
(1)У Гени от рождения было неладно с ногами, и он ходил странной, подскакивающей походкой.
(2)Он вышел во двор, едва оправившись после весенне-зимних болезней. (3)И воздух, и земля — всё было разбухшим и переполненным, а особенно голые деревья, готовые с минуты на минуту взорваться мелкой блестящей счастливой листвой.
(4)Геня стоял посреди двора, радуясь теплу.
(5)Первый ком земли упал рядом с мальчиком, брызги грязи тяжело шлёпнулись на лицо.
(6)Второй комок попал в спину, а третьего он не стал дожидаться, пустился вприпрыжку к своей двери. (7)Вдогонку, как звонкое копьё, летел самодельный стишок:
— Генька хромой, сопли рекой!
(8)Он оглянулся: кидался Колька Клюквин, кричали девчонки, а позади них стоял тот, ради которого они старались, — враг всех, кто не был у него на побегушках, кто его не боялся, — ловкий и бесстрашный Женька Айтыр.
(9)…Вечером, когда Геня спал, мать и бабушка долго сидели за столом.
(10)— Почему? (11)Почему они его всегда обижают? — горьким шёпотом спросила, наконец, бабушка.
(12)— Я думаю, надо пригласить их в гости, к Гене на день рождения, — ответила мать.
(13)— Ты с ума сошла, — испугалась бабушка, — это же не дети, это бандиты.
(14)— Я не вижу другого выхода, — хмуро отозвалась мать.
(15)Накануне дня рождения мать сказала Гене, что устроит ему настоящий праздник.
(16)— Позови из класса кого хочешь и из двора, — предложила она.
(17)— Я никого не хочу. (18)Не надо, мама, — попросил Геня.
(19)Вечером мать вышла во двор и сама пригласила ребят.
(20)К четырём часам на раздвинутом столе стоял мелко нарезанный винегрет, жареный картофель с селёдкой, были испечены румяные пирожки с рисом.
(21)Геня старался не думать о том, как сейчас в его дом ворвутся враги… (22)Казалось, что он совершенно поглощён своим любимым занятием: он складывал из газеты кораблик с парусом.
(23)Он был мастером этого бумажного искусства. (24)Тысячи дней своей жизни Геня проводил в постели. (25)Болезни он терпеливо переносил, загибая уголки и расправляя сгибы бумажных листов, придумывая много удивительных вещей…
(26)Гости пришли ровно в четыре, всей гурьбой. (27)Белёсые сестрички поднесли большой букет жёлтых одуванчиков. (28)Прочие пришли без подарков. (29)После обеда мать предложила:
Давайте поиграем в фанты.
(30)Она объяснила, как играть, но оказалось, что ни у кого нет фантов. (31)Айтыр положил на стол недоделанный Геней бумажный кораблик и приглушённо сказал:
Это будет мой фант.
(32)Геня придвинул его к себе и несколькими движениями завершил постройку.
(33)— Геня, сделай девочкам фанты, — попросила мать, принесла и положила на стол бумагу.
(34)Геня, взяв лист, мгновение подумал и сделал продольный сгиб…
(35)Детские головы склонились над столом.
(З6)Лодка… кораблик… кораблик с парусом… стакан… солонка… хлебница… рубашка…
(37)Он едва успевал сделать последнее движение, как готовую вещь немедленно выхватывала ожидающая рука.
(38)Все забыли и думать про игру. (39)Они тянули к нему руки, и он раздавал им свои бумажные чудеса, и все улыбались, и все его благодарили. (40)Такое чувство он испытывал только во сне.
Он был счастлив. (42)Они восхищались его чепуховым талантом, которому сам он не придавал никакого значения. (43)Он словно впервые увидел их лица: они были совершенно не злые…
(44)Айтыр распустил кораблик и пытался сделать заново, а когда не получилось, подошёл к Гене и, впервые в жизни обратившись к нему по имени, попросил:
— Гень, посмотри-ка, а дальше как…
(45)Мать мыла посуду, улыбаясь и роняя слёзы в мыльную воду.
(46)Счастливый мальчик раздаривал бумажные игрушки…
(По Л. Улицкой)
Старый повар. Константин Паустовский
В один из зимних вечеров 1786 года на окраине Вены в маленьком деревянном доме умирал слепой старик — бывший повар графини Тун. Собственно говоря, это был даже не дом, а ветхая сторожка, стоявшая в глубине сада. Сад был завален гнилыми ветками, сбитыми ветром. При каждом шаге ветки хрустели, и тогда начинал тихо ворчать в своей будке цепной пёс. Он тоже умирал, как и его хозяин, от старости и уже не мог лаять.
Несколько лет назад повар ослеп от жара печей. Управляющий графини поселил его с тех пор в сторожке и выдавал ему время от времени несколько флоринов.
Вместе с поваром жила его дочь Мария, девушка лет восемнадцати. Всё убранство сторожки составляли кровать, хромые скамейки, грубый стол, фаянсовая посуда, покрытая трещинами, и, наконец, клавесин — единственное богатство Марии.
Клавесин был такой старый, что струны его пели долго и тихо в ответ в ответ на все возникавшие вокруг звуки. Повар, смеясь, называл клавесин «сторожем своего дома». Никто не мог войти в дом без того, чтобы клавесин не встретил его дрожащим, старческим гулом.
Когда Мария умыла умирающего и надела на него холодную чистую рубаху, старик сказал:
— Я всегда не любил священников и монахов. Я не могу позвать исповедника, между тем мне нужно перед смертью очистить свою совесть.
— Что же делать? — испуганно спросила Мария.
— Выйди на улицу, — сказал старик, — и попроси первого встречного зайти в наш дом, чтобы исповедать умирающего. Тебе никто не откажет.
— Наша улица такая пустынная… — прошептала Мария, накинула платок и вышла.
Она пробежала через сад, с трудом открыла заржавленную калитку и остановилась. Улица была пуста. Ветер нёс по ней листья, а с тёмного неба падали холодные капли дождя.
Мария долго ждала и прислушивалась. Наконец ей показалось, что вдоль ограды идёт и напевает человек. Она сделала несколько шагов ему навстречу, столкнулась с ним и вскрикнула. Человек остановился и спросил:
— Кто здесь?
Мария схватила его за руку и дрожащим голосом передала просьбу отца.
— Хорошо, — сказал человек спокойно. — Хотя я не священник, но это всё равно. Пойдёмте.
Они вошли в дом. При свече Мария увидела худого маленького человека. Он сбросил на скамейку мокрый плащ. Он был одет с изяществом и простотой — огонь свечи поблёскивал на его чёрном камзоле, хрустальных пуговицах и кружевном жабо.
Он был ещё очень молод, этот незнакомец. Совсем по-мальчишески он тряхнул головой, поправил напудренный парик, быстро придвинул к кровати табурет, сел и, наклонившись, пристально и весело посмотрел в лицо умирающему.
— Говорите! — сказал он. — Может быть, властью, данной мне не от бога, а от искусства, которому я служу, я облегчу ваши последние минуты и сниму тяжесть с вашей души.
— Я работал всю жизнь, пока не ослеп, — прошептал старик. — А кто работает, у того нет времени грешить. Когда заболела чахоткой моя жена — её звали Мартой — и лекарь прописал ей разные дорогие лекарства и приказал кормить её сливками и винными ягодами и поить горячим красным вином, я украл из сервиза графини Тун маленькое золотое блюдо, разбил его на куски и продал. И мне тяжело теперь вспоминать об этом и скрывать от дочери: я её научил не трогать ни пылинки с чужого стола.
— А кто-нибудь из слуг графини пострадал за это? — спросил незнакомец.
— Клянусь, сударь, никто, — ответил старик и заплакал. — Если бы я знал, что золото не поможет моей Марте, разве я мог бы украсть!
— Как вас зовут? — спросил незнакомец.
— Иоганн Мейер, сударь.
— Так вот, Иоганн Мейер, — сказал незнакомец и положил ладонь на слепые глаза старика, — вы невинны перед людьми. То, что вы совершили, не есть грех и не является кражей, а, наоборот, может быть зачтено вам как подвиг любви.
— Аминь! — прошептал старик.
— Аминь! — повторил незнакомец. — А теперь скажите мне вашу последнюю волю.
— Я хочу, чтобы кто-нибудь позаботился о Марии.
— Я сделаю это. А еще чего вы хотите?
Тогда умирающий неожиданно улыбнулся и громко сказал:
— Я хотел бы ещё раз увидеть Марту такой, какой я встретил её в молодости. Увидеть солнце и этот старый сад, когда он зацветет весной. Но это невозможно, сударь. Не сердитесь на меня за глупые слова. Болезнь, должно быть, совсем сбила меня с толку.
— Хорошо, — сказал незнакомец и встал. — Хорошо, — повторил он, подошёл к клавесину и сел перед ним на табурет. — Хорошо! — громко сказал он в третий раз, и внезапно быстрый звон рассыпался по сторожке, как будто на пол бросили сотни хрустальных шариков.
— Слушайте,- сказал незнакомец. — Слушайте и смотрите.
Он заиграл. Мария вспоминала потом лицо незнакомца, когда первый клавиш прозвучал под его рукой. Необыкновенная бледность покрыла его лоб, а в потемневших глазах качался язычок свечи.
Клавесин пел полным голосом впервые за многие годы. Он наполнял своими звуками не только сторожку, но и весь сад. Старый пёс вылез из будки, сидел, склонив голову набок, и, насторожившись, тихонько помахивал хвостом. Начал идти мокрый снег, но пёс только потряхивал ушами.
— Я вижу, сударь! — сказал старик и приподнялся на кровати. — Я вижу день, когда я встретился с Мартой и она от смущения разбила кувшин с молоком. Это было зимой, в горах. Небо стояло прозрачное, как синее стекло, и Марта смеялась. Смеялась, — повторил он, прислушиваясь к журчанию струн.
Незнакомец играл, глядя в чёрное окно.
— А теперь, — спросил он, — вы видите что-нибудь?
Старик молчал, прислушиваясь.
— Неужели вы не видите, — быстро сказал незнакомец, не переставая играть, — что ночь из чёрной сделалась синей, а потом голубой, и тёплый свет уже падает откуда-то сверху, и на старых ветках ваших деревьев распускаются белые цветы. По-моему, это цветы яблони, хотя отсюда, из комнаты, они похожи на большие тюльпаны. Вы видите: первый луч упал на каменную ограду, нагрел её, и от неё поднимается пар. Это, должно быть, высыхает мох, наполненный растаявшим снегом. А небо делается всё выше, всё синее, всё великолепнее, и стаи птиц уже летят на север над нашей старой Веной.
— Я вижу всё это! — крикнул старик.
Тихо проскрипела педаль, и клавесин запел торжественно, как будто пел не он, а сотни ликующих голосов.
— Нет, сударь, — сказала Мария незнакомцу, — эти цветы совсем не похожи на тюльпаны. Это яблони распустились за одну только ночь.
— Да, — ответил незнакомец, — это яблони, но у них очень крупные лепестки.
— Открой окно, Мария, — попросил старик.
Мария открыла окно. Холодный воздух ворвался в комнату. Незнакомец играл очень тихо и медленно.
Старик упал на подушки, жадно дышал и шарил по одеялу руками. Мария бросилась к нему. Незнакомец перестал играть. Он сидел у клавесина не двигаясь, как будто заколдованный собственной музыкой.
Мария вскрикнула. Незнакомец встал и подошёл к кровати. Старик сказал, задыхаясь:
— Я видел всё так ясно, как много лет назад. Но я не хотел бы умереть и не узнать… имя. Имя!
— Меня зовут Вольфганг Амадей Моцарт, — ответил незнакомец.
Мария отступила от кровати и низко, почти касаясь коленом пола, склонилась перед великим музыкантом.
Когда она выпрямилась, старик был уже мёртв. Заря разгоралась за окнами, и в её свете стоял сад, засыпанный цветами мокрого снега.
МАЛЬЧИК У ХРИСТА НА ЕЛКЕ
Но я романист, и, кажется, одну «историю» сам сочинил. Почему я пишу: «кажется», ведь я сам знаю наверно, что сочинил, но мне все мерещится, что это где-то и когда-то случилось, именно это случилось как раз накануне рождества, в каком-то огромном городе и в ужасный мороз.
Мерещится мне, был в подвале мальчик, но еще очень маленький, лет шести или даже менее. Этот мальчик проснулся утром в сыром и холодном подвале. Одет он был в какой-то халатик и дрожал. Дыхание его вылетало белым паром, и он, сидя в углу на сундуке, от скуки нарочно пускал этот пар изо рта и забавлялся, смотря, как он вылетает. Но ему очень хотелось кушать. Он несколько раз с утра подходил к нарам, где на тонкой, как блин, подстилке и на каком-то узле под головой вместо подушки лежала больная мать его. Как она здесь очутилась? Должно быть, приехала с своим мальчиком из чужого города и вдруг захворала. Хозяйку углов захватили еще два дня тому в полицию; жильцы разбрелись, дело праздничное, а оставшийся один халатник уже целые сутки лежал мертво пьяный, не дождавшись и праздника. В другом углу комнаты стонала от ревматизма какая-то восьмидесятилетняя старушонка, жившая когда-то и где-то в няньках, а теперь помиравшая одиноко, охая, брюзжа и ворча на мальчика, так что он уже стал бояться подходить к ее углу близко. Напиться-то он где-то достал в сенях, но корочки нигде не нашел и раз в десятый уже подходил разбудить свою маму. Жутко стало ему, наконец, в темноте: давно уже начался вечер, а огня не зажигали. Ощупав лицо мамы, он подивился, что она совсем не двигается и стала такая же холодная, как стена. «Очень уж здесь холодно», — подумал он, постоял немного, бессознательно забыв свою руку на плече покойницы, потом дохнул на свои пальчики, чтоб отогреть их, и вдруг, нашарив на нарах свой картузишко, потихоньку, ощупью, пошел из подвала. Он еще бы и раньше пошел, да все боялся вверху, на лестнице, большой собаки, которая выла весь день у соседских дверей. Но собаки уже не было, и он вдруг вышел на улицу.
Господи, какой город! Никогда еще он не видал ничего такого. Там, откудова он приехал, по ночам такой черный мрак, один фонарь на всю улицу. Деревянные низенькие домишки запираются ставнями; на улице, чуть смеркнется — никого, все затворяются по домам, и только завывают целые стаи собак, сотни и тысячи их, воют и лают всю ночь. Но там было зато так тепло и ему давали кушать, а здесь — господи, кабы покушать! И какой здесь стук и гром, какой свет и люди, лошади и кареты, и мороз, мороз! Мерзлый пар валит от загнанных лошадей, из жарко дышащих морд их; сквозь рыхлый снег звенят об камни подковы, и все так толкаются, и, господи, так хочется поесть, хоть бы кусочек какой-нибудь, и так больно стало вдруг пальчикам. Мимо прошел блюститель порядка и отвернулся, чтоб не заметить мальчика.
Вот и опять улица, — ох какая широкая! Вот здесь так раздавят наверно; как они все кричат, бегут и едут, а свету-то, свету-то! А это что? Ух, какое большое стекло, а за стеклом комната, а в комнате дерево до потолка; это елка, а на елке сколько огней, сколько золотых бумажек и яблоков, а кругом тут же куколки, маленькие лошадки; а по комнате бегают дети, нарядные, чистенькие, смеются и играют, и едят, и пьют что-то. Вот эта девочка начала с мальчиком танцевать, какая хорошенькая девочка! Вот и музыка, сквозь стекло слышно. Глядит мальчик, дивится, уж и смеется, а у него болят уже пальчики и на ножках, а на руках стали совсем красные, уж не сгибаются и больно пошевелить. И вдруг вспомнил мальчик про то, что у него так болят пальчики, заплакал и побежал дальше, и вот опять видит он сквозь другое стекло комнату, опять там деревья, но на столах пироги, всякие — миндальные, красные, желтые, и сидят там четыре богатые барыни, а кто придет, они тому дают пироги, а отворяется дверь поминутно, входит к ним с улицы много господ. Подкрался мальчик, отворил вдруг дверь и вошел. Ух, как на него закричали и замахали! Одна барыня подошла поскорее и сунула ему в руку копеечку, а сама отворила ему дверь на улицу. Как он испугался! А копеечка тут же выкатилась и зазвенела по ступенькам: не мог он согнуть свои красные пальчики и придержать ее. Выбежал мальчик и пошел поскорей-поскорей, а куда, сам не знает. Хочется ему опять заплакать, да уж боится, и бежит, бежит и на ручки дует. И тоска берет его, потому что стало ему вдруг так одиноко и жутко, и вдруг, господи! Да что ж это опять такое? Стоят люди толпой и дивятся: на окне за стеклом три куклы, маленькие, разодетые в красные и зеленые платьица и совсем-совсем как живые! Какой-то старичок сидит и будто бы играет на большой скрипке, два других стоят тут же и играют на маленьких скрипочках, и в такт качают головками, и друг на друга смотрят, и губы у них шевелятся, говорят, совсем говорят, — только вот из-за стекла не слышно. И подумал сперва мальчик, что они живые, а как догадался совсем, что это куколки, — вдруг рассмеялся. Никогда он не видал таких куколок и не знал, что такие есть! И плакать-то ему хочется, но так смешно-смешно на куколок. Вдруг ему почудилось, что сзади его кто-то схватил за халатик: большой злой мальчик стоял подле и вдруг треснул его по голове, сорвал картуз, а сам снизу поддал ему ножкой. Покатился мальчик наземь, тут закричали, обомлел он, вскочил и бежать-бежать, и вдруг забежал сам не знает куда, в подворотню, на чужой двор, — и присел за дровами: «Тут не сыщут, да и темно».
Присел он и скорчился, а сам отдышаться не может от страху и вдруг, совсем вдруг, стало так ему хорошо: ручки и ножки вдруг перестали болеть и стало так тепло, так тепло, как на печке; вот он весь вздрогнул: ах, да ведь он было заснул! Как хорошо тут заснуть: «Посижу здесь и пойду опять посмотреть на куколок, — подумал мальчик и усмехнулся, вспомнив про них, — совсем как живые!..» И вдруг ему послышалось, что над ним запела его мама песенку. «Мама, я сплю, ах, как тут спать хорошо!»
— Пойдем ко мне на елку, мальчик, — прошептал над ним вдруг тихий голос.
Он подумал было, что это все его мама, но нет, не она; кто же это его позвал, он не видит, но кто-то нагнулся над ним и обнял его в темноте, а он протянул ему руку и… и вдруг, — о, какой свет! О, какая елка! Да и не елка это, он и не видал еще таких деревьев! Где это он теперь: все блестит, все сияет и кругом всё куколки, — но нет, это всё мальчики и девочки, только такие светлые, все они кружатся около него, летают, все они целуют его, берут его, несут с собою, да и сам он летит, и видит он: смотрит его мама и смеется на него радостно.
— Мама! Мама! Ах, как хорошо тут, мама! — кричит ей мальчик, и опять целуется с детьми, и хочется ему рассказать им поскорее про тех куколок за стеклом. — Кто вы, мальчики? Кто вы, девочки? — спрашивает он, смеясь и любя их.
— Это «Христова елка», — отвечают они ему. — У Христа всегда в этот день елка для маленьких деточек, у которых там нет своей елки… — И узнал он, что мальчики эти и девочки все были всё такие же, как он, дети, но одни замерзли еще в своих корзинах, в которых их подкинули на лестницы к дверям петербургских чиновников, другие задохлись у чухонок, от воспитательного дома на прокормлении, третьи умерли у иссохшей груди своих матерей, во время самарского голода, четвертые задохлись в вагонах третьего класса от смраду, и все-то они теперь здесь, все они теперь как ангелы, все у Христа, и он сам посреди их, и простирает к ним руки, и благословляет их и их грешных матерей… А матери этих детей все стоят тут же, в сторонке, и плачут; каждая узнает своего мальчика или девочку, а они подлетают к ним и целуют их, утирают им слезы своими ручками и упрашивают их не плакать, потому что им здесь так хорошо…
А внизу наутро дворники нашли маленький трупик забежавшего и замерзшего за дровами мальчика; разыскали и его маму… Та умерла еще прежде его; оба свиделись у господа бога в небе.
И зачем же я сочинил такую историю, так не идущую в обыкновенный разумный дневник, да еще писателя? А еще обещал рассказы преимущественно о событиях действительных! Но вот в том-то и дело, мне все кажется и мерещится, что все это могло случиться действительно, — то есть то, что происходило в подвале и за дровами, а там об елке у Христа — уж и не знаю, как вам сказать, могло ли оно случиться, или нет? На то я и романист, чтоб выдумывать.
Домский собор (В.П. Астафьев)
Дом… Дом… Дом…
Домский собор, с петушком на шпиле. Высокий, каменный, он по-над Ригой звучит.
Пением органа наполнены своды собора. С неба, сверху плывет то рокот, то гром, то нежный голос влюбленных, то зов весталок, то рулады рожка, то звуки клавесина, то говор перекатного ручья…
И снова грозным валом бушующих страстей сносит все, снова рокот.
Звуки качаются, как ладанный дым. Они густы, осязаемы. Они всюду, и все наполнено ими: душа, земля, мир.
Все замерло, остановилось.
Душевная смута, вздорность суетной жизни, мелкие страсти, будничные заботы — все-все это осталось в другом месте, в другом свете, в другой, отдалившейся от меня жизни, там, там где-то.
«Может, все что было до этого, — сон? Войны, кровь, братоубийство, сверхчеловеки, играющие людскими судьбами ради того, чтобы утвердить себя над миром.
Зачем так напряженно и трудно живем мы на земле нашей? Зачем? Почему?»
Дом. Дом. Дом…
Благовест. Музыка. Мрак исчез. Взошло солнце. Все преображается вокруг.
Нет собора с электрическими свечками, с древней лепотой, со стеклами, игрушечно и конфетно изображающими райскую жизнь. Есть мир и я, присмиревший от благоговения, готовый преклонить колени перед величием прекрасного.
Зал полон людьми, старыми и молодыми, русскими и нерусскими, партийными и беспартийными, злыми и добрыми, порочными и светлыми, усталыми и восторженными, всякими.
И никого нет в зале!
Есть только моя присмирелая, бесплотная душа, она сочится непонятной болью и слезами тихого восторга.
Она очищается, душа-то, и чудится мне, весь мир затаил дыхание, задумался этот клокочущий, грозный наш мир, готовый вместе со мною пасть на колени, покаяться, припасть иссохшим ртом к святому роднику добра…
И вдруг, как наваждение, как удар: а ведь в это время где-то целят в этот собор, в эту великую музыку… пушками, бомбами, ракетами…
Не может этого быть! Не должно быть!
А если есть. Если суждено умереть нам, сгореть, исчезнуть, то пусть сейчас, пусть в эту минуту, за все наши злые дела и пороки накажет нас судьба. Раз не удается нам жить свободно, сообща, то пусть хоть смерть наша будет свободной, и душа отойдет в иной мир облегченной и светлой.
Живем мы все вместе. Умираем по отдельности. Так было века. Так было до этой минуты.
Так давайте сейчас, давайте скорее, пока нет страха. Не превратите людей в животных перед тем, как их убить. Пусть рухнут своды собора, и вместо плача о кровавом, преступно сложенном пути унесут люди в сердце музыку гения, а не звериный рев убийцы.
Домский собор! Домский собор! Музыка! Что ты сделала со мною? Ты еще дрожишь под сводами, еще омываешь душу, леденишь кровь, озаряешь светом все вокруг, стучишься в броневые груди и больные сердца, но уже выходит человек в черном и кланяется сверху. Маленький человек, тужащийся уверить, что это он сотворил чудо. Волшебник и песнопевец, ничтожество и Бог, которому подвластно все: и жизнь, и смерть.
Домский собор. Домский собор.
Здесь не рукоплещут. Здесь люди плачут от ошеломившей их нежности. Плачет каждый о своем. Но вместе все плачут о том, что кончается, спадает прекрасный сон, что кратковечно волшебство, обманчиво сладкое забытье и нескончаемы муки.
Домский собор. Домский собор.
Ты в моем содрогнувшемся сердце. Склоняю голову перед твоим певцом, благодарю за счастье, хотя и краткое, за восторг и веру в разум людской, за чудо, созданное и воспетое этим разумом, благодарю тебя за чудо воскрешения веры в жизнь. За все, за все благодарю!
Постскриптум (В.П. Астафьев)
Среди многих постыдных поступков, которые я совершил в жизни, более всех памятен мне один. В детдоме в коридоре висел репродуктор, и однажды в нем раздался голос, ни на чей не похожий, чем-то меня — скорее всего как раз непохожестью — раздражавший.
«Орет как жеребец!» — сказал я и выдернул вилку репродуктора из розетки. Голос певицы оборвался. Ребятня сочувственно отнеслась к моему поступку, поскольку был я в детстве самым певучим и читающим человеком.
…Много лет спустя в Ессентуках, в просторном летнем зале, слушал я симфонический концерт. Все повидавшие и пережившие на своем веку музыканты крымского оркестра со славной, на муравьишку похожей, молоденькой дирижершей Зинаидой Тыкач терпеливо растолковывали публике, что и почему они будут играть, когда, кем и по какому случаю то или иное музыкальное произведение было написано. Делали они это вроде как бы с извинениями за свое вторжение в такую перенасыщенную духовными ценностями жизнь граждан, лечащихся и просто так жирующих на курорте, и концерт начали с лихой увертюры Штрауса, чтоб подготовить переутомленных культурой слушателей ко второму, более серьезному отделению.
Но и сказочный Штраус, и огневой Брамс, и кокетливый Оффенбах не помогли — уже с середины первого отделения концерта слушатели, набившиеся в зал на музыкальное мероприятие только потому, что оно бесплатное, начали покидать зал. Да кабы просто так они его покидали, молча, осторожно — нет, с возмущениями, выкриками, бранью покидали, будто обманули их в лучших вожделениях и мечтах.
Стулья в концертном зале старые, венские, с круглыми деревянными сиденьями, сколоченные порядно, и каждый гражданин, поднявшись с места, считал своим долгом возмущенно хлопнуть сиденьем.
Я сидел, ужавшись в себя, слушал, как надрываются музыканты, чтоб заглушить шум и ругань в зале, и мне хотелось за всех за нас попросить прощения у милой дирижерши в черненьком фраке, у оркестрантов, так трудно и упорно зарабатывающих свой честный, бедный хлеб, извиниться за всех нас и рассказать, как я в детстве…
Но жизнь — не письмо, в ней постскриптума не бывает. Что из того, что певица, которую я оскорбил когда-то словом, имя ей — великая Надежда Обухова, — стала моей самой любимой певицей, что я «исправился» и не раз плакал, слушая ее.
Она-то, певица, уж никогда не услышит моего раскаяния, не сможет простить меня. Зато, уже пожилой и седой, я содрогаюсь от каждого хлопка и бряка стула в концертном зале. Меня бьет по морде матерщина в тот момент, когда музыканты изо всех сил, возможностей и таланта своего пытаются передать страдания рано отстрадавшего близорукого юноши в беззащитных кругленьких очках.
Он в своей предсмертной симфонии, неоконченной песне своего изболелого сердца, более уже века протягивает руки в зал и с мольбой взывает; «Люди, помогите мне! Помогите!.. Ну если мне помочь не можете, хотя бы себе помогите!..»
Михаил Салтыков-Щедрин
ПРЕМУДРЫЙ ПИСКАРЬ
Жил-был пискарь. И отец и мать у него были умные; помаленьку да полегоньку аридовы веки в реке прожили и ни в уху, ни к щуке в хайло́ не попали. И сыну то же заказали. «Смотри, сынок, — говорил старый пискарь, умирая, — коли хочешь жизнью жуировать, так гляди в оба!»
А у молодого пискаря ума палата была. Начал он этим умом раскидывать и видит: куда ни обернется — везде ему мат. Кругом, в воде, всё большие рыбы плавают, а он всех меньше; всякая рыба его заглотать может, а он никого заглотать не может. Да и не понимает: зачем глотать? Рак может его клешней пополам перерезать, водяная блоха — в хребет впиться и до смерти замучить. Даже свой брат пискарь — и тот, как увидит, что он комара изловил, целым стадом так и бросятся отнимать. Отнимут и начнут друг с дружкой драться, только комара задаром растреплют.
А человек? — что это за ехидное создание такое! каких каверз он ни выдумал, чтоб его, пискаря, напрасною смертью погублять! И невода́, и сети, и ве́рши, и норота́, и, наконец… уду! Кажется, что́ может быть глупее уды? — Нитка, на нитке крючок, на крючке — червяк или муха надеты… Да и надеты-то как?.. в самом, можно сказать, неестественном положении! А между тем именно на уду всего больше пискарь и ловится!
Отец-старик не раз его насчет уды предостерегал. «Пуще всего берегись уды! — говорил он, — потому что хоть и глупейший это снаряд, да ведь с нами, пискарями, что глупее, то вернее. Бросят нам муху, словно нас же приголубить хотят; ты в нее вцепишься — ан в мухе-то смерть!»
Рассказывал также старик, как однажды он чуть-чуть в уху не угодил. Ловили их в ту пору целою артелью, во всю ширину реки невод растянули, да так версты с две по дну волоком и волокли. Страсть, сколько рыбы тогда попалось! И щуки, и окуни, и головли, и плотва, и гольцы, — даже лещей-лежебоков из тины со дна поднимали! А пискарям так и счет потеряли. И каких страхов он, старый пискарь, натерпелся, покуда его по реке волокли, — это ни в сказке сказать, ни пером описать. Чувствует, что его везут, а куда — не знает. Видит, что у него с одного боку — щука, с другого — окунь; думает: вот-вот, сейчас, или та, или другой его съедят, а они — не трогают… «В ту пору не до еды, брат, было!» У всех одно на уме: смерть пришла! а как и почему она пришла — никто не понимает. Наконец стали крылья у невода сводить, выволокли его на берег и начали рыбу из мотни в траву валить. Тут-то он и узнал, что́ такое уха. Трепещется на песке что-то красное; серые облака от него вверх бегут; а жарко таково́, что он сразу разомлел. И без того без воды тошно, а тут еще поддают… Слышит — «костер», говорят. А на «костре» на этом черное что-то положено, и в нем вода, точно в озере, во время бури, ходуном ходит. Это — «котел», говорят. А под конец стали говорить: вали в «котел» рыбу — будет «уха»! И начали туда нашего брата валить. Шваркнет рыбак рыбину — та сначала окунется, потом, как полоумная, выскочит, потом опять окунется — и присмиреет. «Ухи», значит, отведала. Валили-валили сначала без разбора, а потом один старичок глянул на него и говорит: «Какой от него, от малыша, прок для ухи! пущай в реке порастет!» Взял его под жабры, да и пустил в вольную воду. А он, не будь глуп, во все лопатки — домой! Прибежал, а пискариха его из норы ни жива ни мертва выглядывает…
И что же! сколько ни толковал старик в ту пору, что́ такое уха и в чем она заключается, однако и поднесь в реке редко кто здравые понятия об ухе имеет!
Но он, пискарь-сын, отлично запомнил поучения пискаря-отца, да и на ус себе намотал. Был он пискарь просвещенный, умеренно-либеральный, и очень твердо понимал, что жизнь прожить — не то, что мутовку облизать. «Надо так прожить, чтоб никто не заметил, — сказал он себе, — а не то как раз пропадешь!» — и стал устраиваться. Первым делом нору для себя такую придумал, чтоб ему забраться в нее было можно, а никому другому — не влезть! Долбил он носом эту нору целый год, и сколько страху в это время принял, ночуя то в иле, то под водяным лопухом, то в осоке. Наконец, однако, выдолбил на славу. Чисто, аккуратно — именно только одному поместиться впору. Вторым делом, насчет житья своего решил так: ночью, когда люди, звери, птицы и рыбы спят — он будет моцион делать, а днем — станет в норе сидеть и дрожать. Но так как пить-есть все-таки нужно, а жалованья он не получает и прислуги не держит, то будет он выбегать из норы около полден, когда вся рыба уж сыта, и, бог даст, может быть, козявку-другую и промыслит. А ежели не промыслит, так и голодный в норе заляжет, и будет опять дрожать. Ибо лучше не есть, не пить, нежели с сытым желудком жизни лишиться.
Так он и поступал. Ночью моцион делал, в лунном свете купался, а днем забирался в нору и дрожал. Только в полдни выбежит кой-чего похватать — да что́ в полдень промыслишь! В это время и комар под лист от жары прячется, и букашка под кору хоронится. Поглотает воды — и шабаш!
Лежит он день-деньской в норе, ночей не досыпает, куска не доедает, и все-то думает: «Кажется, что я жив? ах, что-то завтра будет?»
Задремлет, грешным делом, а во сне ему снится, что у него выигрышный билет и он на него двести тысяч выиграл. Не помня себя от восторга, перевернется на другой бок — глядь, ан у него целых полрыла из норы высунулось… Что, если б в это время щуренок поблизости был! ведь он бы его из норы-то вытащил!
Однажды проснулся он и видит: прямо против его норы стоит рак. Стоит неподвижно, словно околдованный, вытаращив на него костяные глаза. Только усы по течению воды пошевеливаются. Вот когда он страху набрался! И целых полдня, покуда совсем не стемнело, этот рак его поджидал, а он тем временем все дрожал, все дрожал.
В другой раз, только что успел он перед зорькой в нору воротиться, только что сладко зевнул, в предвкушении сна, — глядит, откуда ни возьмись, у самой норы щука стоит и зубами хлопает. И тоже целый день его стерегла, словно видом его одним сыта была. А он и щуку надул: не вышел из норы, да и шабаш.
И не раз, и не два это с ним случалось, а почесть что каждый день. И каждый день он, дрожа, победы и одоления одерживал, каждый день восклицал: «Слава тебе, господи! жив!»
Но этого мало: он не женился и детей не имел, хотя у отца его была большая семья. Он рассуждал так: «Отцу шутя можно было прожить! В то время и щуки были добрее, и окуни на нас, мелюзгу, не зарились. А хотя однажды он и попал было в уху, так и тут нашелся старичок, который его вызволил! А нынче, как рыба-то в реках повывелась, и пискари в честь попали. Так уж тут не до семьи, а как бы только самому прожить!»
И прожил премудрый пискарь таким родом слишком сто лет. Все дрожал, все дрожал. Ни друзей у него, ни родных; ни он к кому, ни к нему кто. В карты не играет, вина не пьет, табаку не курит, за красными девушками не гоняется — только дрожит да одну думу думает: «Слава богу! кажется, жив!»
Даже щуки, под конец, и те стали его хвалить: «Вот, кабы все так жили — то-то бы в реке тихо было!» Да только они это нарочно говорили; думали, что он на похвалу-то отрекомендуется — вот, мол, я! тут его и хлоп! Но он и на эту штуку не поддался, а еще раз своею мудростью козни врагов победил.
Сколько прошло годов после ста лет — неизвестно, только стал премудрый пискарь помирать. Лежит в норе и думает: «Слава богу, я своею смертью помираю, так же, как умерли мать и отец». И вспомнились ему тут щучьи слова: «Вот кабы все так жили, как этот премудрый пискарь живет…» А ну-тка, в самом деле, что́ бы тогда было?
Стал он раскидывать умом, которого у него была палата, и вдруг ему словно кто шепнул: «Ведь этак, пожалуй, весь пискарий род давно перевелся бы!»
Потому что, для продолжения пискарьего рода, прежде всего нужна семья, а у него ее нет. Но этого мало: для того, чтоб пискарья семья укреплялась и процветала, чтоб члены ее были здоровы и бодры, нужно, чтоб они воспитывались в родной стихии, а не в норе, где он почти ослеп от вечных сумерек. Необходимо, чтоб пискари достаточное питание получали, чтоб не чуждались общественности, друг с другом хлеб-соль бы водили и друг от друга добродетелями и другими отличными качествами заимствовались. Ибо только такая жизнь может совершенствовать пискарью породу и не дозволит ей измельчать и выродиться в снетка.
Неправильно полагают те, кои думают, что лишь те пискари могут считаться достойными гражданами, кои, обезумев от страха, сидят в норах и дрожат. Нет, это не граждане, а по меньшей мере бесполезные пискари. Никому от них ни тепло, ни холодно, никому ни чести, ни бесчестия, ни славы, ни бесславия… живут, даром место занимают да корм едят.
Все это представилось до того отчетливо и ясно, что вдруг ему страстная охота пришла: «Вылезу-ка я из норы да гоголем по всей реке проплыву!» Но едва он подумал об этом, как опять испугался. И начал, дрожа, помирать. Жил — дрожал, и умирал — дрожал.
Вся жизнь мгновенно перед ним пронеслась. Какие были у него радости? кого он утешил? кому добрый совет подал? кому доброе слово сказал? кого приютил, обогрел, защитил? кто слышал об нем? кто об его существовании вспомнит?
И на все эти вопросы ему пришлось отвечать: «Никому, никто».
Он жил и дрожал — только и всего. Даже вот теперь: смерть у него на носу, а он все дрожит, сам не знает, из-за чего. В норе у него темно, тесно, повернуться негде, ни солнечный луч туда не заглянет, ни теплом не пахнёт. И он лежит в этой сырой мгле, незрячий, изможденный, никому не нужный, лежит и ждет: когда же наконец голодная смерть окончательно освободит его от бесполезного существования?
Слышно ему, как мимо его норы шмыгают другие рыбы — может быть, как и он, пискари — и ни одна не поинтересуется им. Ни одной на мысль не придет: «Дай-ка, спрошу я у премудрого пискаря, каким он манером умудрился слишком сто лет прожить, и ни щука его не заглотала, ни рак клешней не перешиб, ни рыболов на уду не поймал?» Плывут себе мимо, а может быть, и не знают, что вот в этой норе премудрый пискарь свой жизненный процесс завершает!
И что́ всего обиднее: не слыхать даже, чтоб кто-нибудь премудрым его называл. Просто говорят: «Слыхали вы про остолопа, который не ест, не пьет, никого не видит, ни с кем хлеба-соли не водит, а все только распостылую свою жизнь бережет?» А многие даже просто дураком и срамцом его называют и удивляются, как таких идолов вода терпит.
Раскидывал он таким образом своим умом и дремал. То есть не то что дремал, а забываться уж стал. Раздались в его ушах предсмертные шепоты, разлилась по всему телу истома. И привиделся ему тут прежний соблазнительный сон. Выиграл будто бы он двести тысяч, вырос на целых поларшина и сам щук глотает.
А покуда ему это снилось, рыло его, помаленьку да полегоньку, целиком из норы и высунулось.
И вдруг он исчез. Что́ тут случилось — щука ли его заглотала, рак ли клешней перешиб, или сам он своею смертью умер и всплыл на поверхность, — свидетелей этому делу не было. Скорее всего — сам умер, потому что какая сласть щуке глотать хворого, умирающего пискаря, да к тому же еще и премудрого?
Владимир Короленко
«Огоньки»
Как-то давно, темным осенним вечером, случилось мне плыть по угрюмой сибирской реке. Вдруг на повороте реки, впереди, под темными горами мелькнул огонек.
Мелькнул ярко, сильно, совсем близко…
— Ну, слава богу! — сказал я с радостью, — близко ночлег!
Гребец повернулся, посмотрел через плечо на огонь и опять апатично налег на весла.
— Далече!
Я не поверил: огонек так и стоял, выступая вперед из неопределенной тьмы. Но гребец был прав: оказалось, действительно, далеко.
Свойство этих ночных огней — приближаться, побеждая тьму, и сверкать, и обещать, и манить своею близостью. Кажется, вот-вот еще два-три удара веслом, — и путь кончен… А между тем — далеко!..
И долго мы еще плыли по темной, как чернила, реке. Ущелья и скалы выплывали, надвигались и уплывали, оставаясь назади и теряясь, казалось, в бесконечной дали, а огонек все стоял впереди, переливаясь и маня, — все так же близко, и все так же далеко…
Мне часто вспоминается теперь и эта темная река, затененная скалистыми горами, и этот живой огонек. Много огней и раньше и после манили не одного меня своею близостью. Но жизнь течет все в тех же угрюмых берегах, а огни еще далеко. И опять приходится налегать на весла…
Но все-таки… все-таки впереди — огни!.. 1900
А.И. ПРИСТАВКИН «ФОТОГРАФИИ»
Мы жили далеко от дома, я и моя сестренка, которой было шесть лет. Чтобы она не забывала родных, раз в месяц я приводил сестренку в нашу холодную спальню, сажал на кровать и доставал конвертик с фотографиями.
— Смотри, Люда, вот наша мама. Она дома, она сильно болеет.
— Болеет… — повторяла девочка.
— А это папа наш. Он на фронте, фашистов бьет.
— Бьет…
— Вот это тетя. У нас неплохая тетя.
— А здесь?
— Здесь мы с тобой. Вот это Людочка. А это я.
И сестренка хлопала в крошечные синеватые ладошки и повторяла: «Людочка и я. Людочка и я…»
Из дому пришло письмо. Чужой рукой было написано о нашей маме. И мне захотелось бежать из детского дома куда-нибудь. Но рядом была моя сестренка. И следующий вечер мы сидели, прижавшись, друг к другу, и смотрели фотографии.
— Вот папа наш, он на фронте, и тетя, и маленькая Людочка…
— А мама?
– Мама? Где же мама? Наверное, затерялась… Но я потом найду. Зато смотри, какая у нас тетя. У нас очень хорошая тетя.
Шли дни, месяцы, В морозный день, когда подушки, которыми затыкали окна, покрывались пышным инеем, почтальонша принесла маленький листок. Я держал его в руках, и у меня мерзли кончики пальцев. И что-то коченело в животе. Два дня я не приходил к сестренке. А потом мы сидели рядом, смотрели фотографии.
— Вот наша тетя. Посмотри, какая у нас удивительная тетя! Просто замечательная тетя. А здесь Людочка и я…
— А где же папа?
— Папа? Сейчас посмотрим.
— Затерялся, да?
— Ага. Затерялся.
И сестренка переспросила, подымая чистые испуганные глаза.
— Насовсем затерялся?
Шли месяцы, годы. И вдруг нам сказали, что детей возвращают в Москву к родителям. Нас обошли с тетрадкой и спросили, к кому мы собираемся ехать, кто у нас есть из родственников. А потом меня вызвала завуч и сказала, глядя в бумаги:
— Мальчик, здесь на некоторое время остается часть наших воспитанников. Мы оставляем и тебя с сестренкой. Мы написали вашей тете, спрашивали, может ли она вас принять. Она, к сожалению…
Мне зачитали ответ.
В детдоме хлопали двери, сдвигались в кучу топчаны, скручивались матрацы. Ребята готовились в Москву. Мы сидели с сестренкой и никуда не собирались Мы разглядывали фотографии.
— Вот Людочка. А вот я.
— А еще?
— Еще? Смотри, и здесь Людочка. И здесь… И меня много. Ведь нас очень много, правда?
Иван Бунин
ЛАПТИ
Пятый день несло непроглядной вьюгой. В белом от снега и холодном хуторском доме стоял бледный сумрак и было большое горе: был тяжело болен ребенок. И в жару, в бреду он часто плакал и все просил дать ему какие-то красные лапти. И мать, не отходившая от постели, где он лежал, тоже плакала горькими слезами, — от страха и от своей беспомощности. Что сделать, чем помочь? Муж в отъезде, лошади плохие, а до больницы, до доктора тридцать верст, да и не поедет никакой доктор в такую страсть…
Стукнуло в прихожей, — Нефед принес соломы на топку, свалил ее на пол, отдуваясь, утираясь, дыша холодом и вьюжной свежестью, приотворил дверь, заглянул:
— Ну что, барыня, как? Не полегчало?
— Куда там, Нефедушка! Верно, и не выживет! Все какие-то красные лапти просит…
— Лапти? Что за лапти такие?
— А господь его знает. Бредит, весь огнем горит…
Мотнул шапкой, задумался. Шапка, борода, старый полушубок, разбитые валенки — все в снегу, все обмерзло… И вдруг твердо:
— Значит, надо добывать. Значит, душа желает. Надо добывать.
— Как добывать?
— В Новоселки идти. В лавку. Покрасить фуксином нехитрое дело.
— Бог с тобой, до Новоселок шесть верст! Где ж в такой ужас дойти!
Еще подумал.
— Нет, пойду. Ничего, пойду. Доехать не доедешь, а пешком, может, ничего. Она будет мне в зад, пыль-то…
И, притворив дверь, ушел. А на кухне, ни слова не говоря, натянул зипун поверх полушубка, туго подпоясался старой подпояской, взял в руки кнут и вышел вон, пошел, утопая по сугробам, через двор, выбрался за ворота и потонул в белом, куда-то бешено несущемся степном море.
Пообедали, стало смеркаться, смерклось — Нефеда не было. Решили, что, значит, ночевать остался, если бог донес. Обыденкой в такую погоду не вернешься. Надо ждать завтра не раньше обеда. Но оттого, что его все-таки не было, ночь была еще страшнее. Весь дом гудел, ужасала одна мысль, что́ теперь там, в поле, в бездне снежного урагана и мрака. Сальная свеча пылала дрожащим хмурым пламенем. Мать поставила ее на пол, за отвал кровати. Ребенок лежал в тени, но стена казалась ему огненной и вся бежала причудливыми, несказанно великолепными и грозными видениями. А порой он как будто приходил в себя и тотчас же начинал горько и жалобно плакать, умоляя (и как будто вполне разумно) дать ему красные лапти:
— Мамочка, дай! Мамочка, дорогая, ну что тебе стоит!
И мать кидалась на колени и била себя в грудь:
— Господи, помоги! Господи, защити!
А когда наконец рассвело, послышалось под окнами сквозь гул и грохот вьюги уже совсем явственно, совсем не так, как всю ночь мерещилось, что кто-то подъехал, что раздаются чьи-то глухие голоса, а затем торопливый, зловещий стук в окно.
Это были новосельские мужики, привезшие мертвое тело, — белого, мерзлого, всего забитого снегом, навзничь лежавшего в розвальнях Нефеда. Мужики ехали из города, сами всю ночь плутали, а на рассвете свалились в какие-то луга, потонули вместе с лошадью в страшный снег и совсем было отчаялись, решили пропадать, как вдруг увидали торчащие из снега чьи-то ноги в валенках. Кинулись разгребать снег, подняли тело — оказывается, знакомый человек…
Тем только и спаслись — поняли, что, значит, эти луга хуторские, протасовские, и что на горе, в двух шагах жилье…
За пазухой Нефеда лежали новенькие ребячьи лапти и пузырек с фуксином.
22 июня 1924
Антон Чехов
СКРИПКА РОТШИЛЬДА
Городок был маленький, хуже деревни, и жили в нем почти одни только старики, которые умирали так редко, что даже досадно. В больницу же и в тюремный замок гробов требовалось очень мало. Одним словом, дела были скверные. Если бы Яков Иванов был гробовщиком в губернском городе, то, наверное, он имел бы собственный дом и звали бы его Яковом Матвеичем; здесь же в городишке звали его просто Яковом, уличное прозвище у него было почему-то Бронза, а жил он бедно, как простой мужик, в небольшом старой избе, где была одна только комната, и в этой комнате помещались он, Марфа, печь, двухспальная кровать, гробы, верстак и всё хозяйство.
Яков делал гробы хорошие, прочные. Для мужиков и мещан он делал их на свой рост и ни разу не ошибся, так как выше и крепче его не было людей нигде, даже в тюремном замке, хотя ему было уже семьдесят лет. Для благородных же и для женщин делал по мерке и употреблял для этого железный аршин. Заказы на детские гробики принимал он очень неохотно и делал их прямо без мерки, с презрением, и всякий раз, получая деньги за работу, говорил:
— Признаться, не люблю заниматься чепухой.
Кроме мастерства, небольшой доход приносила ему также игра на скрипке. В городке на свадьбах играл обыкновенно жидовский оркестр, которым управлял лудильщик Моисей Ильич Шахкес, бравший себе больше половины дохода. Так как Яков очень хорошо играл на скрипке, особенно русские песни, то Шахкес иногда приглашал его и оркестр с платою по пятьдесят копеек в день, не считая подарков от гостей. Когда Бронза сидел в оркестре, то у него прежде всего потело и багровело лицо; было жарко, пахло чесноком до духоты, скрипка взвизгивала, у правого уха хрипел контрабас, у левого — плакала флейта, на которой играл рыжий тощий жид с целою сетью красных и синих жилок на лице, носивший фамилию известного богача Ротшильда. И этот проклятый жид даже самое веселое умудрялся играть жалобно. Без всякой видимой причины Яков мало-помалу проникался ненавистью и презрением к жидам, а особенно к Ротшильду; он начинал придираться, бранить его нехорошими словами и раз даже хотел побить его, и Ротшильд обиделся и проговорил, глядя на него свирепо:
— Если бы я не уважал вас за талант, то вы бы давно полетели у меня в окошке.
Потом заплакал. Поэтому Бронзу приглашали в оркестр не часто, только в случае крайней необходимости, когда недоставало кого-нибудь из евреев.
Яков никогда не бывал в хорошем расположении духа, так как ему постоянно приходилось терпеть страшные убытки. Например, в воскресенья и праздники грешно было работать, понедельник — тяжелый день, и таким образом в году набиралось около двухсот дней, когда поневоле приходилось сидеть сложа руки. А ведь это какой убыток! Если кто-нибудь и городе играл свадьбу без музыки или Шахкес не приглашал Якова, то это тоже был убыток. Полицейский надзиратель был два года болен и чахнул, и Яков с нетерпением ждал, когда он умрет, но надзиратель уехал в губернский город лечиться и взял да там и умер. Вот вам и убыток, по меньшей мере рублей на десять, так как гроб пришлось бы делать дорогой, с глазетом. Мысли об убытках донимали Якова особенно по ночам; он клал рядом с собой на постели скрипку и, когда всякая чепуха лезла в голову, трогал струны, скрипка в темноте издавала звук, и ему становилось легче.
Шестого мая прошлого года Марфа вдруг занемогла. Старуха тяжело дышала, пила много воды и пошатывалась, но все-таки утром сама истопила печь и даже ходила по воду. К вечеру же слегла. Яков весь день играл на скрипке; когда же совсем стемнело, взял книжку, в которую каждый день записывал свои убытки, и от скуки стал подводить годовой итог. Получилось больше тысячи рублей. Это так потрясло его, что он хватил счетами о пол и затопал ногами. Потом поднял счеты и опять долго щелкал и глубоко, напряженно вздыхал. Лицо у него было багрово и мокро от пота. Он думал о том, что если бы эту пропащую тысячу рублей положить в банк, то в год проценту накопилось бы самое малое — сорок рублей. Значит, и эти сорок рублей тоже убыток. Одним словом, куда ни повернись, везде только убытки и больше ничего.
— Яков! — позвала Марфа неожиданно. — Я умираю!
Он оглянулся на жену. Лицо у нее было розовое от жара, необыкновенно ясное и радостное. Бронза, привыкший всегда видеть ее лицо бледным, робким и несчастным, теперь смутился. Похоже было на то, как будто она в самом деле умирала и была рада, что наконец уходит навеки из этой избы, от гробов, от Якова… И она глядела в потолок и шевелила губами, и выражение у нее было счастливое, точно она видела смерть, свою избавительницу, и шепталась с ней.
Был уже рассвет, в окно видно было, как горела утренняя заря. Глядя на старуху, Яков почему-то вспомнил, что за всю жизнь он, кажется, ни разу не приласкал ее, не пожалел, ни разу не догадался купить ей платочек или принести со свадьбы чего-нибудь сладенького, а только кричал на нее, бранил за убытки, бросался на нее с кулаками; правда, он никогда не бил ее, но все-таки пугал, и она всякий раз цепенела от страха. Да, он не велел ей пить чай, потому что и без того расходы большие, и она пила только горячую воду. И он понял, отчего у нее теперь такое странное, радостное лицо, и ему стало жутко.
Дождавшись утра, он взял у соседа лошадь и повез Марфу в больницу. Тут больных было немного и потому пришлось ему ждать недолго, часа три. К его великому удовольствию, в этот раз принимал больных не доктор, который сам был болен, а фельдшер Максим Николаич, старик, про которого все в городе говорили, что хотя он и пьющий и дерется, но понимает больше, чем доктор.
— Здравия желаем, — сказал Яков, вводя старуху в приемную. — Извините, всё беспокоим вас, Максим Николаич, своими пустяшными делами. Вот, изволите видеть, захворал мой предмет. Подруга жизни, как это говорится, извините за выражение…
Нахмурив седые брови и поглаживая бакены, фельдшер стал оглядывать старуху, а она сидела на табурете сгорбившись и, тощая, остроносая, с открытым ртом, походила в профиль на птицу, которой хочется пить.
— М-да… Так… — медленно проговорил фельдшер и вздохнул. — Инфлуэнца, а может и горячка. Теперь по городу тиф ходит. Что ж? Старушка пожила, слава богу… Сколько ей?
— Да без года семьдесят, Максим Николаич.
— Что ж? Пожила старушка. Пора и честь знать.
— Оно, конечно, справедливо изволили заметить, Максим Николаич, — сказал Яков, улыбаясь из вежливости, — и чувствительно вас благодарим за вашу приятность, но позвольте вам выразиться, всякому насекомому жить хочется.
— Мало ли чего! — сказал фельдшер таким тоном, как будто от него зависело жить старухе или умереть. — Ну, так вот, любезный, будешь прикладывать ей на голову холодный компресс и давай вот эти порошки по два в день. А за сим досвиданция, бонжур.
По выражению его лица Яков видел, что дело плохо и что уж никакими порошками не поможешь; для него теперь ясно было, что Марфа помрет очень скоро, не сегодня-завтра. Он слегка толкнул фельдшера под локоть, подмигнул глазом и сказал вполголоса:
— Ей бы, Максим Николаич, банки поставить.
— Некогда, некогда, любезный. Бери свою старуху и уходи с богом. Досвиданция.
— Сделайте такую милость, — взмолился Яков. — Сами изволите знать, если б у нее, скажем, живот болел или какая внутренность, ну, тогда порошки и капли, а то ведь в ней простуда! При простуде первое дело — кровь гнать, Максим Николаич.
А фельдшер уже вызвал следующего больного, и в приемную входила баба с мальчиком.
— Ступай, ступай… — сказал он Якову, хмурясь. — Нечего тень наводить.
— В таком случае поставьте ей хоть пьявки! Заставьте вечно бога молить!
Фельдшер вспылил и крикнул:
— Поговори мне еще! Ддубина…
Яков тоже вспылил и побагровел весь, но не сказал ни слова, а взял под руку Марфу и повел ее из приемной. Только когда уж садились в телегу, он сурово и насмешливо поглядел на больницу и сказал:
— Насажали вас тут артистов! Богатому небось поставил бы банки, а для бедного человека и одной пьявки пожалел. Ироды!
Когда приехали домой, Марфа, войдя в избу, минут десять простояла, держась за печку. Ей казалось, что если она ляжет, то Яков будет говорить об убытках и бранить ее за то, что она всё лежит и не хочет работать. А Яков глядел на нее со скукой и вспоминал, что завтра Иоанна богослова, послезавтра Николая чудотворца, а потом воскресенье, потом понедельник — тяжелый день. Четыре дня нельзя будет работать, а наверное Марфа умрет в какой-нибудь из этих дней; значит, гроб надо делать сегодня. Он взял свой железный аршин, подошел к старухе и снял с нее мерку. Потом она легла, а он перекрестился и стал делать гроб.
Когда работа была кончена, Бронза надел очки и записал в свою книжку:
«Марфе Ивановой гроб — 2 р. 40 к.».
И вздохнул. Старуха всё время лежала молча с закрытыми глазами. Но вечером, когда стемнело, она вдруг позвала старика.
— Помнишь, Яков? — спросила она, глядя на него радостно. — Помнишь, пятьдесят лет назад нам бог дал ребеночка с белокурыми волосиками? Мы с тобой тогда всё на речке сидели и песни пели… под вербой. — И, горько усмехнувшись, она добавила: — Умерла девочка.
Яков напряг память, но никак не мог вспомнить ни ребеночка, ни вербы.
— Это тебе мерещится, — сказал он.
Приходил батюшка, приобщал и соборовал. Потом Марфа стала бормотать что-то непонятное и к утру скончалась.
Старухи-соседки обмыли, одели и в гроб положили. Чтобы не платить лишнего дьячку, Яков сам читал псалтырь, и за могилку с него ничего не взяли, так как кладбищенский сторож был ему кум. Четыре мужика несли до кладбища гроб, но не за деньги, а из уважения. Шли за гробом старухи, нищие, двое юродивых, встречный народ набожно крестился… И Яков был очень доволен, что всё так честно, благопристойно и дешево и ни для кого не обидно. Прощаясь в последний раз с Марфой, он потрогал рукой гроб и подумал: «Хорошая работа!»
Но когда он возвращался с кладбища, его взяла сильная тоска. Ему что-то нездоровилось: дыхание было горячее и тяжкое, ослабели ноги, тянуло к питью. А тут еще полезли в голову всякие мысли. Вспомнилось опять, что за всю свою жизнь он ни разу не пожалел Марфы, не приласкал. Пятьдесят два года, пока они жилив одной избе, тянулись долго-долго, но как-то так вышло, что за всё это время он ни разу не подумал о ней, не обратил внимания, как будто она была кошка или собака. А ведь она каждый день топила печь, варила и пекла, ходила по воду, рубила дрова, спала с ним на одной кровати, а когда он возвращался пьяный со свадеб, она всякий раз с благоговением вешала его скрипку на стену и укладывала его спать, и всё это молча, с робким, заботливым выражением.
Навстречу Якову, улыбаясь и кланяясь, шел Ротшильд.
— А я вас ищу, дяденька! — сказал он. — Кланялись вам Моисей Ильич и велели вам за́раз приходить к ним.
Якову было не до того. Ему хотелось плакать.
— Отстань! — сказал он и пошел дальше.
— А как же это можно? — встревожился Ротшильд, забегая вперед. — Моисей Ильич будут обижаться! Они велели за́раз!
Якову показалось противно, что жид запыхался, моргает и что у него так много рыжих веснушек. И было гадко глядеть на его зеленый сюртук с темными латками и на всю его хрупкую, деликатную фигуру.
— Что ты лезешь ко мне, чеснок? — крикнул Яков. — Не приставай!
Жид рассердился и тоже крикнул:
— Но ви пожалуста потише, а то ви у меня через забор полетите!
— Прочь с глаз долой! — заревел Яков и бросился на него с кулаками. — Житья нет от пархатых!
Ротшильд помертвел от страха, присел и замахал руками над головой, как бы защищаясь от ударов, потом вскочил и побежал прочь что есть духу. На бегу он подпрыгивал, всплескивал руками, и видно было, как вздрагивала его длинная, тощая спина. Мальчишки обрадовались случаю и бросились за ним с криками: «Жид! Жид!» Собаки тоже погнались за ним с лаем. Кто-то захохотал, потом свистнул, собаки залаяли громче и дружнее… Затем, должно быть, собака укусила Ротшильда, так как послышался отчаянный, болезненный крик.
Яков погулял по выгону, потом пошел по краю города, куда глаза глядят, и мальчишки кричали: «Бронза идет! Бронза идет!» А вот и река. Тут с писком носились кулики, крякали утки. Солнце сильно припекало, и от воды шло такое сверканье, что было больно смотреть. Яков прошелся по тропинке вдоль берега и видел, как из купальни вышла полная краснощекая дама, и подумал про нее: «Ишь ты, выдра!» Недалеко от купальни мальчишки ловили на мясо раков; увидев его, они стали кричать со злобой: «Бронза! Бронза!» А вот широкая старая верба с громадным дуплом, а на ней вороньи гнезда… И вдруг в памяти Якова, как живой, вырос младенчик с белокурыми волосами и верба, про которую говорила Марфа. Да, это и есть та самая верба — зеленая, тихая, грустная… Как она постарела, бедная!
Он сел под нее и стал вспоминать. На том берегу, где теперь заливной луг, в ту пору стоял крупный березовый лес, а вон на той лысой горе, что виднеется на горизонте, тогда синел старый-старый сосновый бор. По реке ходили барки. А теперь всё ровно и гладко, и на том берегу стоит одна только березка, молоденькая и стройная, как барышня, а на реке только утки да гуси, и не похоже, чтобы здесь когда-нибудь ходили барки. Кажется, против прежнего и гусей стало меньше. Яков закрыл глаза, и в воображении его одно навстречу другому понеслись громадные стада белых гусей.
Он недоумевал, как это вышло так, что за последние сорок или пятьдесят лет своей жизни он ни разу не был на реке, а если, может, и был, то не обратил на нее внимания? Ведь река порядочная, не пустячная; на ней можно было бы завести рыбные ловли, а рыбу продавать купцам, чиновникам и буфетчику на станции и потом класть деньги в банк; можно было бы плавать в лодке от усадьбы к усадьбе и играть на скрипке, и народ всякого звания платил бы деньги; можно было бы попробовать опять гонять барки — это лучше, чем гробы делать; наконец, можно было бы разводить гусей, бить их и зимой отправлять в Москву; небось одного пуху в год набралось бы рублей на десять. Но он прозевал, ничего этого не сделал. Какие убытки! Ах, какие убытки! А если бы всё вместе — и рыбу ловить, и на скрипке играть, и барки гонять, и гусей бить, то какой получился бы капитал! Но ничего этого не было даже во сне, жизнь прошла без пользы, без всякого удовольствия, пропала зря, ни за понюшку табаку; впереди уже ничего не осталось, а посмотришь назад — там ничего, кроме убытков, и таких страшных, что даже озноб берет. И почему человек не может жить так, чтобы не было этих потерь и убытков? Спрашивается, зачем срубили березняк и сосновый бор? Зачем даром гуляет выгон? Зачем люди делают всегда именно не то, что нужно? Зачем Яков всю свою жизнь бранился, рычал, бросался с кулаками, обижал свою жену и, спрашивается, для какой надобности давеча напугал и оскорбил жида? Зачем вообще люди мешают жить друг другу? Ведь от этого какие убытки! Какие страшные убытки! Если бы не было ненависти и злобы, люди имели бы друг от друга громадную пользу.
Вечером и ночью мерещились ему младенчик, верба, рыба, битые гуси, и Марфа, похожая в профиль на птицу, которой хочется пить, и бледное, жалкое лицо Ротшильда, и какие-то морды надвигались со всех сторон и бормотали про убытки. Он ворочался с боку на бок и раз пять вставал с постели, чтобы поиграть на скрипке.
Утром через силу поднялся и пошел в больницу. Тот же Максим Николаич приказал ему прикладывать к голове холодный компресс, дал порошки, и по выражению его лица и по тону Яков понял, что дело плохо и что уж никакими порошками не поможешь. Идя потом домой, он соображал, что от смерти будет одна только польза: не надо ни есть, ни пить, ни платить податей, ни обижать людей, а так как человек лежит в могилке не один год, а сотни, тысячи лет, то, если сосчитать, польза окажется громадная. От жизни человеку — убыток, а от смерти — польза. Это соображение, конечно, справедливо, но все-таки обидно и горько: зачем на свете такой странный порядок, что жизнь, которая дается человеку только один раз, проходит без пользы?
Не жалко было умирать, но как только дома он увидел скрипку, у него сжалось сердце и стало жалко. Скрипку нельзя взять с собой в могилу, и теперь она останется сиротой и с нею случится то же, что с березняком и с сосновым бором. Всё на этом свете пропадало и будет пропадать! Яков вышел из избы и сел у порога, прижимая к груди скрипку. Думая о пропащей, убыточной жизни, он заиграл, сам не зная что, но вышло жалобно и трогательно, и слезы потекли у него по щекам. И чем крепче он думал, тем печальнее пела скрипка.
Скрипнула щеколда раз-другой, и в калитке показался Ротшильд. Половину двора прошел он смело, но, увидев Якова, вдруг остановился, весь съежился и, должно быть, от страха стал делать руками такие знаки, как будто хотел показать на пальцах, который теперь час.
— Подойди, ничего, — сказал ласково Яков и поманил его к себе. — Подойди!
Глядя недоверчиво и со страхом, Ротшильд стал подходить и остановился от него на сажень.
— А вы, сделайте милость, не бейте меня! — сказал он, приседая. — Меня Моисей Ильич опять послали. Не бойся, говорят, поди опять до Якова и скажи, говорят, что без их никак невозможно. В среду швадьба… Да-а! Господин Шаповалов выдают дочку жа хорошего целовека… И швадьба будет богатая, у-у! — добавил жид и прищурил один глаз.
— Не могу… — проговорил Яков, тяжело дыша. — Захворал, брат.
И опять заиграл, и слезы брызнули из глаз на скрипку. Ротшильд внимательно слушал, ставши к нему боком и скрестив на груди руки. Испуганное, недоумевающее выражение на его лице мало-помалу сменилось скорбным и страдальческим, он закатил глаза, как бы испытывая мучительный восторг, и проговорил: «Ваххх!..» И слезы медленно потекли у него по щекам и закапали на зеленый сюртук.
И потом весь день Яков лежал и тосковал. Когда вечером батюшка, исповедуя, спросил его, не помнит ли он за собою какого-нибудь особенного греха, то он, напрягая слабеющую память, вспомнил опять несчастное лицо Марфы и отчаянный крик жида, которого укусила собака, и сказал едва слышно:
— Скрипку отдайте Ротшильду.
— Хорошо, — ответил батюшка.
И теперь в городе все спрашивают: откуда у Ротшильда такая хорошая скрипка? Купил он ее или украл, или, быть может, она попала к нему в заклад? Он давно уже оставил флейту и играет теперь только на скрипке. Из-под смычка у него льются такие же жалобные звуки, как в прежнее время из флейты, но когда он старается повторить то, что играл Яков, сидя на пороге, то у него выходит нечто такое унылое и скорбное, что слушатели плачут, и сам он под конец закатывает глаза и говорит: «Ваххх!..» И эта новая песня так понравилась в городе, что Ротшильда приглашают к себе наперерыв купцы и чиновники и заставляют играть ее по десяти раз.
ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ «ИГРА В КРАСАВИЦУ»
(1)В детстве мы играли часто на придворовой площадке в красавицу. (2)Неизвестно, кто придумал эту игру, но она всем пришлась по вкусу.
(3)Мы почему-то любили, когда водила Нинка из седьмой квартиры, и она заранее знала, что ей придется быть красавицей. (4)Нинка, выходя на круг, опускала глаза и разглаживала руками платье, слегка прикасаясь к складкам, воротничку.
(5)Теперь мы вспоминаем, что Нинка из седьмой квартиры была на редкость некрасивой: у нее был широкий приплюснутый нос и большие грубые губы, вокруг которых хлебными крошками разбегались веснушки. (6)Лоб — тоже в хлебных крошках, бесцветные глаза, прямые жидкие волосы. (7)Но мы этого не замечали: мы пребывали в том справедливом неведении, когда красивым считался хороший человек, а некрасивым — дрянной.
(8)Нинка из седьмой квартиры была славной, стоящей девчонкой — мы, не задумываясь, выбирали красавицей её.
(9)Когда она выходила на середину круга, мы по правилам игры начинали «любоваться»: каждый из нас пускал в ход слова, вычитанные в книгах.
— (10)У нее лебединая шея, — говорил один.
— (11)У нее коралловые губы… – подхватывал другой.
— (12)У нее соболиные брови …
— (13)У нее глаза как море…
(14)Нинка расцветала, её бледное лицо покрывалось теплым румянцем. (15)Наши слова были как зеркало, в котором Нинка видела себя красавицей.
— (16)У нее атласная кожа.
— (17)У нее золотые кудри.
— (18)У нее жемчужные зубы…
(19)Нам самим начинало казаться, что у нее все лебяжье, коралловое, жемчужное и прекраснее нашей Нинки нет.
(20)Когда запас нашего красноречия иссякал, Нинка принималась что-нибудь рассказывать.
— (21)Вчера я купалась в теплом море, — говорила Нинка, съёживаясь от холодного осеннего ветра. — (22)Поздно вечером в темноте море светилось, и я светилась. (23)Я была русалкой, качавшейся на волнах…
(24)Как-то в наш дом переехали новые жильцы, и во дворе появился новенький.
(25)Мы его подозвали и предложили сыграть с нами в красавицу. (26)Он не знал, как это играть в красавицу, и согласился; мы переглянулись и выбрали красавицей… его. (27)Едва заговорили про лебяжью шею и коралловые губы, как он густо покраснел и выбежал из круга.
(28)А Нинка приблизилась к новенькому и сказала, что когда играют в красавицу, всегда выбирают её.
— (29)Разве ты красивая? — удивился новенький.
(30)Мы не стали с ним спорить – мы посмеялись над ним, а у Нинки вытянулось лицо, веснушки-хлебные крошки у рта и на лбу стали еще заметнее. — (31)Очень глупо, что тебя выбирают, — сказал новенький.
(32)С его появлением с Нинкой стало твориться что-то странное. (33)Она, например, ходила за ним по улице, он заходил в булочную — она стояла напротив, не отрывая глаз от стеклянных дверей, а утром поджидала его у подъезда и шла за ним до школы.
(34)То, что Нинка из седьмой квартиры ходит за ним, как тень, новенький не сразу сообразил, но, когда обнаружил это, он очень рассердился.
— (35)Не смей ходить за мной! — крикнул он Нинке.
(36)Она ничего не ответила, побледнела и пошла прочь, а он безжалостно крикнул ей вслед:
— (37)Ты бы лучше посмотрела на себя в зеркало!..
(38)Нас не интересовало, как выглядят наши носы, рты, подбородки, куда торчат волосы, где вскочил прыщ. (39)И Нинка знала только то зеркало, которым были для нее мы, когда играли в красавицу, и она всерьёз верила нам. (40)Этот тип разбил наше зеркало. (41)И вместо живого, веселого, доброго появилось холодное, гладкое, злое. (42)Нинка в первый раз в жизни словно пристально взглянула в него и вскрикнула: «Я некрасивая!» — зеркало убило красавицу. (43)Каждый раз, когда она подходила к зеркалу, что-то умирало в ней: пропали лебяжья шея, коралловые губы, глаза синие, как море.
(44)Но мы тогда не понимали этого, мы просто не узнавали свою подружку: она стала чужой и непонятной, не стремилась к нам, молча проходила мимо…
(45)В тот вечер был сильный дождь, дул сверлящий ветер, и говорили, что на окраинах города начиналось наводнение. (46)Но мы крепились, жались в подъезде, не хотели расходиться по домам. (47)А Нинка из седьмой квартиры стояла под окном новенького и не чувствовала холодных струй. (48)Мы звали её, но она не шла.
(49)Потом мы увидели, как к Нинке подошла её мать и долго уговаривала Нинку уйти. (50)Наконец ей удалось увести девчонку из-под дождя в подъезд. (51)Там горела тусклая лампочка. (52)Нинкина мать повернула лицо к свету, и мы услышали, как она сказала:
— (53)Посмотри на меня, дочка, и скажи: я, по-твоему, красивая?
(54)Нинка удивленно посмотрела на мать и, конечно, ничего не увидела. (55)Разве мать может быть красивой или некрасивой?
— (56)Я некрасивая, — с жёсткостью сказала Нинкина мать. — (57)И ничего страшного, потому что счастье приходит не только к красивым.
(58)Нинка прижалась к матери, заплакала; они вышли на дождь и пошли по улице. (59)Мы, не сговариваясь, двинулись за ними: нам казалось, что мы можем понадобиться Нинке.
(60)Вдруг Нинка остановилась, сильно сжала мамину руку выше локтя и взглянула ей в лицо. (61)Она смотрела на мать так, как будто произошла ошибка и рядом с ней оказалась чужая, незнакомая женщина, словно она увидела мать в холодном, безжалостном зеркале.
(62)Нинка как бы почувствовала наше присутствие и неожиданно совершенно другим, спокойным голосом сказала:
— (63)Мама, давай с тобой сыграем в красавицу.
— (64)Глупости!
— (65)Нет, нет, давай сыграем, я тебя научу, ты стой и слушай, что я буду говорить.
(66)Она сильней сжала мамину руку, приблизилась к ней, тихо, одними губами стала произносить знакомые слова из нашей игры, которые мы до приезда новенького дарили ей:
— (67)Мама, у тебя лебяжья шея и большие глаза, синие, как море… (68)У тебя длинные золотистые волосы и коралловые губы…
(69)Сквозь гудящий ветер, сквозь пронизывающий холод поздней осенней мглы живой, теплой струйкой текли слова, заглушающие горе:
— (70)У тебя атласная кожа… соболиные брови… жемчужные зубы…
(71)И они зашагали дальше, крепко прижавшись, иногда приостанавливаясь, чтобы улыбнуться друг другу. (72)И уже ни о чем не говорили, и были спокойны. (73)Им помогла игра, придуманная нами.
(По Ю. Яковлеву*)
Василий Шукшин
Чудик (в сокращении)
Жена называла его – «Чудик». Иногда ласково.
Чудик обладал одной особенностью: с ним постоянно что-нибудь случалось. Он не хотел этого, страдал, но то и дело влипал в какие-нибудь истории – мелкие, впрочем, но досадные.
Получил отпуск, решил съездить к брату на Урал: лет двенадцать не виделись. …Долго собирались – до полуночи. А рано утром Чудик шагал с чемоданом по селу.
– На Урал! На Урал! – отвечал он на вопрос: куда это он собрался? При этом круглое мясистое лицо его, круглые глаза выражали в высшей степени плевое отношение к дальним дорогам – они его не пугали. – На Урал! Надо прошвырнуться.
Но до Урала было еще далеко. Пока что он благополучно доехал до районного города, где предстояло взять билет и сесть в поезд. Времени оставалось много. Чудик решил пока накупить подарков племяшам – конфет, пряников… Зашел в продовольственный магазин, пристроился в очередь. Он купил конфет, пряников, три плитки шоколада. И отошел в сторонку, чтобы уложить все в чемодан. Раскрыл чемодан на полу, стал укладывать… Глянул на пол, а у прилавка, где очередь, лежит в ногах у людей пятидесятирублевая бумажка. Этакая зеленая дурочка, лежит себе, никто ее не видит. Чудик даже задрожал от радости, глаза загорелись. Второпях, чтобы его не опередил кто-нибудь, стал быстро соображать, как бы повеселее, поостроумнее сказать этим, в очереди, про бумажку.
– Хорошо живете, граждане! – сказал он громко и весело.
На него оглянулись.
– У нас, например, такими бумажками не швыряются.
Тут все немного поволновались. Это ведь не тройка, не пятерка – пятьдесят рублей, полмесяца работать надо. А хозяина бумажки – нет. Решили положить бумажку на видное место на прилавке.
– Сейчас прибежит кто-нибудь, – сказала продавщица.
Чудик вышел из магазина в приятнейшем расположении духа. Все думал, как это у него легко, весело получилось: «У нас, например, такими бумажками не швыряются!» Вдруг его точно жаром всего обдало: он вспомнил, что точно такую бумажку и еще двадцатипятирублевую он сейчас разменял, пятидесятирублевая должна быть в кармане… Сунулся в карман – нету. Туда-сюда – нету.
– Моя была бумажка-то! – громко сказал Чудик. – Мать твою так-то!.. Моя бумажка-то.
Под сердцем даже как-то зазвенело от горя. Первый порыв был пойти и сказать: «Граждане, моя бумажка-то. Я их две получил в сберкассе: одну двадцатипятирублевую, другую полусотельную. Одну сейчас разменял, а другой – нету». Но только он представил, как он огорошит всех этим своим заявлением, как подумают многие: «Конечно, раз хозяина не нашлось, он и решил прикарманить». Нет, не пересилить себя – не протянуть руку за этой проклятой бумажкой. Могут еще и не отдать…
– Да почему же я такой есть-то? – вслух горько рассуждал Чудик. – Что теперь делать?..
Надо было возвращаться домой. Подошел к магазину, хотел хоть издали посмотреть на бумажку, постоял у входа… и не вошел. Совсем больно станет. Сердце может не выдержать. Ехал в автобусе и негромко ругался – набирался духу: предстояло объяснение с женой. Сняли с книжки еще пятьдесят рублей.
Чудик, убитый своим ничтожеством, которое ему опять разъяснила жена (она даже пару раз стукнула его шумовкой по голове), ехал в поезде. Но постепенно горечь проходила. Мелькали за окном леса, перелески, деревеньки…
После поезда Чудику надо было еще лететь местным самолетом полтора часа. В аэропорту Чудик написал телеграмму жене:«Приземлились. Ветка сирени упала на грудь, милая Груша меня не забудь. Тчк. Васятка».
Телеграфистка, строгая красивая женщина, прочитав телеграмму, предложила:
– Составьте иначе. Вы – взрослый человек, не в детсаде.
– Почему? – спросил Чудик. – Я ей всегда так пишу в письмах. Это же моя жена!.. Вы, наверно, подумали…
– В письмах можете писать что угодно, а телеграмма – это вид связи. Это открытый текст.
Чудик переписал: «Приземлились. Все в порядке. Васятка».
Телеграфистка сама исправила два слова: «Приземлились» и «Васятка». Стало: «Долетели. Василий».
– «Приземлились»… Вы что, космонавт, что ли?
…Знал Чудик: есть у него брат Дмитрий, трое племянников… О том, что должна еще быть сноха, как-то не думалось. Он никогда не видел ее. А именно она-то, сноха, все испортила, весь отпуск. Она почему-то сразу невзлюбила Чудика. Выпили вечером с братом, и Чудик запел дрожащим голосом:
— Тополя-а-а, тополя-а-а…
Софья Ивановна, сноха, выглянула из другой комнаты, спросила зло:
– А можно не орать? Вы же не на вокзале, верно? – И хлопнула дверью.
Брату Дмитрию стало неловко.
– Это… там ребятишки спят. Вообще-то она хорошая.
Еще выпили. Стали вспоминать молодость, мать, отца…
– А помнишь?.. – радостно спрашивал брат Дмитрий.
– А помнишь, – тоже вспоминал Чудик, – как ты меня…
– Вы прекратите орать? – опять спросила Софья Ивановна совсем зло, нервно. – Кому нужно слушать эти ваши разные сопли да поцелуи? Туда же – разговорились.
– Пойдем на улицу, – сказал Чудик.
Вышли на улицу, сели на крылечко.
– А помнишь?.. – продолжал Чудик.
Но тут с братом Дмитрием что-то случилось: он заплакал и стал колотить кулаком по колену.
– Вот она, моя жизнь! Видел? Сколько злости в человеке!.. Сколько злости!
Чудик стал успокаивать брата:
– Брось, не расстраивайся. Не надо. Никакие они не злые, они – психи. У меня такая же.
– Ну чего вот невзлюбила?! За што? Ведь невзлюбила она тебя… А за што?
Тут только понял Чудик, что да, невзлюбила его сноха. А за что действительно?
– А вот за то, што ты – никакой не ответственный, не руководитель. Знаю я ее, дуру. Помешалась на своих ответственных. А сама-то кто! Буфетчица в управлении, шишка на ровном месте. Насмотрится там и начинает… Она и меня-то тоже ненавидит, что я не ответственный, из деревни.
Когда утром Чудик проснулся, никого в квартире не было: брат Дмитрии ушел на работу, сноха тоже, дети постарше играли во дворе, маленького отнесли в ясли.
Чудик прибрал постель, умылся и стал думать, что бы такое приятное сделать снохе. Тут на глаза попалась детская коляска. «Эге, – подумал Чудик, – разрисую-ка я ее». Он дома так разрисовал печь, что все дивились. Нашел ребячьи краски, кисточку и принялся за дело. Через час все было кончено, коляску не узнать. По верху колясочки Чудик пустил журавликов – стайку уголком, по низу – цветочки разные, травку-муравку, пару петушков, цыпляток… Осмотрел коляску со всех сторон – загляденье. Не колясочка, а игрушка. Представил, как будет приятно изумлена сноха, усмехнулся.
Чудик прибрал постель, умылся и стал думать, что бы такое приятное сделать снохе. Тут на глаза попалась детская коляска. «Эге, – подумал Чудик, – разрисую-ка я ее». Он дома так разрисовал печь, что все дивились. Нашел ребячьи краски, кисточку и принялся за дело. Через час все было кончено, коляску не узнать. По верху колясочки Чудик пустил журавликов – стайку уголком, по низу – цветочки разные, травку-муравку, пару петушков, цыпляток… Осмотрел коляску со всех сторон – загляденье. Не колясочка, а игрушка. Представил, как будет приятно изумлена сноха, усмехнулся.
– А ты говоришь – деревня. Чудачка. – Он хотел мира со снохой. – Ребенок-то как в корзиночке будет.
Часов в шесть Чудик пришел к брату. Взошел на крыльцо и услышал, что брат Дмитрий ругается с женой. Впрочем, ругалась жена, а брат Дмитрий только повторял:
– Чтоб завтра же этого дурака не было здесь! – кричала Софья Ивановна. – Завтра же пусть уезжает.
Чудик поспешил сойти с крыльца… А дальше не знал, что делать. Опять ему стало больно. Когда его ненавидели, ему было очень больно. И страшно. Казалось: ну, теперь все, зачем же жить? И хотелось уйти подальше от людей, которые ненавидят его или смеются.
– Да почему же я такой есть-то? – горько шептал он, сидя в сарайчике. – Надо бы догадаться: не поймет ведь она, не поймет народного творчества.
Он досидел в сарайчике дотемна. И сердце все болело. Потом пришел брат Дмитрий. Не удивился – как будто знал, что брат Василий давно уж сидит в сарайчике.
– Вот… – сказал он. – Это… опять расшумелась. Коляску-то… не надо бы уж.
– Я думал, ей поглянется. Поеду я, братка.
Брат Дмитрий вздохнул… И ничего не сказал.
Домой Чудик приехал, когда шел рясный парной дождик. Чудик вышел из автобуса, снял новые ботинки, побежал по теплой мокрой земле – в одной руке чемодан, в другой ботинки. Подпрыгивал и громко пел:
— Тополя-а, тополя-а…
С одного края небо уже очистилось, голубело, и близко где-то было солнышко. И дождик редел, шлепал крупными каплями в лужи; в них вздувались и лопались пузыри.
В одном месте Чудик поскользнулся, чуть не упал.
…Звали его – Василий Егорыч Князев. Было ему тридцать девять лет от роду. Он работал киномехаником в селе. Обожал сыщиков и собак. В детстве мечтал быть шпионом.
А.И. КУПРИН «ЧУДЕСНЫЙ ДОКТОР»
(1)Поравнявшись со скамейкой, незнакомец вдруг круто повернул в сторону Мерцалова и, слегка дотрагиваясь до шапки, спросил:
(2) – Вы позволите здесь присесть?
(3) – Ночка – то какая славная, — заговорил вдруг незнакомец.
(4) – Морозно… тихо. (5)Что за прелесть – русская зима!
(6) Голос у него был мягкий, ласковый старческий.
(7)- А я вот ребятишкам знакомым подарочки купил, — продолжал незнакомец. (8) Мерцалов вообще был кротким и застенчивым человеком, но при последних словах незнакомца его охватил вдруг прилив отчаянной злобы. (9) Он резким движением повернулся в сторону старика и закричал, нелепо размахивая руками и задыхаясь:
(10) – Подарочки!.. (11) Подарочки!.. (12) Знакомым ребятишкам подарочки!.. (13) А я… а у меня, милостивый государь, в настоящую минуту мои ребятишки с голоду дома подыхают… (14) А у жены молоко пропало, и грудной ребёнок целый день не ел… (15) Подарочки!..
(16) Мерцалов ожидал, что после этих беспорядочных, озлобленных криков старик поднимется и уйдёт, но он ошибся. (17) Старик приблизил к нему своё умное, серьёзное лицо с седыми баками и сказал дружелюбно, но серьёзным тоном:
(18) – Подождите… не волнуйтесь! (19) Расскажите мне всё по порядку и как можно короче. (20) Может быть, вместе мы придумаем что-нибудь для вас. (21) В необыкновенном лице незнакомца было что-то до того спокойное и внушающее доверие, что Мерцалов тотчас же без малейшей утайки, но страшно волнуясь и спеша, передал свою историю. (22) Он рассказал о своей болезни, о потере места, о смерти ребёнка, обо всех своих несчастиях, вплоть до нынешнего дня.
(23) – Едемте! – сказал незнакомец, увлекая за руку Мерцалова. (24) Счастье ваше, что вы встретились с врачом. (25) Я, конечно, ни за что не могу ручаться, но … поедемте!
(26) Минут через десять Мерцалов и доктор уже входили в подвал. (27) Елизавета Ивановна лежала на постели рядом со своей больной дочерью, зарывшись лицом в грязные, замаслившиеся подушки. (28) Мальчишки хлебали борщ, сидя на тех же местах. (29) Испуганные долгим отсутствием отца и неподвижностью матери, они плакали, размазывая слёзы по лицу грязными кулаками и обильно проливая их в закопчённый чугунок.
(30) Через две минуты Гришка уже растапливал печку дровами, за которыми чудесный доктор послал к соседям, Володя раздувал изо всех сил самовар, Елизавета Ивановна обворачивала Машутку согревающим компрессом.. (31) Немного погодя явился и Мерцалов. (32) На три рубля, полученные от доктора, он успел купить за это время чаю, сахару, булок и достать в ближайшем трактире горячей пищи.
(33) Доктор сидел за столом и что- то писал на клочке бумажки, который он вырвал из записной книжки. (34) Окончив это занятие и изобразив внизу какой- то своеобразный крючок вместо подписи, он встал, прикрыл написанное чайным блюдечком и сказал:
(35) – Вот с этой бумажкой вы пойдёте в аптеку… давайте через два часа по чайной ложке.
(36) Это вызовет у малютки отхаркивание… (37) Продолжайте согревающий компресс.. (38) Кроме того, хотя бы вашей дочери и сделалось лучше, пригласите завтра доктора Афросимова. (39) Это дельный врач и хороший человек. (40) Я его сейчас же предупрежу. (41)Затем прощайте, господа! (42) Дай Бог, чтобы наступающий год немного снисходительнее отнёсся к вам, чем этот, а главное – не падайте никогда духом.
(43) Пожав руки Мерцалову и Елизавете Ивановне, всё ещё не оправившимся от изумления, и потрепав мимоходом по щеке разинувшего рот Володю, доктор быстро всунул свои ноги в глубокие калоши и надел пальто. (44) Мерцалов опомнился только тогда, когда доктор уже был в коридоре, и кинулся вслед за ним.
(45) Так как в темноте нельзя было ничего разобрать, то Мерцалов закричал наугад:
(46) – Доктор! (47) Доктор, постойте!.. (48) Скажите мне ваше имя, доктор! (49) Пусть хоть мои дети будут за вас молиться!
(50) И он водил в воздухе руками, чтобы поймать невидимого доктора. (51) Но в это время в другом конце коридора спокойный старческий голос произнёс:
(52) – Вот ещё пустяки выдумали!.. (53) Возвращайтесь- ка домой скорей!
(54) Когда он возвратился, его ожидал сюрприз: под чайным блюдцем вместе с рецептом чудесного доктора лежало несколько крупных кредитных билетов…
(55) В тот же вечер Мерцалов узнал фамилию своего нежданного благодетеля. (56) На аптечном ярлыке, прикреплённом к пузырьку с лекарством, чёткою рукою аптекаря было написано: «По рецепту профессора Пирогова».
(57) Я слышал этот рассказ, и неоднократно, из уст самого Григория Емельяновича Мерцалова – того самого Гришки, который в описанный мною сочельник проливал слёзы в закоптелый чугунок с пустым борщом. (58) Теперь он занимает довольно крупный, ответственный пост в одном из банков и слывёт образцом честности и отзывчивости на нужды бедности. (59) И каждый раз, заканчивая своё повествование о чудесном докторе, он прибавляет голосом, дрожащим от скрываемых слёз:
(60) – С этих пор точно благодетельный ангел снизошёл в нашу семью. (61) Всё переменилось. (62) В начале января отец отыскал место, Машутка встала на ноги, меня с братом удалось пристроить в гимназию на казённый счёт. (63) Просто чудо совершил этот святой человек.
(По А. Куприну)
Александр Иванович Куприн (1870- 1938)- русский писатель.
Всё лето в один день (Рэй Брэдбери)
— А учёные верно знают? Это правда будет сегодня?
Теснясь, точно цветы и сорные травы в саду, все вперемешку, дети старались выглянуть наружу — где там запрятано солнце? Лил дождь. Он лил не переставая семь лет подряд; тысячи и тысячи дней, с утра до ночи, без передышки дождь лил, шумел, барабанил, звенел хрустальными брызгами, низвергался сплошными потоками, так что кругом ходили волны, заливая островки суши. Ливнями повалило тысячи лесов, и тысячи раз они вырастали вновь и снова падали под тяжестью вод. Так навеки повелось здесь, на Венере, а в классе было полно детей, чьи отцы и матери прилетели застраивать и обживать эту дикую дождливую планету.
— Перестаёт! Перестаёт!
— Да, да!
Марго стояла в стороне от них, от всех этих ребят, которые только и знали, что вечный дождь, дождь, дождь. Им всем было по девять лет, и если выдался семь лет назад такой день, когда солнце всё-таки выглянуло, показалось на час изумлённому миру, они этого не помнили. Иногда по ночам Марго слышала, как они ворочаются, вспоминая, и знала: во сне они видят и вспоминают золото, яркий жёлтый карандаш, монету — такую большую, что можно купить целый мир. Она знала, им чудится, будто они помнят тепло, когда вспыхивает лицо и всё тело — руки, ноги, дрожащие пальцы. А потом они просыпаются — и опять барабанит дождь, без конца сыплются звонкие прозрачные бусы на крышу, на дорожку, на сад и лес, и сны разлетаются как дым.
Накануне они весь день читали в классе про солнце. Какое оно жёлтое, совсем как лимон, и какое жаркое. И писали про него маленькие рассказы и стихи.
Мне кажется, солнце — это цветок,
Цветёт оно только один часок.
Такие стихи сочинила Марго и негромко прочитала их перед притихшим классом. А за окнами лил дождь.
— Ну, ты это не сама сочинила! — крикнул один мальчик.
— Нет, сама, — сказала Марго. — Сама.
— Уильям! — остановила мальчика учительница.
Но то было вчера. А сейчас дождь утихал, и дети теснились к большим окнам с толстыми стёклами.
— Где же учительница?
— Сейчас придёт.
— Скорей бы, а то мы всё пропустим!
Они вертелись на одном месте, точно пёстрая беспокойная карусель. Марго одна стояла поодаль. Она была слабенькая, и казалось, когда-то давно она заблудилась и долго-долго бродила под дождём, и дождь смыл с неё все краски: голубые глаза, розовые губы, рыжие волосы — всё вылиняло.
— Ты-то чего смотришь? — сказал Уильям.
Марго молчала.
— Отвечай, когда тебя спрашивают!
Уильям толкнул её. Но она не пошевелилась; покачнулась — и только. Все её сторонятся, даже и не смотрят на неё. Вот и сейчас бросили её одну. Потому что она не хочет играть с ними в гулких туннелях того города-подвала. Если кто-нибудь осалит её и кинется бежать, она только с недоумением поглядит вслед, но догонять не станет. И когда они всем классом поют песни о том, как хорошо жить на свете и как весело играть в разные игры, она еле шевелит губами. Только когда поют про солнце, про лето, она тоже тихонько подпевает, глядя в заплаканные окна.
Ну а самое большое её преступление, конечно, в том, что она прилетела сюда с Земли всего лишь пять лет назад, и она помнит солнце, помнит, какое оно, солнце, и какое небо она видела в Огайо, когда ей было четыре года. А они — они всю жизнь живут на Венере; когда здесь в последний раз светило солнце, им было только по два года, и они давно уже забыли, какое оно, и какого цвета, и как жарко греет. А Марго помнит.
— Оно большое, как медяк, — сказала она однажды и зажмурилась.
— Неправда! — закричали ребята.
— Оно — как огонь в очаге, — сказала Марго.
— Врёшь, врёшь, ты не помнишь! — кричали ей.
Но она помнила и, тихо отойдя в сторону, стала смотреть в окно, по которому сбегали струи дождя. А один раз, месяц назад, когда всех повели в душевую, она ни за что не хотела стать под душ и, прикрывая макушку, зажимая уши ладонями, кричала — пускай вода не льется на голову! И после того у неё появилось странное, смутное чувство: она не такая, как все. И другие дети тоже это чувствовали и сторонились её.
Говорили, что на будущий год отец с матерью отвезут её назад на Землю — это обойдётся им во много тысяч долларов, но иначе она, видимо, зачахнет. И вот за все эти грехи, большие и малые, в классе её невзлюбили. Противная эта Марго, противно, что она такая бледная немочь, и такая худющая, и вечно молчит и ждёт чего-то, и, наверно, улетит на Землю…
— Убирайся! — Уильям опять её толкнул. — Чего ты ещё ждешь?
Тут она впервые обернулась и посмотрела на него. И по глазам было видно, чего она ждёт. Мальчишка взбеленился.
— Эй, ребята, давайте запрём её в чулан, пока учительницы нет!
— Не надо, — сказала Марго и попятилась.
Все кинулись к ней, схватили и поволокли, — она отбивалась, потом просила, потом заплакала, но её притащили по туннелю в дальнюю комнату, втолкнули в чулан и заперли дверь на засов. Дверь тряслась: Марго колотила в неё кулаками и кидалась на неё всем телом. Приглушённо доносились крики. Ребята постояли, послушали, а потом улыбнулись и пошли прочь — и как раз вовремя: в конце туннеля показалась учительница.
— Готовы, дети? — она поглядела на часы. — Все здесь?
— Да!
Они столпились у огромной массивной двери. Дождь перестал. Всё замерло — не вздохнёт, не шелохнётся. Такая настала огромная, неправдоподобная тишина, будто вам заткнули уши или вы совсем оглохли. Дети недоверчиво подносили руки к ушам. Толпа распалась, каждый стоял сам по себе. Дверь отошла в сторону, и на них пахнуло свежестью мира, замершего в ожидании.
И солнце явилось. Оно пламенело, яркое, как бронза, и оно было очень большое. А небо вокруг сверкало, точно ярко-голубая черепица. И джунгли так и пылали в солнечных лучах, и дети, очнувшись, с криком выбежали в весну.
— Только не убегайте далеко! — крикнула вдогонку учительница. — Помните, у вас всего два часа. Не то вы не успеете укрыться!
Но они уже не слышали, они бегали и запрокидывали голову, и солнце гладило их по щекам, точно тёплым утюгом; они скинули куртки, и солнце жгло их голые руки.
Они уже не бегали, а стояли посреди джунглей, что сплошь покрывали Венеру и росли, росли бурно, непрестанно, прямо на глазах. Ребята носились меж деревьев, скользили и падали, толкались, играли в прятки и в салки, но главное — опять и опять, жмурясь, глядели на солнце, пока не потекут слёзы, и тянули руки к золотому сиянию и к невиданной синеве, и вдыхали эту удивительную свежесть, и слушали, слушали тишину, что обнимала их словно море, блаженно спокойное, беззвучное и недвижное. Они на всё смотрели и всем наслаждались. А потом, будто зверьки, вырвавшиеся из глубоких нор, снова неистово бегали кругом, бегали и кричали. Целый час бегали и никак не могли угомониться. И вдруг… Посреди весёлой беготни одна девочка громко, жалобно закричала. Все остановились. Девочка протянула руку ладонью кверху.
— Смотрите, — сказала она и вздрогнула: — Ой, смотрите!
Все медленно подошли поближе. На раскрытой ладони, по самой серёдке, лежала большая круглая дождевая капля. Девочка посмотрела на неё и заплакала. Дети молча посмотрели на небо.
Редкие холодные капли упали на нос, на щёки, на губы. Солнце затянула туманная дымка. Подул холодный ветер. Ребята повернулись и пошли к своему дому-подвалу, руки их вяло повисли, они больше не улыбались. Загремел гром, и дети в испуге, толкая друг дружку, бросились бежать, словно листья, гонимые ураганом. Минуту они постояли на пороге глубинного убежища, а потом дождь полил вовсю. Тогда дверь закрыли, и все стояли и слушали, как с оглушительным шумом рушатся с неба тонны, потоки воды — без просвета, без конца.
— И так опять будет целых семь лет?
— Да. Семь лет.
И вдруг кто-то вскрикнул:
— А Марго?
— Что?
— Мы ведь её заперли, она так и сидит в чулане.
— Марго…
Они застыли, будто ноги у них примёрзли к полу. Переглянулись и отвели взгляды. Посмотрели за окно — там лил дождь, лил упрямо, неустанно. Они не смели посмотреть друг другу в глаза. Лица у всех стали серьёзные, бледные. Все потупились, кто разглядывал свои руки, кто уставился в пол.
Наконец одна девочка сказала:
— Ну что же мы?..
Никто не шелохнулся.
— Пойдём… — прошептала девочка.
Под холодный шум дождя они медленно прошли по коридору. Под рёв бури и раскаты грома перешагнули порог и вошли в ту дальнюю комнату, яростные синие молнии озаряли их лица. Медленно подошли они к чулану и стали у двери.
За дверью было тихо. Медленно, медленно они отодвинули засов и выпустили Марго.
Ханс Кристиан Андерсен «Девочка со спичками»
Как холодно было в этот вечер! Шел снег, и сумерки сгущались. А вечер был последний в году — канун Нового года. В эту холодную и темную пору по улицам брела маленькая нищая девочка с непокрытой головой и босая. Правда, из дому она вышла обутая, но много ли было проку в огромных старых туфлях? Туфли эти прежде носила ее мать — вот какие они были большие,- и девочка потеряла их сегодня, когда бросилась бежать через дорогу, испугавшись двух карет, которые мчались во весь опор. Одной туфли она так и не нашла, другую утащил какой-то мальчишка, заявив, что из нее выйдет отличная люлька для его будущих ребят.
Вот девочка и брела теперь босиком, и ножки ее покраснели и посинели от холода. В кармане ее старенького передника лежало несколько пачек серных спичек, и одну пачку она держала в руке. За весь этот день она не продала ни одной спички, и ей не подали ни гроша. Она брела голодная и продрогшая и так измучилась, бедняжка!
Снежинки садились на ее длинные белокурые локоны, красиво рассыпавшиеся по плечам, но она, право же, и не подозревала о том, что они красивы. Изо всех окон лился свет, на улице вкусно пахло жареным гусем — ведь был канун Нового года. Вот о чем она думала!
Наконец девочка нашла уголок за выступом дома. Тут она села и съежилась, поджав под себя ножки. Но ей стало еще холоднее, а вернуться домой она не смела: ей ведь не удалось продать ни одной спички, она не выручила ни гроша, а она знала, что за это отец прибьет ее; к тому же, думала она, дома тоже холодно; они живут на чердаке, где гуляет ветер, хотя самые большие щели в стенах и заткнуты соломой и тряпками.
Ручонки ее совсем закоченели. Ах, как бы их согрел огонек маленькой спички! Если бы только она посмела вытащить спичку, чиркнуть ею о стену и погреть пальцы! Девочка робко вытянула одну спичку и… чирк! Как спичка вспыхнула, как ярко она загорелась! Девочка прикрыла ее рукой, и спичка стала гореть ровным светлым пламенем, точно крохотная свечечка.
Удивительная свечка! Девочке почудилось, будто она сидит перед большой железной печью с блестящими медными шариками и заслонками. Как славно пылает в ней огонь, каким теплом от него веет! Но что это? Девочка протянула ноги к огню, чтобы погреть их, — и вдруг… пламя погасло, печка исчезла, а в руке у девочки осталась обгорелая спичка.
Она чиркнула еще одной спичкой, спичка загорелась, засветилась, и когда ее отблеск упал на стену, стена стала прозрачной, как кисея. Девочка увидела перед собой комнату, а в ней стол, покрытый белоснежной скатертью и уставленный дорогим фарфором; на столе, распространяя чудесный аромат, стояло блюдо с жареным гусем, начиненным черносливом и яблоками! И всего чудеснее было то, что гусь вдруг спрыгнул со стола и, как был, с вилкой и ножом в спине, вперевалку заковылял по полу. Он шел прямо к бедной девочке, но… спичка погасла, и перед бедняжкой снова встала непроницаемая, холодная, сырая стена.
Девочка зажгла еще одну спичку. Теперь она сидела перед роскошной рождественской елкой. Эта елка была гораздо выше и наряднее той, которую девочка увидела в сочельник, подойдя к дому одного богатого купца и заглянув в окно. Тысячи свечей горели на ее зеленых ветках, а разноцветные картинки, какими украшают витрины магазинов, смотрели на девочку. Малютка протянула к ним руки, но… спичка погасла. Огоньки стали уходить все выше и выше и вскоре превратились в ясные звездочки. Одна из них покатилась по небу, оставив за собой длинный огненный след.
«Кто-то умер», — подумала девочка, потому что ее недавно умершая старая бабушка, которая одна во всем мире любила ее, не раз говорила ей: «Когда падет звездочка, чья-то душа отлетает к богу».
Девочка снова чиркнула о стену спичкой и, когда все вокруг осветилось, увидела в этом сиянии свою старенькую бабушку, такую тихую и просветленную, такую добрую и ласковую.
— Бабушка, — воскликнула девочка, — возьми, возьми меня к себе! Я знаю, что ты уйдешь, когда погаснет спичка, исчезнешь, как теплая печка, как вкусный жареный гусь и чудесная большая елка!
И она торопливо чиркнула всеми спичками, оставшимися в пачке, — вот как ей хотелось удержать бабушку! И спички вспыхнули так ослепительно, что стало светлее, чем днем. Бабушка при жизни никогда не была такой красивой, такой величавой. Она взяла девочку на руки, и, озаренные светом и радостью, обе они вознеслись высоко-высоко — туда, где нет ни голода, ни холода, ни страха, — они вознеслись к богу.
Морозным утром за выступом дома нашли девочку: на щечках ее играл румянец, на губах — улыбка, но она была мертва; она замерзла в последний вечер старого года. Новогоднее солнце осветило мертвое тельце девочки со спичками; она сожгла почти целую пачку.
— Девочка хотела погреться, — говорили люди. И никто не знал, какие чудеса она видела, среди какой красоты они вместе с бабушкой встретили Новогоднее Счастье.
А.И. Куприн СКАЗКА
Глубокая зимняя ночь. Метель. В доме — ни огня. Ветер воет в трубах, сотрясает крышу, ломится в окна. Ближний лес гудит, шатаясь под вьюгой.
Никто не спит. Дети проснулись, но лежат молча, широко раскрывши глаза в темноту. Прислушиваются, вздыхают…
Откуда-то издалека, из тьмы и бури, доносится длинный жалобный крик. Прозвучал и замолк… И еще раз… И еще…
— Точно зовет кто-то, — тревожно шепчет мужчина. Никто ему не отвечает.
— Вот опять… Слышишь?.. Как будто человек…
— Спи, — сурово говорит женщина. — Это ветер.
— Страшно ночью в лесу…
— Это только ветер. Ты разбудишь ребенка…
Но дитя вдруг подымает голову.
— Я слышу, я слышу. Он кричит: «Спасите!»
И правда: яростный ураган стихает на одно мгновенье, и тогда совсем ясно, близко, точно под окном, раздается протяжный, отчаянный вопль:
— Спа-си-те!
— Мама! Может быть, на него напали разбойники?.. Может быть…
— Не болтай глупостей, — сердито прерывает мать. — Это голодный волк воет в лесу. Вот он тебя съест, если не будешь спать.
— Спасите!
— Жалко живую душу, — говорит муж. — Если бы не испортилось мое ружье, я пошел бы…
— Лежи, дурак… Не наше дело…
В темноте шлепают туфли… Старческий кашель… Пришел из соседней комнаты дедушка. Он брюзжит злобно:
— Что вы тут бормочете? Спать не даете никому. Какой такой человек в лесу? Кто в эту погоду по лесам ходит? Все дома сидят. И вы сидите тихо и благодарите Бога, что заборы у нас высокие, запоры на воротах крепкие и во дворе злые собаки… А ты взяла бы лучше к себе дитя да сказкой бы его заняла.
Это голос черствого благоразумия.
Мать переносит в свою постель ребенка, и в тишине звучат слова монотонной, старой успокоительной сказки:
— Много лет тому назад стоял среди моря остров, и на этом острове жили большие, сильные и гордые люди. Все у них было самое дорогое и лучшее, и жизнь их была разумна и спокойна. Соседи их боялись, уважали и ненавидели, потому что они сами никого не боялись, всех презирали, а уважали только самих себя. В жилах их текла не простая кровь, а голубая-голубая…
— Спа-си-те!
Молчание…
В.П. Астафьев «Зачем я убил коростеля?»
Это было давно, лет, может, сорок назад. Ранней осенью я возвращался с рыбалки по скошенному лугу и возле небольшой, за лето высохшей бочажины, поросшей тальником, увидел птицу.
Она услышала меня, присела в скошенной щетинке осоки, притаилась, но глаз мой чувствовала, пугалась его и вдруг бросилась бежать, неуклюже заваливаясь набок.
От мальчишки, как от гончей собаки, не надо убегать — непременно бросится он в погоню, разожжется в нем дикий азарт. Берегись тогда живая душа!
Я догнал птицу в борозде и, слепой от погони, охотничьей страсти, захлестал ее сырым удилищем.
Я взял в руку птицу с завядшим, вроде бы бескостным тельцем. Глаза ее были прищемлены мертвыми, бесцветными веками, шейка, будто прихваченный морозом лист, болталась. Перо на птице было желтовато, со ржавинкой по бокам, а спина словно бы темноватыми гнилушками посыпана.
Я узнал птицу — это был коростель. Дергач по-нашему. Все его друзья-дергачи покинули наши места, отправились в теплые края — зимовать. А этот уйти не смог. У него не было одной лапки — в сенокос он попал под литовку. Вот потому-то он и бежал от меня так неуклюже, потому я и догнал его.
И худое, почти невесомое тельце птицы ли, нехитрая ли окраска, а может, и то, что без ноги была она, но до того мне сделалось жалко ее, что стал я руками выгребать ямку в борозде и хоронить так просто, сдуру загубленную живность.
Я вырос в семье охотника и сам потом сделался охотником, но никогда не стрелял без надобности. С нетерпением и виной, уже закоренелой, каждое лето жду я домой, в русские края, коростелей.
Уже черемуха отцвела, купава осыпалась, чемерица по четвертому листу пустила, трава в стебель двинулась, ромашки по угорам сыпанули и соловьи на последнем издыхе допевают песни.
Но чего-то не хватает еще раннему лету, чего-то недостает ему, чем-то недооформилось оно, что ли.
И вот однажды, в росное утро, за речкой, в лугах, покрытых еще молодой травой, послышался скрип коростеля. Явился, бродяга! Добрался-таки! Дергает-скрипит! Значит, лето полное началось, значит, сенокос скоро, значит, все в порядке.
И всякий год вот так. Томлюсь и жду я коростеля, внушаю себе, что это тот давний дергач каким-то чудом уцелел и подает мне голос, прощая того несмышленого, азартного парнишку.
Теперь я знаю, как трудна жизнь коростеля, как далеко ему добираться к нам, чтобы известить Россию о зачавшемся лете.
Зимует коростель в Африке и уже в апреле покидает ее, торопится туда, «…где зори маковые вянут, как жар забытого костра, где в голубом рассвете тонут зеленокудрые леса, где луг еще косой не тронут, где васильковые глаза…». Идет, чтобы свить гнездо и вывести потомство, выкормить его и поскорее унести ноги от гибельной зимы.
Не приспособленная к полету, но быстрая на бегу, птица эта вынуждена два раза в году перелетать Средиземное море. Много тысяч коростелей гибнет в пути и особенно при перелете через море.
Как идет коростель, где, какими путями — мало кто знает. Лишь один город попадает на пути этих птиц — небольшой древний город на юге Франции. На гербе города изображен коростель. В те дни, когда идут коростели по городу, здесь никто не работает. Все люди справляют праздник и пекут из теста фигурки этой птицы, как у нас, на Руси, пекут жаворонков к их прилету.
Птица коростель во французском старинном городе считается священной, и если бы я жил там в давние годы, меня приговорили бы к смерти.
Но я живу далеко от Франции. Много уже лет живу и всякого навидался. Был на войне, в людей стрелял, и они в меня стреляли.
Но отчего же, почему же, как заслышу я скрип коростеля за речкой, дрогнет мое сердце и снова навалится на меня одно застарелое мучение: зачем я убил коростеля? Зачем?
Юрий Буйда «ПРОДАВЕЦ ДОБРА»
Целыми днями Родион Иванович сидел в лавчонке на базаре, торговавшей скобяным товаром, — это был зимой и летом ледяной каменный мешок с единственным окном под самым потолком, — и грыз жареные семечки, чтобы пересилить тягу к табаку. В магазинчике командовала его жена — толстенькая энергичная бабешка, сыпавшая матерком и покрикивавшая на какого-нибудь неуклюжего мужика в тулупе, забравшегося в угол: «Эй, ты чего там разжопатился? Из-за тебя к ведрам не подойти!» Родион Иванович, повинуясь ее приказам, таскал из подсобки ящики с гвоздями, мотки проволоки или «занадобившийся этому черту сепаратор». Усатый «черт» в мерлушковой шапке притопывал сапожищами на кирпичном полу, приговаривая: «Добра-то у вас как много… и откуда только берется?» Выбравшись из склада с сепаратором в руках, Родион Иванович отвечал с одышкой: «Добра-то много — да добра нет». Выражение лица его всегда было печально-ласковое.
Вина он не пил, потому и удивились люди, узнав, что Родион Иванович сошел с ума. Все чокнутые делились в городке на две категории: на тех, кто от роду дурак, и на тех, кто свихнулся из-за безудержного пьянства и лечился в психушке. Ни к тем, ни к другим Родион Иванович не принадлежал, даже на рыбалке замечен не был. Когда жену его спрашивали, не страшно ли ей жить бок о бок с психом, она хмуро отвечала: «Да чего страшного? Сидит себе в уголку, с мухами беседует…»
Вскоре, однако, Родион Иванович нашел себе занятие, прославившее его на весь городок. Из обрезков бумаги он клеил коробки чуть больше спичечных и разносил по домам, предлагая купить за деньги или за спасибо.
Однажды он постучал и в нашу дверь. Я открыл. На пороге переминался с ноги на ногу тощий тип с печально-ласковым выражением лица, в стареньком брезентовом плаще и выгоревшем до рыжины берете на стриженной под ноль узкой голове.
— Не желаете ли добра? — просипел он, заискивающе заглядывая мне в глаза. — Вот. — Он протянул коробочку с подтеками клея на углах. — Не обижайтесь.
Выручил отец. Он сердито сунул Родиону Ивановичу какую-то медную мелочь и захлопнул дверь. Коробочку отдал мне.
В своей комнате я осторожно открыл коробку. Одна сторона ее была не заклеена и служила крышкой, внутри оказалась коробка поменьше, с такой же незаклеенной крышечкой. На дне этой второй коробки аккуратным почерком малограмотного человека было начертано одно-единственное слово — «добро».
Я до сих пор храню эту коробочку, чудом уцелевшую после всех переездов и передряг. Чернила на донышке выцвели, приобрели желтоватый оттенок, но слово по-прежнему хорошо различимо. Кажется, с годами я начал понимать, что слово «добро» обладает всего одним — одним-единственным — смыслом, и именно тем, который вложил в него несчастный Родион Иванович из затерянного на краю света городка.
Жизнь дана на добрые дела. (русская пословица)
Кто помогает людям, у того и свои желания сбываются. (английская пословица)
Красота до вечера, а доброта на век. (русская пословица)
Валентин Пикуль, роман «Барбаросса» (отрывок)
(1)Сталинград безжалостно бомбили день и ночь.
(2)В один из дней Чуянову позвонил Воронин.
– (3)Беда! – сообщил он. – (4)Утром один гад из облаков вывернулся и свалил фугаску в полтонны прямо… прямо на завод, где, сам знаешь, сколько народу собралось.
(5)Убитых похоронили, раненых развезли по больницам, но в мёртвом здании завода осталась девушка – Нина Петрунина. (6)Жива! (7)Но вытащить её нет сил. (8)Ей ноги стеной придавило, а стена едва держится. (9)Кажется, чуть дохни на неё – и разом обрушится. (10)Семнадцать лет. (11)Жить хочется. (12)Красивая… уж больно девка-то красивая!
– (13)Спасти надо! – крикнул Чуянов. – (14)Во что бы то ни стало. (15)Я сам приеду. (16)Сейчас же.
(17)Люди тогда уже привыкли к смерти, и, казалось бы, что им ещё одна? (18)Но город взбурлил, имя Нины стало известно всем, а равнодушных не было. (19)Всюду, куда ни приди, слышалось:
– (20)Ну как там наша Нина? (21)Спасут ли… вот горе!
(22)Разве так не бывает, что судьба одного человека, доселе никому не известного, вдруг становится средоточием всеобщего сострадания, и множество людей озабоченно следят за чужой судьбой, которая их волнует и в которой подчас выражена судьба многих.
(23)Чуянов приехал. (24)Воронин ещё издали крикнул ему:
– (25)Не подходи близко! (26)Стена вот-вот рухнет…
(27)Нина Петрунина лежала спокойно, и Чуянов до конца жизни не забыл её прекрасного лица, веера её золотистых волос, а ноги девушки, уже раздробленные, покоились под громадной и многотонной массой полуразрушенной заводской стены, которая едва-едва держалась. (28)Здесь же сидела и мать Нины.
(29)Чуянов лишь пальцами коснулся её плеча, сказал:
– (30)Сейчас приедут… укол сделают, чтобы не мучилась.
(31)Нину кормили, всё время делали ей болеутоляющие уколы, и время от времени она спрашивала:
– (32)Когда же, ну когда вы меня спасёте?..
(33)Явились добровольцы – солдаты из гарнизона.
– (34)Ребята, – сказал им Чуянов, – как хотите, а деваху надо вытащить. (35)Орденов вам не посулю, но обедать в столовой обкома будете… (36)Выручайте!
(37)Лучше мне не сказать, чем сказали очевидцы: «Шесть дней продолжалась смертельно опасная работа. (38)Бойцы осторожно выбивали из стены кирпичик за кирпичиком и тут же на место каждого выбитого кирпича ставили подпорки». (39)Кирпич за кирпичом – укол за уколом. (40)Наконец Нину извлекли из-под разрушенной стены.
(41)Наверное, сказалось давнее и природное свойство русских людей – сопереживать и сострадать чужому горю; это прекрасное качество русского народа, ныне почти утерянное и разбазаренное в его массовом эгоизме. (42)Тогда это качество было ещё живо, и оно не раз согревало людские души… (43)Подумайте: ведь эти солдаты-добровольцы из сталинградского гарнизона понимали, что, спасая Нину, каждую секунду могли быть погребёнными вместе с нею под обвалом стены!
(В. Пикуль)*
Борис Екимов «Ночь исцеления»
(1)По пути домой стало думаться о бабушке. (2)Сейчас, со стороны, она казалась такой слабой и одинокой. (3)А тут ещё эти ночи в слезах, словно наказание. (4)И с какой, верно, тягостью ждёт она ночи. (5)Все люди пережили горькое и забыли, а у бабы Дуни но всплывает в памяти снова и снова. (6)Про бабушку думать было больно. (7)Но как помочь ей?
(8)Раздумывая, Гриша шёл неторопливо, и в душе его что-то теплело и таяло, там что-то жгло и жгло.
(9)3а ужином он выпил крепкий чай, чтобы не сморило. (10)Выпил чашку, другую, готовя себя к бессонной ночи.
(11)И пришла ночь. (12)Потушили свет. (13)Гриша не лёг, а сел в постели, дожидаясь своего часа. (14)И вот когда, наконец, из комнаты бабушки донеслось ещё невнятное бормотание, он поднялся и пошёл. (15)Свет в кухне зажёг, встал возле кровати, чувствуя, как охватывает его невольная дрожь и сердце замирает в страшном предчувствии.
– (16)Карточки! (17)Куда подевались хлебные карточки? (18)В синем платочке. (19)Люди добрые! (20)Ребятишки! (21)Домой приду, они есть попросят! (22)Хлебец дай, мамушка. (23)А мамушка ихняя!..
(24)Баба Дуня запнулась, словно ошеломлённая, и закричала:
– (25)Люди добрые! (26)Не дайте помереть! (27)Петяня! (28)Шура! (29)Таечка!
(30)Имена детей она словно выпевала, тонко и болезненно, и слёзы, слёзы подкатывали.
(31)Гриша глубоко вздохнул, чтобы крикнуть громче, приказать, и бабушка перестанет плакать, и даже ногу приподнял – топнуть. (32)Чтобы уж наверняка.
– (33)Хлебные карточки, – в тяжкой муке, со слезами выговаривала баба Дуня.
(34)Сердце мальчика облилось жалостью и болью. (35)3абыв обдуманное, он опустился на колени перед кроватью и стал убеждать, мягко, ласково:
– (36)Вот ваши карточки, бабаня. (37)В синем платочке, да? (38)Ваши в синем платочке? (39)Это ваши, вы обронили. (40)А я поднял. (41)Вот видите, возьмите, – настойчиво повторял он. – (42)Все целые, берите.
(43)Баба Дуня смолкла. (44)Видимо, там, во сне, она всё слышала и понимала. (45)Не сразу пришли слова. (46)«Мои, мои! (47)Платочек мой, синий. (48)Люди скажут. (49)Мои карточки, я обронила. (50)Спаси Христос, добрый человек!»
(51)По голосу её Гриша понял, что сейчас она заплачет.
– (52)Не надо плакать, – громко сказал он. – (53)Карточки целые. (54)3ачем же плакать? (55)Возьмите хлеба и несите детишкам. (56)Несите, поужинайте и ложитесь спать, – говорил он, словно приказывал. – (57)И спите спокойно. (58)Спите.
(59)Баба Дуня смолкла.
(60)Гриша подождал, прислушался к ровному бабушкиному дыханию, поднялся. (61)Его бил озноб. (62)Какой-то холод пронизывал до костей. (63)И нельзя было согреться. (64)Печка была ещё тепла. (65)Он сидел у печки и плакал. (66)Слёзы катились и катились. (67)Они шли от сердца, потому что сердце болело и ныло, жалея бабу Дуню и кого-то ещё. (68)Он не спал, но находился в странном забытьи, словно в годах далёких, иных, и в жизни чужой, и виделось ему там, в этой жизни, такое горькое, такая беда и печаль, что он не мог не плакать. (69)Он плакал, вытирая слёзы кулаком.
(По Б. Екимову)*
О. Генри «Последний лист»
Студия Сью и Джонси помещалась наверху трехэтажного кирпичного дома. Джонси — уменьшительное от Джоанны. Одна приехала из штата Мэн, другая — из Калифорнии. Они познакомились за табльдотом одного ресторанчика на Восьмой улице и нашли, что их взгляды на искусство, цикорный салат и модные рукава вполне совпадают. В результате и возникла общая студия.
Господина Пневмонию никак нельзя было назвать галантным старым джентльменом. Миниатюрная девушка, малокровная от калифорнийских зефиров, едва ли могла считаться достойным противником для дюжего старого тупицы с красными кулачищами и одышкой. Однако он свалил ее с ног, и Джонси лежала неподвижно на крашеной железной кровати, глядя сквозь мелкий переплет голландского окна на глухую стену соседнего кирпичного дома.
Однажды утром озабоченный доктор одним движением косматых седых бровей вызвал Сью в коридор.
— У нее один шанс… ну, скажем, против десяти, — сказал он, стряхивая ртуть в термометре. — И то, если она сама захочет жить. Вся наша фармакопея теряет смысл, когда люди начинают действовать в интересах гробовщика. Ваша маленькая барышня решила, что ей уже не поправиться. Я сделаю все, что буду в силах сделать как представитель науки. Но когда мой пациент начинает считать кареты в своей похоронной процессии, я скидываю пятьдесят процентов с целебной силы лекарств. Если вы сумеете добиться, чтобы она хоть один раз спросила, какого фасона рукава будут носить этой зимой, я вам ручаюсь, что у нее будет один шанс из пяти вместо одного из десяти.
Глаза Джонси были широко открыты. Она смотрела в окно и считала — считала в обратном порядке.
— Двенадцать, — произнесла она, и немного погодя: — одиннадцать, — а потом: — «десять» и «девять», а потом: — «восемь» и «семь» — почти одновременно.
Сью посмотрела в окно. Что там было считать? Был виден только пустой, унылый двор и глухая стена кирпичного дома в двадцати шагах. Старый-старый плющ с узловатым, подгнившим у корней стволом заплел до половины кирпичную стену. Холодное дыхание осени сорвало листья с лозы, и оголенные скелеты ветвей цеплялись за осыпающиеся кирпичи.
— Что там такое, милая? — спросила Сью.
— Шесть, — едва слышно ответила Джонси. — Теперь они облетают быстрее. Три дня назад их было почти сто. Голова кружилась считать. А теперь это легко. Вот и еще один полетел. Теперь осталось только пять.
— Чего пять, милая? Скажи своей Сьюди.
— Листьев. На плюще. Когда упадет последний лист, я умру. Я это знаю уже три дня. Разве доктор не сказал тебе?
— Первый раз слышу такую глупость! — с великолепным презрением отпарировала Сью. — Какое отношение могут иметь листья на старом плюще к тому, что ты поправишься? А ты еще так любила этот плющ, гадкая девочка!
— Вот и еще один полетел. Нет, бульона я не хочу. Значит, остается всего четыре. Я хочу видеть, как упадет последний лист. Тогда умру и я.
Старик Берман был художник, который жил в нижнем этаже, под их студией. Ему было уже за шестьдесят, и борода, вся в завитках, как у Моисея Микеланджело, спускалась у него с головы сатира на тело гнома. В искусстве Берман был неудачником. Он все собирался написать шедевр, но даже и не начал его. Уже несколько лет он не писал ничего, кроме вывесок, реклам и тому подобной мазни ради куска хлеба.
Сью рассказала старику про фантазию Джонси и про свои опасения насчет того, как бы она, легкая и хрупкая, как лист, не улетела от них, когда ослабнет ее непрочная связь с миром. Старик Берман, чьи красные глаза очень заметно слезились, раскричался, насмехаясь над такими идиотскими фантазиями.
— Что! — кричал он. — Возможна ли такая глупость — умирать оттого, что листья падают с проклятого плюща! Первый раз слышу. Нет, не желаю позировать для вашего идиота-отшельника. Как вы позволяете ей забивать себе голову такой чепухой? Ах, бедная маленькая мисс Джонси!
На другое утро Сью, проснувшись после короткого сна, увидела, что Джонси не сводит тусклых, широко раскрытых глаз со спущенной зеленой шторы.
— Подними ее, я хочу посмотреть, — шепотом скомандовала Джонси.
Сью устало повиновалась.
И что же? После проливного дождя и резких порывов ветра, не унимавшихся всю ночь, на кирпичной стене еще виднелся один лист плюща — последний! Все еще темно-зеленый у стебелька, но тронутый по зубчатым краям желтизной тления и распада, он храбро держался на ветке в двадцати футах над землей.
— Это последний, — сказала Джонси. — Я думала, что он непременно упадет ночью. Я слышала ветер. Он упадет сегодня, тогда умру и я.
— Да бог с тобой! — сказала Сью, склоняясь усталой головой к подушке. — Подумай хоть обо мне, если не хочешь думать о себе! Что будет со мной?
Но Джонси не отвечала. Душа, готовясь отправиться в таинственный, далекий путь, становится чуждой всему земному. Болезненная фантазия завладевала Джонси все сильнее, по мере того, как одна за другой рвались все нити, связывавшие ее с жизнью и людьми.
День прошел, и даже в сумерки они видели, что одинокий лист плюща держится на своем стебельке на фоне кирпичной стены. А потом, с наступлением темноты, опять поднялся северный ветер, и дождь беспрерывно стучал в окна, скатываясь с низко нависшей голландской кровли.
Как только рассвело, беспощадная Джонси велела снова поднять штору.
Лист плюща все еще оставался на месте.
Джонси долго лежала, глядя на него. Потом позвала Сью, которая разогревала для нее куриный бульон на газовой горелке.
— Я была скверной девчонкой, Сьюди, — сказала Джонси. — Должно быть, этот последний лист остался на ветке для того, чтобы показать мне, какая я была гадкая. Грешно желать себе смерти. Теперь ты можешь дать мне немножко бульона, а потом молока с портвейном… Хотя нет: принеси мне сначала зеркальце, а потом обложи меня подушками, и я буду сидеть и смотреть, как ты стряпаешь.
Часом позже она сказала:
— Сьюди, я надеюсь когда-нибудь написать красками Неаполитанский залив.
Днем пришел доктор, и Сью под каким-то предлогом вышла за ним в прихожую.
— Шансы равные, — сказал доктор, пожимая худенькую, дрожащую руку Сью. — При хорошем уходе вы одержите победу. А теперь я должен навестить еще одного больного, внизу. Его фамилия Берман. Кажется, он художник. Тоже воспаление легких. Он уже старик и очень слаб, а форма болезни тяжелая. Надежды нет никакой, но сегодня его отправят в больницу, там ему будет покойнее.
На другой день доктор сказал Сью:
— Она вне опасности. Вы победили. Теперь питание и уход — и больше ничего не нужно.
В тот же день к вечеру Сью подошла к кровати, где лежала Джонси, с удовольствием довязывая ярко-синий, совершенно бесполезный шарф, и обняла ее одной рукой — вместе с подушкой.
— Мне надо кое-что сказать тебе, белая мышка, — начала она. — Мистер Берман умер сегодня в больнице от воспаления легких. Он болел всего только два дня. Утром первого дня швейцар нашел бедного старика на полу в его комнате. Он был без сознания. Башмаки и вся его одежда промокли насквозь и были холодны как лед. Никто не мог понять, куда он выходил в такую ужасную ночь. Потом нашли фонарь, который все еще горел, лестницу, сдвинутую с места, несколько брошенных кистей и палитру с желтой и зеленой красками. Посмотри в окно, дорогая, на последний лист плюща. Тебя не удивляло, что он не дрожит и не шевелится от ветра? Да, милая, это и есть шедевр Бермана — он написал его в ту ночь, когда слетел последний лист.
Майк Гелприн «Свеча горела»
Звонок раздался, когда Андрей Петрович потерял уже всякую надежду.
— Здравствуйте, я по объявлению. Вы даёте уроки литературы?
Андрей Петрович вгляделся в экран видеофона. Мужчина под тридцать. Строго одет — костюм, галстук. Улыбается, но глаза серьёзные. У Андрея Петровича ёкнуло сердце, объявление он вывешивал в сеть лишь по привычке. За десять лет было шесть звонков. Трое ошиблись номером, ещё двое оказались работающими по старинке страховыми агентами, а один попутал литературу с лигатурой.
— Д-даю уроки, — запинаясь от волнения, сказал Андрей Петрович. — Н-на дому. Вас интересует литература?
— Интересует, — кивнул собеседник. — Меня зовут Максим. Позвольте узнать, каковы условия.
«Задаром!» — едва не вырвалось у Андрея Петровича.
— Оплата почасовая, — заставил себя выговорить он. — По договорённости. Когда бы вы хотели начать?
— Я, собственно… — собеседник замялся.
— Первое занятие бесплатно, — поспешно добавил Андрей Петрович. — Если вам не понравится, то…
— Давайте завтра, — решительно сказал Максим. — В десять утра вас устроит? К девяти я отвожу детей в школу, а потом свободен до двух.
— Устроит, — обрадовался Андрей Петрович. — Записывайте адрес.
— Говорите, я запомню.
В эту ночь Андрей Петрович не спал, ходил по крошечной комнате, почти келье, не зная, куда девать трясущиеся от переживаний руки. Вот уже двенадцать лет он жил на нищенское пособие. С того самого дня, как его уволили.
— Вы слишком узкий специалист, — сказал тогда, пряча глаза, директор лицея для детей с гуманитарными наклонностями. — Мы ценим вас как опытного преподавателя, но вот ваш предмет, увы. Скажите, вы не хотите переучиться? Стоимость обучения лицей мог бы частично оплатить. Виртуальная этика, основы виртуального права, история робототехники — вы вполне бы могли преподавать это. Даже кинематограф всё ещё достаточно популярен. Ему, конечно, недолго осталось, но на ваш век… Как вы полагаете?
Андрей Петрович отказался, о чём немало потом сожалел. Новую работу найти не удалось, литература осталась в считанных учебных заведениях, последние библиотеки закрывались, филологи один за другим переквалифицировались кто во что горазд. Пару лет он обивал пороги гимназий, лицеев и спецшкол. Потом прекратил. Промаялся полгода на курсах переквалификации. Когда ушла жена, бросил и их.
Сбережения быстро закончились, и Андрею Петровичу пришлось затянуть ремень. Потом продать аэромобиль, старый, но надёжный. Антикварный сервиз, оставшийся от мамы, за ним вещи. А затем… Андрея Петровича мутило каждый раз, когда он вспоминал об этом — затем настала очередь книг. Древних, толстых, бумажных, тоже от мамы. За раритеты коллекционеры давали хорошие деньги, так что граф Толстой кормил целый месяц. Достоевский — две недели. Бунин — полторы.
В результате у Андрея Петровича осталось полсотни книг — самых любимых, перечитанных по десятку раз, тех, с которыми расстаться не мог. Ремарк, Хемингуэй, Маркес, Булгаков, Бродский, Пастернак… Книги стояли на этажерке, занимая четыре полки, Андрей Петрович ежедневно стирал с корешков пыль.
«Если этот парень, Максим, — беспорядочно думал Андрей Петрович, нервно расхаживая от стены к стене, — если он… Тогда, возможно, удастся откупить назад Бальмонта. Или Мураками. Или Амаду».
Пустяки, понял Андрей Петрович внезапно. Неважно, удастся ли откупить. Он может передать, вот оно, вот что единственно важное. Передать! Передать другим то, что знает, то, что у него есть.
Максим позвонил в дверь ровно в десять, минута в минуту.
— Проходите, — засуетился Андрей Петрович. — Присаживайтесь. Вот, собственно… С чего бы вы хотели начать?
Максим помялся, осторожно уселся на край стула.
— С чего вы посчитаете нужным. Понимаете, я профан. Полный. Меня ничему не учили.
— Да-да, естественно, — закивал Андрей Петрович. — Как и всех прочих. В общеобразовательных школах литературу не преподают почти сотню лет. А сейчас уже не преподают и в специальных.
— Нигде? — спросил Максим тихо.
— Боюсь, что уже нигде. Понимаете, в конце двадцатого века начался кризис. Читать стало некогда. Сначала детям, затем дети повзрослели, и читать стало некогда их детям. Ещё более некогда, чем родителям. Появились другие удовольствия — в основном, виртуальные. Игры. Всякие тесты, квесты… — Андрей Петрович махнул рукой. — Ну, и конечно, техника. Технические дисциплины стали вытеснять гуманитарные. Кибернетика, квантовые механика и электродинамика, физика высоких энергий. А литература, история, география отошли на задний план. Особенно литература. Вы следите, Максим?
— Да, продолжайте, пожалуйста.
— В двадцать первом веке перестали печатать книги, бумагу сменила электроника. Но и в электронном варианте спрос на литературу падал — стремительно, в несколько раз в каждом новом поколении по сравнению с предыдущим. Как следствие, уменьшилось количество литераторов, потом их не стало совсем — люди перестали писать. Филологи продержались на сотню лет дольше — за счёт написанного за двадцать предыдущих веков.
Андрей Петрович замолчал, утёр рукой вспотевший вдруг лоб.
— Мне нелегко об этом говорить, — сказал он наконец. — Я осознаю, что процесс закономерный. Литература умерла потому, что не ужилась с прогрессом. Но вот дети, вы понимаете… Дети! Литература была тем, что формировало умы. Особенно поэзия. Тем, что определяло внутренний мир человека, его духовность. Дети растут бездуховными, вот что страшно, вот что ужасно, Максим!
— Я сам пришёл к такому выводу, Андрей Петрович. И именно поэтому обратился к вам.
— У вас есть дети?
— Да, — Максим замялся. — Двое. Павлик и Анечка, погодки. Андрей Петрович, мне нужны лишь азы. Я найду литературу в сети, буду читать. Мне лишь надо знать что. И на что делать упор. Вы научите меня?
— Да, — сказал Андрей Петрович твёрдо. — Научу.
Он поднялся, скрестил на груди руки, сосредоточился.
— Пастернак, — сказал он торжественно. — Мело, мело по всей земле, во все пределы. Свеча горела на столе, свеча горела…
— Вы придёте завтра, Максим? — стараясь унять дрожь в голосе, спросил Андрей Петрович.
— Непременно. Только вот… Знаете, я работаю управляющим у состоятельной семейной пары. Веду хозяйство, дела, подбиваю счета. У меня невысокая зарплата. Но я, — Максим обвёл глазами помещение, — могу приносить продукты. Кое-какие вещи, возможно, бытовую технику. В счёт оплаты. Вас устроит?
Андрей Петрович невольно покраснел. Его бы устроило и задаром.
— Конечно, Максим, — сказал он. — Спасибо. Жду вас завтра.
— Литература — это не только о чём написано, — говорил Андрей Петрович, расхаживая по комнате. — Это ещё и как написано. Язык, Максим, тот самый инструмент, которым пользовались великие писатели и поэты. Вот послушайте.
Максим сосредоточенно слушал. Казалось, он старается запомнить, заучить речь преподавателя наизусть.
— Пушкин, — говорил Андрей Петрович и начинал декламировать.
Баратынский, Есенин, Маяковский, Блок, Бальмонт, Ахматова, Гумилёв, Мандельштам, Высоцкий…
Максим слушал.
— Не устали? — спрашивал Андрей Петрович.
— Нет-нет, что вы. Продолжайте, пожалуйста.
День сменялся новым. Андрей Петрович воспрянул, пробудился к жизни, в которой неожиданно появился смысл. Поэзию сменила проза, на неё времени уходило гораздо больше, но Максим оказался благодарным учеником. Схватывал он на лету. Андрей Петрович не переставал удивляться, как Максим, поначалу глухой к слову, не воспринимающий, не чувствующий вложенную в язык гармонию, с каждым днём постигал её и познавал лучше, глубже, чем в предыдущий.
Бальзак, Гюго, Мопассан, Достоевский, Тургенев, Бунин, Куприн.
Булгаков, Хемингуэй, Бабель, Ремарк, Маркес, Набоков.
Однажды, в среду, Максим не пришёл. Андрей Петрович всё утро промаялся в ожидании, уговаривая себя, что тот мог заболеть. Не мог, шептал внутренний голос, настырный и вздорный. Скрупулёзный педантичный Максим не мог. Он ни разу за полтора года ни на минуту не опоздал. А тут даже не позвонил. К вечеру Андрей Петрович уже не находил себе места, а ночью так и не сомкнул глаз. К десяти утра он окончательно извёлся, и когда стало ясно, что Максим не придёт опять, побрёл к видеофону.
— Номер отключён от обслуживания, — поведал механический голос.
Следующие несколько дней прошли как один скверный сон. Даже любимые книги не спасали от острой тоски и вновь появившегося чувства собственной никчемности, о котором Андрей Петрович полтора года не вспоминал. Обзвонить больницы, морги, навязчиво гудело в виске. И что спросить? Или о ком? Не поступал ли некий Максим, лет под тридцать, извините, фамилию не знаю?
Андрей Петрович выбрался из дома наружу, когда находиться в четырёх стенах стало больше невмоготу.
— А, Петрович! — приветствовал старик Нефёдов, сосед снизу. — Давно не виделись. А чего не выходишь, стыдишься, что ли? Так ты же вроде ни при чём.
— В каком смысле стыжусь? — оторопел Андрей Петрович.
— Ну, что этого, твоего, — Нефёдов провёл ребром ладони по горлу. — Который к тебе ходил. Я всё думал, чего Петрович на старости лет с этой публикой связался.
— Вы о чём? — у Андрея Петровича похолодело внутри. — С какой публикой?
— Известно с какой. Я этих голубчиков сразу вижу. Тридцать лет, считай, с ними отработал.
— С кем с ними-то? — взмолился Андрей Петрович. — О чём вы вообще говорите?
— Ты что ж, в самом деле не знаешь? — всполошился Нефёдов. — Новости посмотри, об этом повсюду трубят.
Андрей Петрович не помнил, как добрался до лифта. Поднялся на четырнадцатый, трясущимися руками нашарил в кармане ключ. С пятой попытки отворил, просеменил к компьютеру, подключился к сети, пролистал ленту новостей. Сердце внезапно зашлось от боли. С фотографии смотрел Максим, строчки курсива под снимком расплывались перед глазами.
«Уличён хозяевами, — с трудом сфокусировав зрение, считывал с экрана Андрей Петрович, — в хищении продуктов питания, предметов одежды и бытовой техники. Домашний робот-гувернёр, серия ДРГ-439К. Дефект управляющей программы. Заявил, что самостоятельно пришёл к выводу о детской бездуховности, с которой решил бороться. Самовольно обучал детей предметам вне школьной программы. От хозяев свою деятельность скрывал. Изъят из обращения… По факту утилизирован…. Общественность обеспокоена проявлением… Выпускающая фирма готова понести… Специально созданный комитет постановил…».
Андрей Петрович поднялся. На негнущихся ногах прошагал на кухню. Открыл буфет, на нижней полке стояла принесённая Максимом в счёт оплаты за обучение початая бутылка коньяка. Андрей Петрович сорвал пробку, заозирался в поисках стакана. Не нашёл и рванул из горла. Закашлялся, выронив бутылку, отшатнулся к стене. Колени подломились, Андрей Петрович тяжело опустился на пол.
Коту под хвост, пришла итоговая мысль. Всё коту под хвост. Всё это время он обучал робота.
Бездушную, дефективную железяку. Вложил в неё всё, что есть. Всё, ради чего только стоит жить. Всё, ради чего он жил.
Андрей Петрович, превозмогая ухватившую за сердце боль, поднялся. Протащился к окну, наглухо завернул фрамугу. Теперь газовая плита. Открыть конфорки и полчаса подождать. И всё.
Звонок в дверь застал его на полпути к плите. Андрей Петрович, стиснув зубы, двинулся открывать. На пороге стояли двое детей. Мальчик лет десяти. И девочка на год-другой младше.
— Вы даёте уроки литературы? — глядя из-под падающей на глаза чёлки, спросила девочка.
— Что? — Андрей Петрович опешил. — Вы кто?
— Я Павлик, — сделал шаг вперёд мальчик. — Это Анечка, моя сестра. Мы от Макса.
— От… От кого?!
— От Макса, — упрямо повторил мальчик. — Он велел передать. Перед тем, как он… как его…
— Мело, мело по всей земле во все пределы! — звонко выкрикнула вдруг девочка.
Андрей Петрович схватился за сердце, судорожно глотая, запихал, затолкал его обратно в грудную клетку.
— Ты шутишь? — тихо, едва слышно выговорил он.
— Свеча горела на столе, свеча горела, — твёрдо произнёс мальчик. — Это он велел передать, Макс. Вы будете нас учить?
Андрей Петрович, цепляясь за дверной косяк, шагнул назад.
— Боже мой, — сказал он. — Входите. Входите, дети.
Елизавета Ауэрбах «Доктор Соболева»
Любовь Сергеевна врач-чумнолог. Она работала по борьбе с этой болезнью в разных странах, о чем свидетельствуют разнообразные ордена и медали, которых у нее так много, что они не могут поместиться на одной стороне костюма. Одно из последних ее сражений с чумой произошло в Монголии в августе 1945 года.
В степи, где пастухи перегоняют скот, мальчик-пастушок нашел мертвого тарбагана (это зверек с дорогим мехом) и решил его освежевать.
Вскоре мальчик заболел и умер. Большая семья скотовода-арата Бабу была заражена. Люди умирали. Девятнадцатилетний Наянта понял, что это за болезнь!
Монгольское население знает страшные признаки чумы — «Тарбагун Тахлым». Он вскочил на лошадь и поскакал за помощью в соседний аил. Не слезая с коня, на расстоянии, Наянта прокричал: «В нашем аиле Тарбагун Гахлым!»
И вот поскакали вестники-уртолыцики со страшным известием в селение Баин Хангор. Оттуда уже по прямому проводу сообщили в город Дзапхин, где находился советский противочумный отряд, который немедленно двинулся на помощь.
Начальником этого отряда была Любовь Сергеевна Соболева.
На опустевшем стойбище, превратившемся в стан смерти, отряд начал свою работу. Соседние юрты вовремя откочевали и тем спасли себя. Из восьми членов семьи Бабу остались в живых Наянта и трехлетний мальчик.
Врач немедленно приступил к их профилактическому лечению, их изолировали друг от друга. Наянта был уже безнадежен и вскоре умер. По противочумным законам врачу предстояло вскрыть умерших, выделить культуру чумы, сжечь трупы и юрты. В довершение всех бед — исчез малыш. Соболева нашла его не сразу. Он спал, закрывшись дели, на трупе Наянты. Видимо, он замерз и прокрался к нему, когда Наянта еще пылал в жару.
Все члены отряда были убеждены в неизбежном заболевании ребенка, все, кроме Любови Сергеевны… И она приказывает построить рядом две юрты: для мальчика и для себя. И остается с ребенком в изоляции.
С мальчиком нелегко было справиться. Он был в ужасе от белого чудовища и отчаянно сопротивлялся, когда врач купала его в растворе сулемы или делала уколы. К тому же Соболева не знала его языка и не могла успокоить ребенка.
Она не могла также нарушить противочумный режим и показать ему свое лицо, закрытое маской и очками.
Вскоре мальчик заболел. Картина заболевания напоминала легочную чуму, но Соболева не сдавалась и не прекращала усиленного лечения…
На шестой день мальчику стало лучше.
И с каждым благополучно прошедшим днем в душе врача росла надежда на спасение. Короче говоря, как это ни невероятно, мальчик стал поправляться.
Однажды, когда ему было уже настолько хорошо, что он мог сидеть, доктор у входа в юрту сняла с лица маску. Боже мой! Как обрадовался ребенок, как он хохотал и хлопал в ладоши!
— Я Соболева, — говорила доктор, тыча себе пальцем в грудь. — Я Соболева!
Он смеялся, повторяя ее имя. От Наянты прежде она узнала, что он — Увгун Бургут — «Степной орел».
Так они познакомились.
За все время карантина Любовь Сергеевна держала связь со своим отрядом по своеобразной почте. Метрах в ста от ее юрты лежал огромный камень. Он и стал почтовым ящиком. Любовь Сергеевна клала под камень записки и рецепты, смоченные сулемой. Два раза в день монголы приходили к камню, натыкали на ружья записки и отвозили в отряд, и утром все, что она просила, уже лежало на камне. На этот камень два раза в день ей привозили пищу, лекарства и сладости для малыша.
Когда мальчик стал поправляться, Любовь Сергеевна написала записку с просьбой заказать для Увгуна на ее деньги дели — национальный костюм из светло-синего шелка, желтый шелковый кушак, ичиги и лисью шапку. Ей хотелось, чтобы мальчик, вырвавшийся из лап чумы, предстал перед людьми нарядным и красивым.
Наконец, десятый день настал! Им принесли одежду.
Дарга — начальник Соболева за руку с мальчиком поднялись на гору, к противочумному отряду. Там их нетерпеливо ожидали: медперсонал, охотники за тарбаганами, араты-уртольщики — всего человек сорок. Монголы сидели полукругом, их лошади стояли сзади.
Соболева с каждым здоровалась по монгольскому обычаю: она клала свои руки на протянутые руки монголов и говорила: «Байэр-ла»… Некоторые целовали край ее одежды. Малыша ласкали и передавали из рук в руки. Все радовались чудесному исцелению мальчика.
Отряд вернулся в Дзапхин. Желающих усыновить мальчика было множество.
В монгольской семье дети — большая ценность, а мальчик, спасенный от чумы, казался символом счастья. Любовь Сергеевна отдала мальчика в бездетную семью товарища Чарга.
3 сентября, в день победы над Японией, во время демонстрации советская колония проходила мимо трибуны, на которой вместе со своим нареченным отцом — секретарем райкома партии товарищем Чаргой, находился Увгун. Мальчик увидел свою Соболеву, которую называл «Кукшин иджи» — «Старая мать» и кубарем скатился с лестницы трибуны. Все уже знали эту историю. Люди расступились, и мальчишка кинулся в объятия Любови Сергеевны, она подняла его на руки, и все окружающие стали хлопать. Многие плакали.
По монгольским законам к фамилии спасенного человека прибавляется фамилия его спасителя, и фамилия маленького Увгуна стала Увгун Бургут-Соболев,
Подвиг Соболевой не был забыт.
К ее первому монгольскому ордену «Полярная звезда», полученному за трехлетнюю противоэпидемическую работу, в 1944 году прибавился еще один — высший орден Монгольской Народной Республики — орден Сухе-Батора.
На торжественном приеме в Монгольском посольстве в Москве 9 января 1964 года, устроенном в честь Любови Сергеевны, присутствовал и ее монгольский сын Увгун Бургут-Соболев — в настоящее время молодой врач, заведующий больницей в Халхин-Голе.
ДОБРОТА И ЖЕСТОКОСТЬ
Юрий Нагибин «Старая черепаха»
(краткое содержание)
В зоомагазине Вася увидел двух маленьких черепашек, но мать отказалась их купить, ведь у них уже жила старая черепаха Машка, а три черепахи в доме — это слишком.
Когда мать заснула, Вася отнёс Машку на базар. Там он нашёл покупателя, готового купить старую черепаху для сына. Перед покупкой этот человек долго вертел панцирь в руках, желая удостовериться, что он не пустой, а черепаха, как назло, отказывалась высунуть голову. Васе даже обидно стало, что Машка так равнодушно с ним расстаётся. Продав Машку, Вася на вырученные деньги купил маленьких черепашек и радостно принёс их домой. Весь день он возился с ними, кормил, играл, и, засыпая, рассказывал матери, как он любит своих новых черепах. На это мать заметила, что старый друг оказался не лучше новых двух.
После слов матери Васю начинает мучать совесть. Машка уже старая, и неизвестно, умеют ли новые хозяева правильно с ней обращаться, а он даже не успел объяснить, как за ней ухаживать.
Встав ночью, он взял черепашек, игрушки и отправился к покупателям Машки. Проснувшись и увидев, что в ящике нет черепах, мать всё поняла и отправилась за сыном. Наблюдая за ним издали, она охраняла Васю, чтобы никто не помешал его первому доброму подвигу.
Валентина Осеева «Бабка»
(краткое содержание)
Бабка была уже совсем старая, широкая и грузная. Зять вечно был недоволен свекровью. Дочь и внук также считали её лишней в их семье.
Бабка вставала раньше всех, готовила завтрак, а затем будила всех домочадцев. Все разбегались по своим делам, дочь перед уходом давала наставления матери.
Целый день бабка занималась по хозяйству, а иногда брала спицы и начинала вязать. Когда внук приходил со школы, старушка тут же накрывала ему на стол. В разговоре с внуком бабка давала ему наставления. Она просила Борьку уважать и в старости не бросать родителей.
После обеда Борька учил бабку грамоте. Она старательно выводила в тетрадке буквы. Затем внук убегал во двор гулять с ребятами.
Как-то к Борьке пришел товарищ, он вежливо поздоровался с бабушкой. Борька же проявил к бабке неуважение и сказал, что здороваться с ней не обязательно. Товарищ ответил ему, что в их семье бабушка главный человек, и её никто не обижает.
Перед праздником бабка допоздна возилась на кухне. А утром поздравляла своих родных и дарила им связанные ею носки и шарфы. Когда в дом приходили гости, она наряжалась и сидела за столом. Дочь и зять делали вид, что в их доме её уважают. Однако, после того, как гости расходились, они начинали вычитывать бабку.
Вскоре бабку похоронили. У неё в сундуке дочь и зять нашли связанные для них вещи, а для внука она оставила кулёк с леденцами. Борька очень расстроился, ему не хватало бабки. Ложась спать, он подумал, что завтра бабка уже не придёт его будить.
Валентина Осеева «Бабка»
Бабка была тучная, широкая, с мягким, певучим голосом.
«Всю квартиру собой заполонила!..» — ворчал Борькин отец. А мать робко возражала ему: «Старый человек… Куда же ей деться?» «Зажилась на свете… – вздыхал отец. – В инвалидном доме ей место — вот где!»
Все в доме, не исключая и Борьки, смотрели на бабку как на совершенно лишнего человека.
Бабка спала на сундуке. Всю ночь она тяжело ворочалась с боку на бок, а утром вставала раньше всех и гремела в кухне посудой. Потом будила зятя и дочь: «Самовар поспел. Вставайте! Попейте горяченького-то на дорожку…»
Подходила к Борьке: «Вставай, батюшка мой, в школу пора!» «Зачем?» – сонным голосом спрашивал Борька. «В школу зачем? Тёмный человек глух и нем – вот зачем!»
Борька прятал голову под одеяло: «Иди ты, бабка…»
В сенях отец шаркал веником. «А куда вы, мать, галоши дели? Каждый раз во все углы тыкаешься из-за них!»
Бабка торопилась к нему на помощь. «Да вот они, Петруша, на самом виду. Вчерась уж очень грязны были, я их обмыла и поставила».
…Приходил из школы Борька, сбрасывал на руки бабке пальто и шапку, швырял на стол сумку с книгами и кричал: «Бабка, поесть!»
Бабка прятала вязанье, торопливо накрывала на стол и, скрестив на животе руки, следила, как Борька ест. В эти часы как-то невольно Борька чувствовал бабку своим, близким человеком. Он охотно рассказывал ей об уроках, товарищах. Бабка слушала его любовно, с большим вниманием, приговаривая: «Всё хорошо, Борюшка: и плохое и хорошее хорошо. От плохого человек крепче делается, от хорошего душа у него зацветает».
Наевшись, Борька отодвигал от себя тарелку: «Вкусный кисель сегодня! Ты ела, бабка?» «Ела, ела, – кивала головой бабка. – Не заботься обо мне, Борюшка, я, спасибо, сыта и здрава».
Пришёл к Борьке товарищ. Товарищ сказал: «Здравствуйте, бабушка!» Борька весело подтолкнул его локтем: «Идём, идём! Можешь с ней не здороваться. Она у нас старая старушенция». Бабка одёрнула кофту, поправила платок и тихо пошевелила губами: «Обидеть – что ударить, приласкать – надо слова искать».
А в соседней комнате товарищ говорил Борьке: «А с нашей бабушкой всегда здороваются. И свои, и чужие. Она у нас главная». «Как это – главная?» – заинтересовался Борька. «Ну, старенькая… всех вырастила. Её нельзя обижать. А что же ты со своей-то так? Смотри, отец взгреет за это». «Не взгреет! – нахмурился Борька. – Он сам с ней не здоровается…»
После этого разговора Борька часто ни с того ни с сего спрашивал бабку: «Обижаем мы тебя?» А родителям говорил: «Наша бабка лучше всех, а живёт хуже всех – никто о ней не заботится». Мать удивлялась, а отец сердился: «Кто это тебя научил родителей осуждать? Смотри у меня – мал ещё!»
Бабка, мягко улыбаясь, качала головой: «Вам бы, глупые, радоваться надо. Для вас сын растёт! Я своё отжила на свете, а ваша старость впереди. Что убьёте, то не вернёте».
Борьку вообще интересовало бабкино лицо. Были на этом лице разные морщины: глубокие, мелкие, тонкие, как ниточки, и широкие, вырытые годами. «Чего это ты такая разрисованная? Старая очень?» – спрашивал он. Бабка задумывалась. «По морщинам, голубчик, жизнь человеческую, как по книге, можно читать. Горе и нужда здесь расписались. Детей хоронила, плакала – ложились на лицо морщины. Нужду терпела, билась – опять морщины. Мужа на войне убили – много слёз было, много и морщин осталось. Большой дождь и тот в земле ямки роет».
Слушал Борька и со страхом глядел в зеркало: мало ли он поревел в своей жизни – неужели всё лицо такими нитками затянется? «Иди ты, бабка! – ворчал он. – Наговоришь всегда глупостей…»
За последнее время бабка вдруг сгорбилась, спина у неё стала круглая, ходила она тише и всё присаживалась. «В землю врастает», – шутил отец. «Не смейся ты над старым человеком», – обижалась мать. А бабке в кухне говорила: «Что это, вы, мама, как черепаха по комнате двигаетесь? Пошлёшь вас за чем-нибудь и назад не дождёшься».
Умерла бабка перед майским праздником. Умерла одна, сидя в кресле с вязаньем в руках: лежал на коленях недоконченный носок, на полу – клубок ниток. Ждала, видно, Борьку. Стоял на столе готовый прибор.
На другой день бабку схоронили.
Вернувшись со двора, Борька застал мать сидящей перед раскрытым сундуком. На полу была свалена всякая рухлядь. Пахло залежавшимися вещами. Мать вынула смятый рыжий башмачок и осторожно расправила его пальцами. «Мой ещё, – сказала она и низко наклонилась над сундуком. – Мой…»
На самом дне сундука загремела шкатулка – та самая, заветная, в которую Борьке всегда так хотелось заглянуть. Шкатулку открыли. Отец вынул тугой свёрток: в нём были тёплые варежки для Борьки, носки для зятя и безрукавка для дочери. За ними следовала вышитая рубашка из старинного выцветшего шёлка – тоже для Борьки. В самом углу лежал пакетик с леденцами, перевязанный красной ленточкой. На пакетике что-то было написано большими печатными буквами. Отец повертел его в руках, прищурился и громко прочёл: «Внуку моему Борюшке».
Борька вдруг побледнел, вырвал у него пакет и убежал на улицу. Там, присев у чужих ворот, долго вглядывался он в бабкины каракули: «Внуку моему Борюшке». В букве «ш» было четыре палочки. «Не научилась!» – подумал Борька. Сколько раз он объяснял ей, что в букве «ш» три палки… И вдруг, как живая, встала перед ним бабка – тихая, виноватая, не выучившая урока. Борька растерянно оглянулся на свой дом и, зажав в руке пакетик, побрёл по улице вдоль чужого длинного забора…
Домой он пришёл поздно вечером; глаза у него распухли от слёз, к коленкам пристала свежая глина. Бабкин пакетик он положил к себе под подушку и, закрывшись с головой одеялом, подумал: «Не придёт утром бабка!»
«СОВЕТСКОМУ СОЛДАТУ»
Л. Кассиль
Долго шла война.
Начали наши войска наступать по вражеской земле. Фашистам уже дальше и бежать
некуда. Засели они в главном немецком городе Берлине.
Ударили наши войска на Берлин. Начался последний бой войны. Как ни отбивались
фашисты — не устояли. Стали брать солдаты Советской Армии в Берлине улицу за
улицей, дом за домом. А фашисты всё не сдаются.
И вдруг увидел один солдат наш, добрая душа, во время боя на улице маленькую
немецкую девочку. Видно, отстала от своих. А те с перепугу о ней забыли…
Осталась бедняга одна-одинёшенька посреди улицы. А деваться ей некуда. Кругом
бой идёт. Изо всех окон огонь полыхает, бомбы рвутся, дома рушатся, со всех
сторон пули свистят. Вот-вот камнем задавит, осколком пришибёт… Видит наш
солдат — пропадает девчонка… «Ах ты, горюха, куда же тебя это занесло,
неладную!..»
Бросился солдат через улицу под самые пули, подхватил на руки немецкую девочку,
прикрыл её своим плечом от огня и вынес из боя.
А скоро и бойцы наши уже подняли красный флаг над самым главным домом немецкой
столицы.
Сдались фашисты. И война кончилась. Мы победили. Начался мир.
И построили теперь в городе Берлине огромный памятник. Высоко над домами, на
зелёном холме стоит богатырь из камня — солдат Советской Армии. В одной руке у
него тяжёлый меч, которым он сразил врагов-фашистов, а в другой — маленькая
девочка. Прижалась она к широкому плечу советского солдата. Спас её солдат от
гибели, уберёг от фашистов всех на свете детей и грозно смотрит сегодня с
высоты, не собираются ли злые враги снова затеять войну и нарушить мир.
«ПЕРВАЯ КОЛОННА»
С. Алексеев
(рассказы Сергея Алексеева о
Ленинградцах и подвиге Ленинграда).
В 1941 году фашисты блокировали Ленинград. Отрезали город от всей страны.
Попасть в Ленинград можно было лишь по воде, по Ладожскому озеру.
В ноябре наступили морозы. Замёрзла, остановилась водяная дорога.
Остановилась дорога — значит, не будет подвоза продуктов, значит, не будет
подвоза горючего, не будет подвоза боеприпасов. Как воздух, как кислород нужна
Ленинграду дорога.
— Будет дорога! — сказали люди.
Замёрзнет Ладожское озеро, покроется крепким льдом Ладога (так сокращённо
называют Ладожское озеро). Вот по льду и пройдёт дорога.
Не каждый верил в такую дорогу. Неспокойна, капризна Ладога. Забушуют метели,
пронесётся над озером пронзительный ветер — сиверик, — появятся на льду озера
трещины и промоины. Ломает Ладога свою ледяную броню. Даже самые сильные морозы
не могут полностью сковать Ладожское озеро.
Капризно, коварно Ладожское озеро. И всё же выхода нет другого. Кругом фашисты.
Только здесь, по Ладожскому озеру, и может пройти в Ленинград дорога.
Труднейшие дни в Ленинграде. Прекратилось сообщение с Ленинградом. Ожидают
люди, когда лёд на Ладожском озере станет достаточно крепким. А это не день, не
два. Смотрят на лёд, на озеро. Толщину измеряют льда. Рыбаки-старожилы тоже
следят за озером. Как там на Ладоге лёд?
— Растёт.
— Нарастает.
— Силу берёт.
Волнуются люди, торопят время.
— Быстрее, быстрее, — кричат Ладоге. — Эй, не ленись, мороз!
Приехали к Ладожскому озеру учёные-гидрологи (это те, кто изучает воду и лёд),
прибыли строители и армейские командиры. Первыми решили пройти по неокрепшему
льду.
Прошли гидрологи — выдержал лёд.
Прошли строители — выдержал лёд.
Майор Можаев, командир дорожно-эксплуатационного полка, верхом на коне проехал
— выдержал лёд.
Конный обоз прошагал по льду. Уцелели в дороге сани.
Генерал Лагунов — один из командиров Ленинградского фронта — на легковой машине
по льду проехал. Потрещал, поскрипел, посердился лёд, но пропустил машину.
22 ноября 1941 года по всё ещё полностью не окрепшему льду Ладожского озера
пошла первая автомобильная колонна. 60 грузовых машин было в колонне. Отсюда, с
западного берега, со стороны Ленинграда, ушли машины за грузами на восточный
берег.
Впереди не километр, не два — двадцать семь километров ледяной дороги. Ждут на
западном ленинградском берегу возвращения людей и автоколонны.
— Вернутся? Застрянут? Вернутся? Застрянут?
Прошли сутки. И вот:
— Едут!
Верно, идут машины, возвращается автоколонна. В кузове каждой из машин по три,
по четыре мешка с мукой. Больше пока не брали. Некрепок лёд. Правда, на
буксирах машины тянули сани. В санях тоже лежали мешки с мукой, по два, по три.
С этого дня и началось постоянное движение по льду Ладожского озера. Вскоре
ударили сильные морозы. Лёд окреп. Теперь уже каждый грузовик брал по 20, по 30
мешков с мукой. Перевозили по льду и другие тяжёлые грузы.
Нелёгкой была дорога. Не всегда здесь удачи были. Ломался лёд под напором
ветра. Тонули порой машины. Фашистские самолёты бомбили колонны с воздуха. И
снова наши несли потери. Застывали в пути моторы. Замерзали на льду шофёры. И
всё же ни днём, ни ночью, ни в метель, ни в самый лютый мороз не переставала
работать ледовая дорога через Ладожское озеро.
Стояли самые тяжёлые дни Ленинграда. Остановись дорога — смерть Ленинграду.
Не остановилась дорога. «Дорогой жизни» ленинградцы её назвали.
«ТАНЯ САВИЧЕВА»
С. Алексеев
Голод смертью идёт по городу. Не
вмещают погибших ленинградские кладбища. Люди умирали у станков. Умирали на
улицах. Ночью ложились спать и утром не просыпались. Более 600 тысяч человек
скончалось от голода в Ленинграде.
Среди ленинградских домов поднимался и этот дом. Это дом Савичевых. Над
листками записной книжки склонилась девочка. Зовут её Таня. Таня Савичева ведёт
дневник.
Записная книжка с алфавитом. Таня открывает страничку с буквой «Ж». Пишет:
«Женя умерла 28 декабря в 12.30 час. утра. 1941 г.».
Женя — это сестра Тани.
Вскоре Таня снова садится за свой дневник. Открывает страничку с буквой «Б».
Пишет:
«Бабушка умерла 25 янв. в 3 ч. дня 1942 г.». Новая страница из Таниного
дневника. Страница на букву «Л». Читаем:
«Лека умер 17 марта в 5 ч. утра 1942 г.». Лека — это брат Тани.
Ещё одна страница из дневника Тани. Страница на букву «В». Читаем:
«Дядя Вася умер 13 апр. в 2 ч. ночи. 1942 год». Ещё одна страница. Тоже на
букву «Л». Но написано на оборотной стороне листка: «Дядя Лёша. 10 мая в 4 ч.
дня 1942». Вот страница с буквой «М». Читаем: «Мама 13 мая в 7 ч. 30 мин. утра
1942». Долго сидит над дневником Таня. Затем открывает страницу с буквой «С».
Пишет: «Савичевы умерли».
Открывает страницу на букву «У». Уточняет: «Умерли все».
Посидела. Посмотрела на дневник. Открыла страницу на букву «О». Написала:
«Осталась одна Таня».
Таню спасли от голодной смерти. Вывезли девочку из Ленинграда.
Но не долго прожила Таня. От голода, стужи, потери близких подорвалось её
здоровье. Не стало и Тани Савичевой. Скончалась Таня. Дневник остался. «Смерть
фашистам!» — кричит дневник.
«ШУБА»
С. Алексеев
Группу ленинградских детей вывозили
из осаждённого фашистами Ленинграда «Дорогой жизни». Тронулась в путь машина.
Январь. Мороз. Ветер студёный хлещет. Сидит за баранкой шофёр Коряков. Точно
ведёт полуторку.
Прижались друг к другу в машине дети. Девочка, девочка, снова девочка. Мальчик,
девочка, снова мальчик. А вот и ещё один. Самый маленький, самый щупленький.
Все ребята худы-худы, как детские тонкие книжки. А этот и вовсе тощ, как
страничка из этой книжки.
Из разных мест собрались ребята. Кто с Охты, кто с Нарвской, кто с Выборгской
стороны, кто с острова Кировского, кто с Васильевского. А этот, представьте, с
проспекта Невского. Невский проспект — это центральная, главная улица
Ленинграда. Жил мальчонка здесь с папой, с мамой. Ударил снаряд, не стало
родителей. Да и другие, те, что едут сейчас в машине, тоже остались без мам,
без пап. Погибли и их родители. Кто умер от голода, кто под бомбу попал
фашистскую, кто был придавлен рухнувшим домом, кому жизнь оборвал снаряд.
Остались ребята совсем одинокими. Сопровождает их тётя Оля. Тётя Оля сама
подросток. Неполных пятнадцать лет.
Едут ребята. Прижались друг к другу. Девочка, девочка, снова девочка. Мальчик,
девочка, снова мальчик. В самой серёдке — кроха. Едут ребята. Январь. Мороз.
Продувает детей на ветру. Обхватила руками их тётя Оля. От этих тёплых рук
кажется всем теплее.
Идёт по январскому льду полуторка. Справа и слева застыла Ладога. Всё сильнее,
сильнее мороз над Ладогой. Коченеют ребячьи спины. Не дети сидят — сосульки.
Вот бы сейчас меховую шубу.
И вдруг… Затормозила, остановилась полуторка. Вышел из кабины шофёр Коряков.
Снял с себя тёплый солдатский овчинный тулуп. Подбросил Оле, кричит: . — Лови!
Подхватила Оля овчинный тулуп:
— Да как же вы… Да, право, мы…
— Бери, бери! — прокричал Коряков и прыгнул в свою кабину.
Смотрят ребята — шуба! От одного вида её теплее.
Сел шофёр на своё шофёрское место. Тронулась вновь машина. Укрыла тётя Оля
ребят овчинным тулупом. Ещё теснее прижались друг к другу дети. Девочка,
девочка, снова девочка. Мальчик, девочка, снова мальчик. В самой серёдке —
кроха. Большим оказался тулуп и добрым. Побежало тепло по ребячьим спинам.
Довёз Коряков ребят до восточного берега Ладожского озера, доставил в посёлок
Кобона. Отсюда, из Кобоны, предстоял им ещё далёкий- далёкий путь. Простился
Коряков с тётей Олей. Начал прощаться с ребятами. Держит в руках тулуп. Смотрит
на тулуп, на ребят. Эх бы ребятам тулуп в дорогу… Так ведь казённый, не свой
тулуп. Начальство голову сразу снимет. Смотрит шофёр на ребят, на тулуп. И
вдруг…
— Эх, была не была! — махнул Коряков рукой.
Поехал дальше тулуп овчинный.
Не ругало его начальство. Новую шубу выдало.
«МИШКА»
С. Алексеев
Солдатам одной из сибирских дивизий в
те дни, когда дивизия отправлялась на фронт, земляки подарили маленького
медвежонка. Освоился Мишка с солдатской теплушкой. Важно поехал на фронт.
Приехал на фронт Топтыгин. Оказался медвежонок на редкость смышлёным. А
главное, от рождения характер имел геройский. Не боялся бомбёжек. Не забивался
в углы при артиллерийских обстрелах. Лишь недовольно урчал, если разрывались
снаряды уж очень близко.
Побывал Мишка на Юго-Западном фронте, затем — в составе войск, которые громили
фашистов под Сталинградом. Потом какое-то время находился с войсками в тылу, во
фронтовом резерве. Потом попал в составе 303-й стрелковой дивизии на
Воронежский фронт, затем на Центральный, опять на Воронежский. Был в армиях
генералов Манагарова, Черняховского, вновь Манагарова. Подрос медвежонок за это
время. В плечах раздался. Бас прорезался. Стала боярской шуба.
В боях под Харьковом медведь отличился. На переходах шагал он с обозом в
хозяйственной колонне. Так было и в этот раз. Шли тяжёлые, кровопролитные бои.
Однажды хозяйственная колонна попала под сильный удар фашистов. Окружили
фашисты колонну. Силы неравные, туго нашим. Заняли бойцы оборону. Только слаба
оборона. Не уйти бы советским воинам.
Да только вдруг слышат фашисты страшный какой-то рык! «Что бы такое?» — гадают
фашисты. Прислушались, присмотрелись.
— Бер! Бер! Медведь! — закричал кто-то.
Верно — поднялся Мишка на задние лапы, зарычал и пошёл на фашистов. Не ожидали
фашисты, метнулись в сторону. А наши в этот момент ударили. Вырвались из
окружения.
Мишка шагал в героях.
— Его бы к награде, — смеялись солдаты.
Получил он награду: тарелку душистого мёда. Ел и урчал. Вылизал тарелку до
глянца, до блеска. Добавили мёда. Снова добавили. Ешь, наедайся, герой.
Топтыгин!
Вскоре Воронежский фронт был переименован в 1-й Украинский. Вместе с войсками
фронта Мишка пошёл на Днепр.
Вырос Мишка. Совсем великан. Где же солдатам во время войны возиться с такой
громадой! Решили солдаты: в Киев придём — в зоосаде его поселим. На клетке
напишем: медведь — заслуженный ветеран и участник великой битвы.
Однако миновала дорога в Киев. Прошла их дивизия стороной. Не остался медведь в
зверинце. Даже рады теперь солдаты.
С Украины Мишка попал в Белоруссию. Принимал участие в боях под Бобруйском,
затем оказался в армии, которая шла к Беловежской пуще.
Беловежская пуща — рай для зверей и птиц. Лучшее место на всей планете. Решили
солдаты: вот где оставим Мишку.
— Верно: под сосны его. Под ели.
— Вот где ему раздолье.
Освободили наши войска район Беловежской пущи. И вот наступил час разлуки.
Стоят бойцы и медведь на лесной поляне.
— Прощай, Топтыгин!
— Гуляй на воле!
— Живи, заводи семейство!
Постоял на поляне Мишка. На задние лапы поднялся. Посмотрел на зелёные гущи.
Носом запах лесной втянул.
Пошёл он валкой походкой в лес. С лапы на лапу. С лапы на лапу. Смотрят солдаты
вслед:
— Будь счастлив, Михаил Михалыч!
И вдруг страшный взрыв прогремел на поляне. Побежали солдаты на взрыв — мёртв,
недвижим Топтыгин.
Наступил медведь на фашистскую мину. Проверили — много их в Беловежской пуще.
Ушла война дальше на запад. Но долго ещё взрывались здесь, в Беловежской пуще,
на минах и кабаны, и красавцы лоси, и великаны зубры.
Шагает война без жалости. Нет у войны усталости.
«ЖАЛО»
С. Алексеев
Наши войска освобождали Молдавию.
Оттеснили фашистов за Днепр, за Реут. Взяли Флорешты, Тирасполь, Оргеев.
Подошли к столице Молдавии городу Кишинёву.
Тут наступали сразу два наших фронта — 2-й Украинский и 3-й Украинский. Под
Кишинёвом советские войска должны были окружить большую фашистскую группировку.
Выполняют фронты указания Ставки. Севернее и западнее Кишинёва наступает 2-й
Украинский фронт. Восточнее и южнее — 3-й Украинский фронт. Генералы
Малиновский и Толбухин стояли во главе фронтов.
— Фёдор Иванович, — звонит генерал Малиновский генералу Толбухину, — как
развивается наступление?
— Всё идёт по плану, Родион Яковлевич, — отвечает генералу Малиновскому генерал
Толбухин.
Шагают вперёд войска. Обходят они противника. Сжимать начинают клещи.
— Родион Яковлевич, — звонит генерал Толбухин генералу Малиновскому, — как
развивается окружение?
— Нормально идёт окружение, Фёдор Иванович, — отвечает генерал Малиновский
генералу Толбухину и уточняет: — Точно по плану, в точные сроки.
И вот сомкнулись гигантские клещи. В огромном мешке под Кишинёвом оказалось
восемнадцать фашистских дивизий. Приступили наши войска к разгрому попавших в
мешок фашистов.
Довольны советские солдаты:
— Снова капканом прихлопнут зверь.
Пошли разговоры: не страшен теперь фашист, бери хоть руками голыми.
Однако солдат Игошин другого держался мнения:
— Фашист есть фашист. Змеиный характер и есть змеиный. Волк и в капкане — волк.
Смеются солдаты:
— Так это было в какое время!
— Нынче другая цена фашисту.
— Фашист есть фашист, — опять о своём Игошин.
Вот ведь характер вредный!
Всё труднее в мешке фашистам. Стали они сдаваться в плен. Сдавались они и на
участке 68-й Гвардейской стрелковой дивизии. В одном из её батальонов и служил
Игошин.
Группа фашистов вышла из леса. Всё как положено: руки кверху, над группой
выброшен белый флаг.
— Ясно — идут сдаваться.
Оживились солдаты, кричат фашистам:
— Просим, просим! Давно пора!
Повернулись солдаты к Игошину:
— Ну чем же фашист твой страшен?
Толпятся солдаты, на фашистов, идущих сдаваться, смотрят. Есть новички в
батальоне. Впервые фашистов так близко видят. И им, новичкам, тоже совсем не
страшны фашисты — вот ведь, идут сдаваться.
Всё ближе фашисты, ближе. Близко совсем. И вдруг автоматная грянула очередь.
Стали стрелять фашисты.
Полегло бы немало наших. Да спасибо Игошину. Держал оружие наготове. Сразу
ответный открыл огонь. Потом помогли другие.
Отгремела пальба на поле. Подошли солдаты к Игошину:
— Спасибо, брат. А фашист, смотри, со змеиным и вправду, выходит, жалом.
Немало хлопот доставил Кишинёвский «котёл» нашим солдатам. Метались фашисты.
Бросались в разные стороны. Шли на обман, на подлость. Пытались уйти. Но
тщетно. Зажали их богатырской рукой солдаты. Зажали. Сдавили. Змеиное жало
вырвали.
«МЕШОК ОВСЯНКИ»
А.В. Митяев
В ту осень шли долгие холодные дожди.
Земля пропиталась водой, дороги раскисли. На просёлках, увязнув по самые оси в
грязи, стояли военные грузовики. С подвозом продовольствия стало очень плохо. В
солдатской кухне повар каждый день варил только суп из сухарей: в горячую воду
сыпал сухарные крошки и заправлял солью.
В такие-то голодные дни солдат Лукашук нашёл мешок овсянки. Он не
искал ничего, просто привалился плечом к стенке траншеи. Глыба сырого песка
обвалилась, и все увидели в ямке край зелёного вещевого мешка.
Ну и находка! обрадовались солдаты. Будет пир горой Кашу сварим!
Один побежал с ведром за водой, другие стали искать дрова, а третьи уже
приготовили ложки.
Но когда удалось раздуть огонь и он уже бился в дно ведра, в
траншею спрыгнул незнакомый солдат. Был он худой и рыжий. Брови над голубыми
глазами тоже рыжие. Шинель выношенная, короткая. На ногах обмотки и
растоптанные башмаки.
-Эй, братва! — крикнул он сиплым, простуженным голосом.- Давай
мешок сюда! Не клали не берите.
Он всех просто огорошил своим появлением, и мешок ему отдали
сразу.
Да и как было не отдать? По фронтовому закону надо было отдать. Вещевые мешки
прятали в траншеях солдаты, когда шли в атаку. Чтобы легче было. Конечно,
оставались мешки и без хозяина: или нельзя было вернуться за ними (это если
атака удавалась и надо было гнать фашистов), или погибал солдат. Но раз хозяин
пришёл, разговор короткий отдать.
Солдаты молча наблюдали, как рыжий уносил на плече драгоценный
мешок. Только Лукашук не выдержал, съязвил:
-Вон он какой тощий! Это ему дополнительный паёк дали. Пусть
лопает. Если не разорвётся, может, потолстеет.
Наступили холода. Выпал снег. Земля смёрзлась, стала твёрдой.
Подвоз наладился. Повар варил в кухне на колёсах щи с мясом, гороховый суп с
ветчиной. О рыжем солдате и его овсянке все забыли.
Готовилось большое наступление.
По скрытым лесным дорогам, по оврагам шли длинные вереницы
пехотных батальонов. Тягачи по ночам тащили к передовой пушки, двигались танки.
Готовился к наступлению и Лукашук с товарищами. Было ещё темно, когда пушки
открыли стрельбу. Посветлело в небе загудели самолёты.
Они бросали бомбы на фашистские блиндажи, стреляли из пулемётов по вражеским
траншеям.
Самолёты улетели. Тогда загромыхали танки. За ними бросились в
атаку пехотинцы. Лукашук с товарищами тоже бежал и стрелял из автомата. Он
кинул гранату в немецкую траншею, хотел кинуть ещё, но не успел: пуля попала
ему в грудь. И он упал. Лукашук лежал в снегу и не чувствовал, что снег
холодный. Прошло какое-то время, и он перестал слышать грохот боя. Потом свет
перестал видеть ему казалось, что наступила тёмная тихая ночь.
Когда Лукашук пришёл в сознание, он увидел санитара. Санитар
перевязал рану, положил Лукашука в лодочку такие фанерные саночки. Саночки
заскользили, заколыхались по снегу. От этого тихого колыхания у Лукашука стала
кружиться голова. А он не хотел, чтобы голова кружилась, он хотел вспомнить,
где видел этого санитара, рыжего и худого, в выношенной шинели.
-Держись, браток! Не робей жить будешь!.. слышал он слова
санитара.
Чудилось Лукашуку, что он давно знает этот голос. Но где и когда
слышал его раньше, вспомнить уже не мог.
В сознание Лукашук снова пришёл, когда его перекладывали из
лодочки на носилки, чтобы отнести в большую палатку под соснами: тут, в лесу,
военный доктор вытаскивал у раненых пули и осколки.
Лёжа на носилках, Лукашук увидел саночки-лодку, на которых его
везли до госпиталя. К саночкам ремёнными постромками были привязаны три собаки.
Они лежали в снегу. На шерсти намёрзли сосульки. Морды обросли инеем, глаза у
собак были полузакрыты.
К собакам подошёл санитар. В руках у него была каска, полная
овсяной болтушки. От неё валил пар. Санитар воткнул каску в снег постудить
собакам вредно горячее. Санитар был худой и рыжий. И тут Лукашук вспомнил, где
видел его. Это же он тогда спрыгнул в траншею и забрал у них мешок овсянки.
Лукашук одними губами улыбнулся санитару и, кашляя и задыхаясь,
проговорил:
-А ты, рыжий, так и не потолстел. Один слопал мешок овсянки, а всё
худой.
Санитар тоже улыбнулся и, погладив ближнюю собаку, ответил:
-Овсянку-то они съели. Зато довезли тебя в срок. А я тебя сразу
узнал. Как увидел в снегу, так и узнал.
И добавил убеждённо: Жить будешь! Не робей!
«РАССКАЗ ТАНКИСТА»
А. Твардовский
Был трудный бой. Всё нынче, как
спросонку,
И только не могу себе простить:
Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку,
А как зовут, забыл его спросить.
Лет десяти-двенадцати. Бедовый,
Из тех, что главарями у детей,
Из тех, что в городишках прифронтовых
Встречают нас как дорогих гостей.
Машину обступают на стоянках,
Таскать им воду вёдрами — не труд,
Приносят мыло с полотенцем к танку
И сливы недозрелые суют…
Шёл бой за улицу. Огонь врага был страшен,
Мы прорывались к площади вперёд.
А он гвоздит — не выглянуть из башен, —
И чёрт его поймёт, откуда бьёт.
Тут угадай-ка, за каким домишкой
Он примостился, — столько всяких дыр,
И вдруг к машине подбежал парнишка:
— Товарищ командир, товарищ командир!
Я знаю, где их пушка. Я разведал…
Я подползал, они вон там, в саду…
— Да где же, где?.. — А дайте я поеду
На танке с вами. Прямо приведу.
Что ж, бой не ждёт. — Влезай сюда, дружище! —
И вот мы катим к месту вчетвером.
Стоит парнишка — мины, пули свищут,
И только рубашонка пузырём.
Подъехали. — Вот здесь. — И с разворота
Заходим в тыл и полный газ даём.
И эту пушку, заодно с расчётом,
Мы вмяли в рыхлый, жирный чернозём.
Я вытер пот. Душила гарь и копоть:
От дома к дому шёл большой пожар.
И, помню, я сказал: — Спасибо, хлопец! —
И руку, как товарищу, пожал…
Был трудный бой. Всё нынче, как спросонку,
И только не могу себе простить:
Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку,
Но как зовут, забыл его спросить
«ПОХОЖДЕНИЯ ЖУКА-НОСОРОГА»
(Солдатская сказка)
К. Г. Паустовский
Когда Петр Терентьев уходил из
деревни на войну, маленький сын его Степа
не знал, что подарить отцу на прощание, и подарил наконец старого
жука-носорога. Поймал он его на огороде и посадил в коробок от спичек. Носорог
сердился, стучал, требовал, чтобы его выпустили. Но Степа его не выпускал, а
подсовывал ему в коробок травинки, чтобы жук не умер от голода. Носорог
травинки сгрызал, но все равно продолжал стучать и браниться.
Степа прорезал в коробке маленькое оконце для притока свежего воздуха. Жук
высовывал в оконце мохнатую лапу и старался ухватить Степу за палец, — хотел,
должно быть, поцарапать от злости. Но Степа пальца не давал. Тогда жук начинал
с досады так жужжать, что мать Степы Акулина кричала:
— Выпусти ты его, лешего! Весь день жундит и жундит, голова от него
распухла!
Петр Терентьев усмехнулся на Степин подарок, погладил Степу по головке
шершавой рукой и спрятал коробок с жуком в сумку от противогаза.
— Только ты его не теряй, сбереги, — сказал Степа.
— Нешто можно такие гостинцы терять, — ответил Петр. — Уж как-нибудь
сберегу.
То ли жуку понравился запах резины, то ли от Петра приятно пахло шинелью и
черным хлебом, но жук присмирел и так и доехал с Петром до самого фронта.
На фронте бойцы удивлялись жуку, трогали пальцами его крепкий рог,
выслушивали рассказ Петра о сыновьем подарке, говорили:
— До чего додумался парнишка! А жук, видать, боевой. Прямо ефрейтор, а не
жук.
Бойцы интересовались, долго ли жук протянет и как у него обстоит дело с
пищевым довольствием — чем его Петр будет кормить и поить. Без воды он, хотя и
жук, а прожить не сможет.
Петр смущенно усмехался, отвечал, что жуку дашь какой-нибудь колосок — он
и питается неделю. Много ли ему нужно.
Однажды ночью Петр в окопе задремал, выронил коробок с жуком из сумки. Жук
долго ворочался, раздвинул щель в коробке, вылез, пошевелил усиками,
прислушался. Далеко гремела земля, сверкали желтые молнии.
Жук полез на куст бузины на краю окопа, чтобы получше осмотреться. Такой
грозы он еще не видал. Молний было слишком много. Звезды не висели неподвижно
на небе, как у жука на родине, в Петровой деревне, а взлетали с земли,
освещали все вокруг ярким светом, дымились и гасли. Гром гремел непрерывно.
Какие-то жуки со свистом проносились мимо. Один из них так ударил в куст
бузины, что с него посыпались красные ягоды. Старый носорог упал, прикинулся
мертвым и долго боялся пошевелиться. Он понял, что с такими жуками лучше не
связываться, — уж очень много их свистело вокруг.
Так он пролежал до утра, пока не поднялось солнце.
Жук открыл один глаз,
посмотрел на небо. Оно было синее, теплое, такого неба не было в его деревне.
Огромные птицы с воем падали с этого неба, как коршуны. Жук быстро
перевернулся, стал на ноги, полез под лопух, — испугался, что коршуны его
заклюют до смерти.
Утром Петр хватился жука, начал шарить кругом по земле.
— Ты чего? — спросил сосед-боец с таким загорелым лицом, что его можно
было принять за негра.
— Жук ушел, — ответил Петр с огорчением. — Вот беда!
— Нашел об чем горевать, — сказал загорелый боец. — Жук и есть жук,
насекомое. От него солдату никакой пользы сроду не было.
— Дело не в пользе, — возразил Петр, — а в памяти. Сынишка мне его подарил
напоследок. Тут, брат, не насекомое дорого, дорога память.
— Это точно! — согласился загорелый боец. — Это, конечно, дело другого
порядка. Только найти его — все равно что махорочную крошку в океане-море.
Пропал, значит, жук.
Старый носорог услышал голос Петра, зажужжал, поднялся с земли, перелетел
несколько шагов и сел Петру на рукав шинели. Петр обрадовался, засмеялся, а
загорелый боец сказал:
— Ну и шельма! На хозяйский голос идет, как собака. Насекомое, а котелок у
него варит.
С тех пор Петр перестал сажать жука в коробок, а носил его прямо в сумке
от противогаза, и бойцы еще больше удивлялись: «Видишь ты, совсем ручной
сделался жук!»
Иногда в свободное время Петр выпускал жука, а жук ползал вокруг,
выискивал какие-то корешки, жевал листья. Они были уже не те, что в деревне.
Вместо листьев березы много было листьев вяза и тополя. И Петр, рассуждая с
бойцами, говорил:
— Перешел мой жук на трофейную пищу.
Однажды вечером в сумку от противогаза подуло свежестью, запахом большой
воды, и жук вылез из сумки, чтобы посмотреть, куда это он попал.
Петр стоял вместе с бойцами на пароме. Паром плыл через широкую светлую
реку. За ней садилось золотое солнце, по берегам стояли ракиты, летали над
ними аисты с красными лапами.
— Висла! — говорили бойцы, зачерпывали манерками воду, пили, а кое-кто
умывал в прохладной воде пыльное лицо. — Пили мы, значит, воду из Дона, Днепра
и Буга, а теперь попьем и из Вислы. Больно сладкая в Висле вода.
Жук подышал речной прохладой, пошевелил усиками, залез в сумку, уснул.
Проснулся он от сильной тряски. Сумку мотало, она подскакивала. Жук быстро
вылез, огляделся. Петр бежал по пшеничному полю, а рядом бежали бойцы, кричали
«ура». Чуть светало. На касках бойцов блестела роса.
Жук сначала изо всех сил цеплялся лапками за сумку, потом сообразил, что
все равно ему не удержаться, раскрыл крылья, снялся, полетел рядом с Петром и
загудел, будто подбодряя Петра.
Какой-то человек в грязном зеленом мундире прицелился в Петра из винтовки,
но жук с налета ударил этого человека в глаз. Человек пошатнулся, выронил
винтовку и побежал.
Жук полетел следом за Петром, вцепился ему в плечи и слез в сумку только
тогда, когда Петр упал на землю и крикнул кому-то: «Вот незадача! В ногу
меня
задело!» В это время люди в грязных зеленых мундирах уже бежали,
оглядываясь,
и за ними по пятам катилось громовое «ура».
Месяц Петр пролежал в лазарете, а жука отдали на сохранение польскому
мальчику. Мальчик этот жил в том же дворе, где помещался лазарет.
Из лазарета Петр снова ушел на фронт — рана у него была легкая. Часть свою
он догнал уже в Германии. Дым от тяжелых боев был такой, будто горела сама
земля и выбрасывала из каждой лощинки громадные черные тучи. Солнце меркло в
небе. Жук, должно быть, оглох от грома пушек и сидел в сумке тихо, не
шевелясь.
Но как-то утром он задвигался и вылез. Дул теплый ветер, уносил далеко на
юг последние полосы дыма. Чистое высокое солнце сверкало в синей небесной
глубине. Было так тихо, что жук слышал шелест листа на дереве над собой. Все
листья висели неподвижно, и только один трепетал и шумел, будто радовался
чему-то и хотел рассказать об этом всем остальным листьям.
Петр сидел на земле, пил из фляжки воду. Капли стекали по его небритому
подбородку, играли на солнце. Напившись, Петр засмеялся и сказал:
— Победа!
— Победа! — отозвались бойцы, сидевшие рядом.
Один из них вытер рукавом глаза и добавил:
— Вечная слава! Стосковалась по нашим рукам родная земля. Мы теперь из нее
сделаем сад и заживем, братцы, вольные и счастливые.
Вскоре после этого Петр вернулся домой. Акулина закричала и заплакала от
радости, а Степа тоже заплакал и спросил:
— Жук живой?
— Живой он, мой товарищ, — ответил Петр. — Не тронула его пуля. Воротился
он в родные места с победителями. И мы его выпустим с тобой, Степа.
Петр вынул жука из сумки, положил на ладонь.
Жук долго сидел, озирался, поводил усами, потом приподнялся на задние
лапки, раскрыл крылья, снова сложил их, подумал и вдруг взлетел с громким
жужжанием — узнал родные места. Он сделал круг над колодцем, над грядкой
укропа в огороде и полетел через речку в лес, где аукались ребята, собирали
грибы и дикую малину. Степа долго бежал за ним, махал картузом.
— Ну вот, — сказал Петр, когда Степа вернулся, — теперь жучище этот
расскажет своим про войну и про геройское свое поведение. Соберет всех жуков
под можжевельником, поклонится на все стороны и расскажет.
Степа засмеялся, а Акулина сказала:
— Будя мальчику сказки рассказывать. Он и впрямь поверит.
— И пусть его верит, — ответил Петр. — От сказки не только ребятам, а даже
бойцам одно удовольствие.
— Ну, разве так! — согласилась Акулина и подбросила в самовар сосновых
шишек.
Самовар загудел, как старый жук-носорог. Синий дым из самоварной трубы
заструился, полетел в вечернее небо, где уже стоял молодой месяц, отражался в
озерах, в реке, смотрел сверху на тихую нашу землю.
Текст 1.
Война застала Николая под Львовом. Он прошел в жестоких боях весь тяжкий путь
летнего отступления нашей армии. Здесь, на этих украинских полях, ощутил он горечь
разлуки. Он ни с кем не говорил о своих чувствах, никому не рассказывал о них. И вместе с ним днем и ночью были товарищи — танкисты Андреев, Криворотов, Бобров, Шашло,
Дудников. Ночью они спали рядом с ним, они касались своими плечами его плеч, и он
ощущал тепло, шедшее от них, днем шли они рядом в тяжелых железных машинах. Он не
знал, не подозревал, как велика сила, которая спаяла его с этими людьми потом и кровью
битв.
Темным осенним вечером танки поддерживали кавалерийскую атаку. Лил дождь, было очень грязно. Машина Андреева шла с полуоткрытым люком. Липкая грязь обхватывала машину, но танк лез все вперед и вперед, высоким голосом жужжал мотор. Неожиданно страшный удар потряс стены танка. Богачеву показалось, что он сидит внутри гудящей, вибрирующей гитары, по которой кто-то с размаху ударил кулаком. Он задохнулся от страшного богатства звуков. Потом сразу стало очень тихо, лишь в ушах продолжало булькать, свистать, звенеть.
Товарищи окликнули его. Он слышал их голоса, но не ответил. Его вытащили из
машины. Он попробовал встать и упал в грязь. У него от удара снаряда отнялись ноги.
Несколько километров несли его на руках по липкой грязи. «Богачев, Богачев, — окликали его, — ну как ты?» — «Ничего, хорошо», — отвечал он. В уме его стояло одно слово: «Пропал». Ему казалось совершенно ясным, что он уже не вернется в батальон. И
внезапная сильная и горячая мысль охватила его: неужели он никогда больше не увидит
этих людей, товарищей-танкистов? Неведомое раньше чувство заполнило его всего…
И он вернулся. Это было совсем недавно. Он пришел пешком — сила снова вернулась к его ногам. Он шел по снежному полю, и все казалось ему необычным — выкрашенные в
белый цвет танки, белые автоцистерны, белые тягачи. Он почувствовал, как волна тепла разлилась в его груди, такое чувство испытал он в детстве, вернувшись после скарлатины из больницы домой. Эта разлука дала ему понять, насколько близки и дороги стали для него боевые товарищи. Он испытывал волнение, снова увидев Шашло, механика Дудникова, Андреева, Криворотова. Они окружили его, и на их лицах он читал ту же радость, что испытывал сам.
Весь день не проходило удивительное ощущение возвращения в родной дом. Его водили обедать, насильно укладывали отдыхать, был устроен совет, решивший, где ему ночевать, «чтобы не хуже было, чем в госпитале». Чем только не угощали его в этот день – все считали нужным угостить его, начиная от майора Карпова и кончая шоферами тягачей. Да, это были друзья его. Андреев, Бобров, Шашло, Салей, Дудников. Они вспоминали прошлое, эти молодые парни, ставшие ветеранами великой войны. Они вспоминали бесстрашного Крючкина, Соломона Горелика, которому посмертно присвоили звание Героя Советского Союза, многих погибших друзей, которых немыслимо забыть.
По В.С. Гроссману
Текст 2.
Это чувство я испытываю постоянно уже многие годы, но с особой силой — 9 мая и 15сентября.
Впрочем, не только в эти дни оно подчас всецело овладевает мною.
Как-то вечером вскоре после войны в шумном, ярко освещенном «Гастрономе» я
встретился с матерью Леньки Зайцева. Стоя в очереди, она задумчиво глядела в мою
сторону, и не поздороваться с ней я просто не мог. Тогда она присмотрелась и, узнав
меня, выронила от неожиданности сумку и вдруг разрыдалась.
Я стоял, не в силах двинуться или вымолвить хоть слово. Никто ничего не понимал;
предположили, что у нее вытащили деньги, а она в ответ на расспросы лишь истерически
выкрикивала: «Уйдите!!! Оставьте меня в покое!..»
В тот вечер я ходил словно пришибленный. И хотя Ленька, как я слышал, погиб в
первом же бою, возможно не успев убить и одного немца, а я пробыл на передовой около
трех лет и участвовал во многих боях, я ощущал себя чем-то виноватым и бесконечно
должным и этой старой женщине, и всем, кто погиб — знакомым и незнакомым, — и их
матерям, отцам, детям и вдовам…
Я даже толком не могу себе объяснить почему, но с тех пор я стараюсь не попадаться
этой женщине на глаза и, завидя ее на улице — она живет в соседнем квартале, — обхожу
стороной.
А 15 сентября — день рождения Петьки Юдина; каждый год в этот вечер его родители
собирают уцелевших друзей его детства.
Приходят взрослые сорокалетние люди, но пьют не вино, а чай с конфетами,
песочным тортом и яблочным пирогом — с тем, что более всего любил Петька.
Все делается так, как было и до войны, когда в этой комнате шумел, смеялся и
командовал лобастый жизнерадостный мальчишка, убитый где-то под Ростовом и даже не
похороненный в сумятице панического отступления. Во главе стола ставится Петькин стул, его чашка с душистым чаем и тарелка, куда мать старательно накладывает орехи в сахаре, самый большой кусок торта с цукатом и горбушку яблочного пирога. Будто Петька может отведать хоть кусочек и закричать, как бывало, во все горло: «Вкуснота-то какая, братцы! Навались!..»
И перед Петькиными стариками я чувствую себя в долгу; ощущение какой-то
неловкости и виноватости, что вот я вернулся, а Петька погиб, весь вечер не оставляет
меня. В задумчивости я не слышу, о чем говорят; я уже далеко-далеко… До боли
клешнит сердце: я вижу мысленно всю Россию, где в каждой второй или третьей семье кто — нибудь не вернулся…
По И. Богомолову
Текст 3.
Михаил Дудин, царствие ему небесное, замечательный мужик и автор многих
превосходных стихотворений и многих, многих едких и разящих эпиграмм, был морским
пехотинцем и воевал в самых адских местах Ленинградского фронта, в том числе на
гибельном «пятачке».
Так вот, Миша Дудин потряс меня рассказом о том, как воевали снятые с кораблей
моряки. Где-то на Пулковских высотах или под ними довелось идти в атаку морякам,
снятым с линкора. А что у них на линкоре за личное оружие? Офицерское — кортики да
маузеры иль браунинги и винтовки сэвэтэ — у матросов, полуавтоматы наши, хваленые,
годные для парадов, но не для боя в окопах, да еще на холоду; но и такие винтовки да
пистолеты вахтового и парадного назначения были далеко не у всех моряков, патронов – по обойме, а задача поставлена четко и твердо: пойти на врага, достичь его окопов и отобрать оружие.
И морячки наши, сами себя вздрючившие похвалами о бесстрашии своем и
несгибаемости, в песнях воспетые, в кино заснятые, народом до небес вздетые, комиссарами и отцами командирами вдохновленные, поскидывали с себя бушлаты и в одних тельняшках, с криком «полундра», которого немцы не понимали и не боялись, бросились на врага через поля и высотки, и — самое великое и страшное — часть их достигла фашистских окопов и отобрала у врага оружие. Но уже часть малая, остальная братва осталась лежать на земле, и до самых снегов пестрели поля и склоны высот тельняшками.
В одном месте моряки шли в атаку через большое поле, засаженное капустой, и, когда настали голодные времена в блокадном Ленинграде, полуголодные моряки ночью ползали на капустное поле, и иногда им удавалось принести вилок-другой в окопы. Разумеется, поле капустное было пристреляно немцами, и тут они выложили еще много наших, воистину отважных ребят, которые раздевали убитых, снимали с них бушлаты; количество полосатых трупов добавлялось и добавлялось на поле брани.
Весной, когда морячки «вытаяли», смотреть было невозможно на землю — вся она была полосата от тельняшек, мечты и радости многих и многих советских ребятишек.
«Вот ты, земляной человек и работник творческого труда, не вылазишь из тельняшки, как Гриша Поженян, тепло тебе в ней и мягко, а я не могу носить тельняшку с тех самых пор, — говорил Михаил Дудин, и, помолчав, глядя в сторону, неунывный этот человек горько добавил: — А потом их, морячков, хоронили, ты, окопный землерой, можешь себе представить, что и как там хоронили, их кости и тлелое мясо просто с клочьями тельняшек сгребли в земляные ямы, называемые красиво, одухотворенно — братскими могилами. О-о, прости нас, Господи, тайно верующих, к Богу подвигающихся коммунистов и всех страждущих, прости. Они не виноваты в том, что им выпало на долю жить мужественно и умереть геройски. Перед Богом все мы мученики, и живые, и мертвые…»
Никогда больше, никогда веселый человек, шутник, хохмач Михаил Дудин не говорил со мною о войне, даже приближения к этому разговору избегал.
Трудно все-таки копаться в старых, кровоточащих ранах и не надо бы уж так громко
хвастаться тем, как трудно жилось народу нашему в войну и какой ценой досталась нам
победа.
Каждая следующая годовщина, парад и веселье по случаю Победы нашей уже ничего, кроме неловкости, горечи в памяти и боли в сердце, не вызывают.
По В.П. Астафьеву
Текст 4
Вечером мы вместе с Лютиковым взяли заряды. Три заряда по десять
четырехсотграммовых толовых шашек в каждом. От пушки ничего не должно было
остаться. Показал ему, как делается зажигательная трубка, как всовывается капсюль в
заряд, как зажигается бикфордов шнур. Лютиков внимательно следил за всеми моими
движениями. В овраге мы подорвали одну шашку, и я видел, как у него дрожали пальцы,
когда он зажигал шнур. Он даже осунулся за эти несколько часов.
В два часа ночи Терентьев меня разбудил и сказал, что луна уже зашла и Лютиков, мол, собирается, заряды в мешок укладывает. Мы вышли — я, Никитин и Лютиков. Шел мелкий снежок. Где-то очень далеко испуганно фыркнул пулемет и умолк. Мы прошли седьмую, восьмую роты, пересекли насыпь. Миновали железнодорожную будку. Лютиков шел сзади с мешком и все время отставал. Ему было тяжело. Я предложил помочь. Он отказался. Дошли до самого левого фланга девятой роты и остановились.
— Здесь, — сказал Никитин.
Лютиков скинул мешок. Впереди ровной белой грядой тянулась насыпь. В одном
месте что-то темнело. Это и была пушка. До нее было метров пятьдесят — семьдесят.
— Смотри внимательно, — сказал я Лютикову. — Сейчас она выстрелит.
Но пушка не стреляла.
— Вот сволочи! — выругался Никитин, и в этот самый момент из темного места под
насыпью вырвалось пламя. Трассирующий снаряд описал молниеносную плавную дугу и
разорвался где-то между седьмой и восьмой ротой.
— Видал где?
Лютиков пощупал рукой бруствер, натянул рукавицы, взвалил мешок на плечи и
молча вышел из окопа.
— Ни пуха ни пера, — сказал Никитин. Я ничего не сказал. В такие минуты трудно найти
подходящие слова.
Я посмотрел на часы. Прошло шесть минут. А казалось, что уже полчаса. Потом еще
три, еще две… Ослепительная вспышка озарила вдруг всю местность. Мы с Никитиным
инстинктивно нагнулись. Сверху посыпались комья мерзлой земли.
— Молодчина, — сказал Никитин.
Я ничего не ответил. Меня распирало что-то изнутри. Немцы открыли лихорадочный,
беспорядочный огонь. Минут пятнадцать — двадцать длился он. Потом стих. Часы
показывали половину четвертого. Мы выглянули из-за бруствера. Ничего не видно: бело и
мутно.
Никитин встал и облокотился о бруствер. Я тоже встал — от долгого ожидания
замерзли ноги…
Лютиков лежал метрах в двадцати от нашего окопа, уткнувшись лицом в снег. Одна
рука протянута была вперед, другая прижата к груди. Шапки на нем не было. Рукавиц
тоже. Запасная зажигательная трубка вывалилась из кармана и валялась рядом. Мы
втащили его в окоп…
Мы похоронили Лютикова около той самой железобетонной трубы, где он был
смертельно ранен. Вместо памятника поставили взорванную им немецкую пушку — вернее
остатки покореженного лафета — и приклеили маленькую фотографическую карточку,
найденную у него в бумажнике.
По В. Некрасову
Текст 5.
Немцы стреляют. Наши отвечают. Пули то и дело свистят над головой. Так мы лежим – я и Харламов, холодный, вытянувшийся, с тающими на руках снежинками. Часы
остановились. Я не могу определить, сколько времени мы лежим. Ноги и руки затекают.
Опять схватывает судорога. Сколько можно так лежать? Может, просто вскочить и
побежать? Тридцать метров — пять секунд, самое большее, пока пулеметчик спохватится.
Выбежали же утром тринадцать человек.
В соседней воронке кто-то ворочается. На фоне белого, начинающего уже таять снега
шевелится серое пятно ушанки. На секунду появляется голова. Скрывается. Опять
показывается. Потом вдруг сразу из воронки выскакивает человек и бежит. Быстро,
быстро, прижав руки к бокам, согнувшись, высоко подкидывая ноги.
Он пробегает три четверти пути. До окопов остается каких-нибудь восемь — десять
метров. Его скашивает пулемет. Он делает еще несколько шагов и прямо головой падает
вперед. Так и остается лежать в трех шагах от наших окопов. Некоторое время еще темнеет
шинель на снегу, потом и она становится белой. Снег все идет и идет…
Потом еще трое бегут. Почти сразу все трое. Один в короткой фуфайке. Шинель,
должно быть, скинул, чтоб легче бежать было. Его убивает почти на самом бруствере.
Второго — в нескольких шагах от него. Третьему удается вскочить в окоп. С немецкой
стороны пулемет долго еще сажает пулю за пулей в то место, где скрылся боец.
Я каблуками вырываю углубление в воронке. Теперь можно вытянуть ноги. Еще одно
углубление для харламовских ног. Они уже окостенели и не разгибаются в коленях.
Кое-как я их все-таки впихиваю туда. Теперь мы лежим рядом, вытянувшись во весь рост.
Я на боку, он на спине. Похоже, что он спит, прикрыв лицо шапкой от снега.
Работа меня немного согревает. Укладываюсь на левый бок, чтобы не видеть
Харламова. Под бедром тоже немножко раскапываю — так удобнее лежать. Теперь хорошо.
Лишь бы только наши дальнобойки не открыли огня по немецкой передовой. И покурить
бы… Хоть три затяжки. Табак я забыл у Ширяева в блиндаже. Только спички тарахтят в
кармане.
Меня клонит ко сну. Снег подо мной тает. Серая пыль превращается в грязь. Колени
промокли. И голова мерзнет. Я снимаю с Харламова шапку и накрываю лицо ему
носовым платком. Чищу пистолет. Это — чтоб не заснуть. В нем оказывается всего четыре
патрона. Запасной обоймы тоже нет.
Который сейчас может быть час? Вероятно, уже больше двенадцати. А темнеет только
в шесть. Еще шесть часов лежать. Шесть часов — целая вечность.
Я опускаю наушники и закрываю глаза. Будь что будет.
По В. Некрасову
Текст 6.
Охрипший голос штабного телефониста, который, ожесточенно вертя рукоятку
коммутатора и нажимая кнопки, тщетно вызывал часть, занимавшую отдаленный рубеж.
Враг окружал эту часть. Надо было срочно связаться с ней, сообщить о начавшемся
обходном движении противника, передать с командного пункта приказ о занятии другого
рубежа, иначе – гибель…
И вот тогда человек, который только вчера под огнем прополз всю равнину, хоронясь за сугробами, переползая через холмы, зарываясь в снег и волоча за собой телефонный
кабель, человек, о котором мы прочли потом в газетной заметке, поднялся, запахнул белый
халат, взял винтовку, сумку с инструментами и сказал очень просто:
– Я пошел. Обрыв. Ясно. Разрешите?
Провод шел сквозь разрозненные елочки и редкие кусты. Вьюга звенела в осоке над
замерзшими болотцами. Человек полз. Немцы, должно быть, вскоре заметили его….
Горячие осколки мин противно взвизгивали над самой головой, шевеля взмокшие волосы,
вылезшие из-под капюшона, и, шипя, плавили снег совсем рядом…
Он не слышал боли, но почувствовал, должно быть, страшное онемение в правом боку и, оглянувшись, увидел, что за ним по снегу тянется розовый след. Больше он не оглядывался. Метров через триста он нащупал среди вывороченных обледенелых комьев земли колючий конец провода. Здесь прерывалась линия. Близко упавшая мина порвала провод и далеко в сторону отбросила другой конец кабеля. Ложбинка эта вся простреливалась минометами. Но надо было отыскать другой конец оборванного провода, проползти до него, снова срастить разомкнутую линию.
Грохнуло и завыло совсем близко. Стопудовая боль обрушилась на человека, придавила его к земле. Он отполз немного, и, наверное, ему показалось, что там, где он лежал минуту назад, на пропитанном кровью снегу, осталось все, что было в нем живого, а он двигается уже отдельно от самого себя. Но как одержимый он карабкался дальше по склону холма. Он помнил только одно: надо отыскать висящий где-то там, в кустах, конец провода, нужно добраться до него, уцепиться, подтянуть, связать. И он нашел оборванный провод. Неужели не хватит жизни, не будет уже времени соединить концы провода?
Человек в тоске грызет снег зубами. Он силится встать, опираясь на локти. Потом он
зубами зажимает один конец кабеля и в исступленном усилии, перехватив обеими руками
другой провод, подтаскивает его ко рту. Теперь не хватает не больше сантиметра. Человек
уже ничего не видит. Искристая тьма выжигает ему глаза. Он последним рывком дергает
провод и успевает закусить его, до боли, до хруста сжимая челюсти. Он чувствует знакомый кисловато-соленый вкус и легкое покалывание языка. Есть ток! И, нашарив винтовку помертвевшими, но теперь свободными руками, он валится лицом в снег, неистово, всем остатком своих сил стискивая зубы. Только бы не разжать… Немцы, осмелев, с криком набегают на него. Но опять он наскреб в себе остатки жизни, достаточные, чтобы приподняться в последний раз и выпустить в близко сунувшихся врагов всю обойму… А там, на командном пункте, просиявший телефонист кричит в трубку:
– Да, да! Слышу! Арина? Я – Сорока! Петя, дорогой! Принимай: номер восемь по
двенадцатому.
…Человек не вернулся обратно. Мертвый, он остался в строю, на линии. Он продолжал быть проводником для живых.
По Л.А. Кассилю
Текст 7
До войны Валицкий не испытывал особой симпатии к Сталину, хотя и отдавал
должное его несомненному уму и воле. Но с тех пор очень многое изменилось в душе
Валицкого, и теперь для него, как и для миллионов советских людей, с именем Сталина
связывались такие понятия, как Родина, Красная Армия, народ — словом, все самое святое,
дорогое каждому человеку. Постепенно убежденность, что каждый должен внести свой
вклад в дело спасения Родины, стала главной для Валицкого, определяющей его мысли и
поступки. И о Сталине он думал теперь только как о человеке, руководившем страной и
армией в этой тяжелейшей битве с вторгшимися на русскую землю гитлеровскими
ордами.
Девятого ноября Валицкий получил открытку, в которой его извещали, что он может
прикрепить свои карточки к столовой Дома ученых и впредь пользоваться ею.
Дом ученых располагался в великолепном, роскошно обставленном бывшем
великокняжеском особняке на невской набережной. Столовая за Дубовым залом была
погружена во мрак: окон в этом помещении не было никогда, но раньше оно хорошо
освещалось, а сейчас здесь тускло мерцали керосиновые лампы.
Гнетущее впечатление произвел на Валицкого и внешний вид людей, сидевших за
столиками без скатертей. Многих из них он хорошо знал — это были известные ученые, и
Валицкий привык видеть их отлично, со старомодной респектабельностью одетыми. А
теперь они сидели в каких-то неуклюжих шубах, небритые, в шайках и башлыках…
Валицкий не подумал о том, что и сам выглядит не лучше — в ватнике и надетой поверх него шинели, полученной еще в ополчении, валенках, которые выменял у дворника за отличный, английской шерсти костюм.
Но, поговорив со знакомыми, которых он встретил в столовой, Федор Васильевич был потрясен уже совсем другим — он узнал, что многие видные ученые, и отнюдь не только те, кто непосредственно связан с выполнением чисто оборонных заданий, остались в
Ленинграде и продолжают работать. В Физико-техническом институте, например,
изучают возможности получения пищевого масла из различных лакокрасочных
продуктов и отходов, а профессора Лесотехнической академии нашли способ добывать
белковые дрожжи из целлюлозы. Валицкий с горечью подумал, что его личный вклад в
дело обороны несравненно меньше — не надо быть академиком архитектуры для того,
чтобы рисовать плакаты…
Его коллеги-архитекторы создавали агитационные комплексы на магистралях города,
ведущих к фронту: у Московских и Нарвских ворот, у Финляндского вокзала, на Сенной и
Красной площадях и в центре — у Гостиного двора. Он мог бы, конечно, включиться в эту
работу, но по-прежнему все еще не расставался с надеждой вернуться на фронт, хотя
трезво отдавал себе отчет в том, что теперь, ослабевший от недоедания, вряд ли может
принести там какую-нибудь реальную пользу.
По А. Чаковскому
Текст 8.
Был у нас в роте один солдат. До войны он учился в музыкальном институте и так
замечательно играл на баяне, что один из бойцов как-то сказал:
— Братцы, это уму непостижимый обман! Наверное, в этом ящике спрятан какой-то
хитрый механизм! Вот посмотреть бы…
— Пожалуйста,— ответил баянист.— Мне как раз пора мехи подклеить.
И у всех на глазах разобрал инструмент.
— Тю-ю,— разочарованно протянул боец.— Пусто, как в стреляной гильзе…
Внутри баяна, между двух деревянных коробков, соединённых кожаным мехомгармошкой, в самом деле было пусто. Лишь на боковых дощечках, там, где снаружи
расположены кнопки-пуговицы, оказались широкие металлические пластины с дырочками
разных размеров. За каждой дырочкой спрятана узкая медная планка-лепесток. При
растягивании меха воздух проходит через отверстия и приводит в колебание медные
лепестки. И те звучат. Тонкие — высоко. Потолще — пониже, а толстые лепестки словно
поют басом. Если музыкант сильно растягивает мехи — пластинки звучат громко. Если
воздух нагнетается слабо, пластинки колеблются чуть-чуть, и музыка получается тихойтихой. Вот и все чудеса!
А настоящим чудом были пальцы нашего баяниста. Удивительно играл, ничего не
скажешь! И это удивительное умение не раз помогало нам в трудной фронтовой жизни.
Наш баянист и настроение вовремя поднимет, и на морозе греет — заставляет плясать, и
бодрость в приунывшего вселяет, и довоенную счастливую юность заставит вспомнить:
родные края, матерей и любимых. А однажды…
Однажды вечером по приказу командования мы меняли боевые позиции. В бой с
немцами велено было ни в коем случае не вступать. На нашем пути протекала не очень
широкая, но глубокая речка с одним-единственным бродом, которым мы и
воспользовались. На том берегу остались командир и радист, они заканчивали сеанс связи.
Их-то и отрезали внезапно нагрянувшие фашистские автоматчики. И хотя немцы не знали,
что наши были на их берегу, переправу держали под огнём, и перейти брод не было
никакой возможности. А когда наступила ночь, немцы стали освещать брод ракетами. Что и
говорить — положение казалось безвыходным.
Вдруг наш баянист, ни слова не говоря, достаёт свой баян и начинает играть «Катюшу».
Немцы сначала опешили. Потом опомнились и обрушили на наш берег шквальный огонь. А
баянист внезапно оборвал аккорд и замолк. Немцы перестали стрелять. Кто-то из них
радостно завопил: «Рус, Рус, капут, боян!»
А с баянистом никакого капута не произошло. Заманивая немцев, он отполз вдоль
берега подальше от переправы и снова заиграл задорную «Катюшу».
Немцы этот вызов приняли. Они стали преследовать музыканта, и поэтому на несколько
минут оставили брод без осветительных ракет.
Командир и радист тотчас сообразили, для чего наш баянист затеял с немцами
«музыкальную» игру, и, не мешкая, проскочили бродом на другой берег.
Вот какие случаи бывали с нашим солдатом-баянистом и его другом баяном, к слову
сказать, названным так в честь древнерусского певца Б о я н а.
По Г.В. Абрамяну


 Ложный и истинный патриотизм. Практического каждого персонажа затронул дух патриотизма, однако проявлялось это по-разному. Андрей Болконский, Денис Давыдов, Николай Ростов отчаянно сражались в бою, стремясь разгромить врага и защитить народ. Они были готовы отдать свои жизни, в чем и проявляется истинный патриотизм. Антипод этому — патриотизм ложный, ярко выраженный в образе Анны Павловны Шер и людей в ее окружении. Идет война, а они продолжают вести светскую жизнь. Их противостояние врагу заключалось только в осуждающих разговорах, отказе от французского языка и французских блюд.
Ложный и истинный патриотизм. Практического каждого персонажа затронул дух патриотизма, однако проявлялось это по-разному. Андрей Болконский, Денис Давыдов, Николай Ростов отчаянно сражались в бою, стремясь разгромить врага и защитить народ. Они были готовы отдать свои жизни, в чем и проявляется истинный патриотизм. Антипод этому — патриотизм ложный, ярко выраженный в образе Анны Павловны Шер и людей в ее окружении. Идет война, а они продолжают вести светскую жизнь. Их противостояние врагу заключалось только в осуждающих разговорах, отказе от французского языка и французских блюд.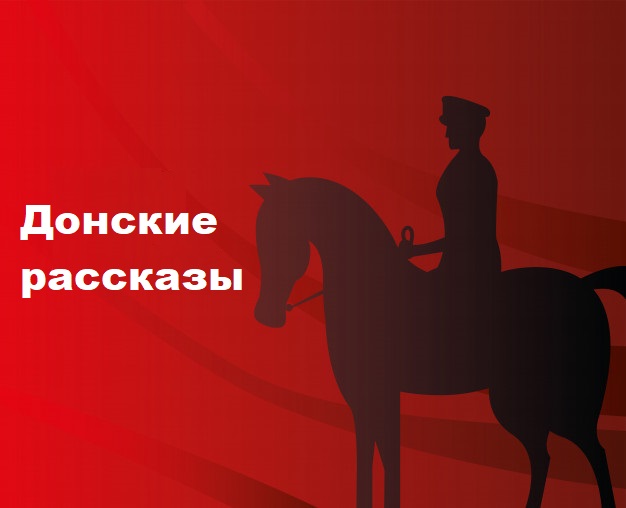 Люди меняются, если есть ради кого. Центральным героем в рассказе «Шибалково семя» является Яков Шибалко, человек-боец, который всегда находится в гуще сражения. Он ежедневно наблюдает за убийствами и зверствами солдат и не видит ничего плохого в этом, ведь страна целиком охвачена войной. Убивать противников стало для него делом обыденным. Будучи одиноким человеком, Яков меняется, когда у него рождается сын. Сослуживцы посоветовали ему убить младенца, ударив «головой об колесо», а тот не смог. Неожиданно Шибалко предстает перед читателями в совершенно ином свете – оказывает он еще способен сострадать и чувствовать. Ему не безразлична судьба сына и Яков становится любящим отцом.
Люди меняются, если есть ради кого. Центральным героем в рассказе «Шибалково семя» является Яков Шибалко, человек-боец, который всегда находится в гуще сражения. Он ежедневно наблюдает за убийствами и зверствами солдат и не видит ничего плохого в этом, ведь страна целиком охвачена войной. Убивать противников стало для него делом обыденным. Будучи одиноким человеком, Яков меняется, когда у него рождается сын. Сослуживцы посоветовали ему убить младенца, ударив «головой об колесо», а тот не смог. Неожиданно Шибалко предстает перед читателями в совершенно ином свете – оказывает он еще способен сострадать и чувствовать. Ему не безразлична судьба сына и Яков становится любящим отцом. У войны не женское лицо. Пять юных девушек, которые даже не успели познать жизнь, были вынуждены взять в руки оружие. Несмотря на возраст, девушки показали мужество и отвагу, выступая против диверсантов. Произведение показывает противоестественность их смерти. Женька — красивая и смелая девчонка, которой гулять бы и гулять, но она умирает в попытке спасти Риту. Однако Рита получает смертельное ранение в живот и, чтобы не стать обузой, убивает себя. У нее остается сын. Романтичная Галя — сирота, погибает со словом «мама» на устах. Лиза, которая мечтала о любви, утонула в болоте. Соню, образованную и утонченную девушку, убили, когда она вернулась за кисетом старшины.
У войны не женское лицо. Пять юных девушек, которые даже не успели познать жизнь, были вынуждены взять в руки оружие. Несмотря на возраст, девушки показали мужество и отвагу, выступая против диверсантов. Произведение показывает противоестественность их смерти. Женька — красивая и смелая девчонка, которой гулять бы и гулять, но она умирает в попытке спасти Риту. Однако Рита получает смертельное ранение в живот и, чтобы не стать обузой, убивает себя. У нее остается сын. Романтичная Галя — сирота, погибает со словом «мама» на устах. Лиза, которая мечтала о любви, утонула в болоте. Соню, образованную и утонченную девушку, убили, когда она вернулась за кисетом старшины.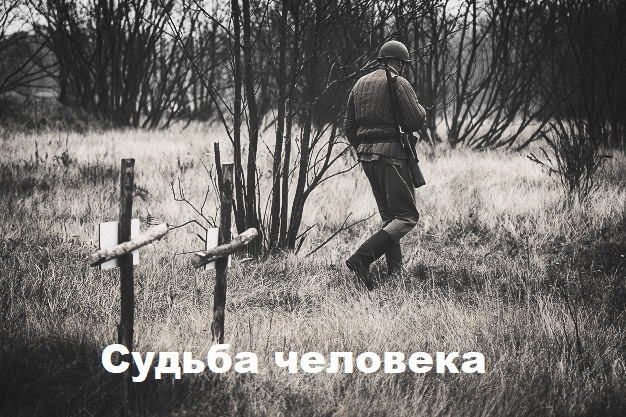 Проблема семьи. Во время гражданской войны Андрей Соколов теряет мать и сестру. Великая Отечественная унесла жизни его жены, двоих дочерей и сына. Судьба Андрея — это один пример из тысячи подобных, которые свидетельствуют о том, какой разрушительный эффект оказывает война. Соколов сталкивается с сироткой, мальчиком Ванюшей, который растет беспризорником. Он усыновляет его и обретает новый смысл жизни. Рассказ отражает судьбу людей, которым удалось пережить ужасные послевоенные годы и обрести надежду на счастье.
Проблема семьи. Во время гражданской войны Андрей Соколов теряет мать и сестру. Великая Отечественная унесла жизни его жены, двоих дочерей и сына. Судьба Андрея — это один пример из тысячи подобных, которые свидетельствуют о том, какой разрушительный эффект оказывает война. Соколов сталкивается с сироткой, мальчиком Ванюшей, который растет беспризорником. Он усыновляет его и обретает новый смысл жизни. Рассказ отражает судьбу людей, которым удалось пережить ужасные послевоенные годы и обрести надежду на счастье. Патриотизм. В образе главного героя Твардовский представил весь русский народ в целом, который смог объединиться и победить врага. Василий идет на фронт не только потому, что это его обязанность, но и осознанное желание. То есть он чувствует искреннее желание помочь Родине и народу. Он должен защитить родные земли от фашистского захватчика, даже если придется пожертвовать собственной жизнью.
Патриотизм. В образе главного героя Твардовский представил весь русский народ в целом, который смог объединиться и победить врага. Василий идет на фронт не только потому, что это его обязанность, но и осознанное желание. То есть он чувствует искреннее желание помочь Родине и народу. Он должен защитить родные земли от фашистского захватчика, даже если придется пожертвовать собственной жизнью. Проблема «Потерянного поколения». Наступил долгожданный мир. Три товарища, Готтфрид, Отто и Роберт, смогли выжить и вернуться домой. Однако чувство безысходности и боли, которое появилось с началом войны никуда не делось. Перед глазами все также стояли ужасающие и жестокие события, свидетелями и участниками которых им довелось стать. У них нет настоящего, будущее потеряно, есть только военное прошлое – именно поэтому их окрестили потерянным поколением. Свое спасение три товарища видят в дружбе и выпивке.
Проблема «Потерянного поколения». Наступил долгожданный мир. Три товарища, Готтфрид, Отто и Роберт, смогли выжить и вернуться домой. Однако чувство безысходности и боли, которое появилось с началом войны никуда не делось. Перед глазами все также стояли ужасающие и жестокие события, свидетелями и участниками которых им довелось стать. У них нет настоящего, будущее потеряно, есть только военное прошлое – именно поэтому их окрестили потерянным поколением. Свое спасение три товарища видят в дружбе и выпивке.