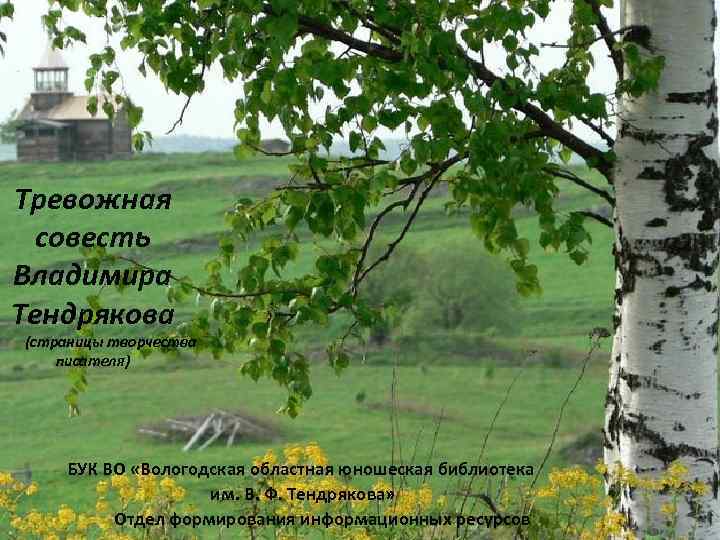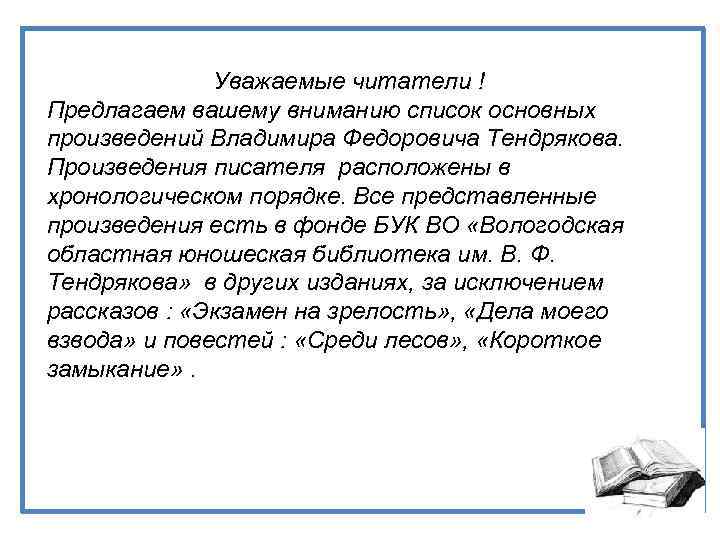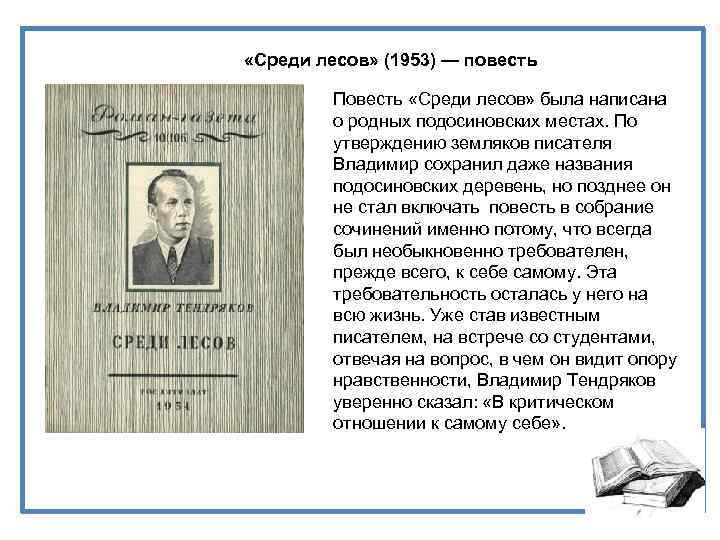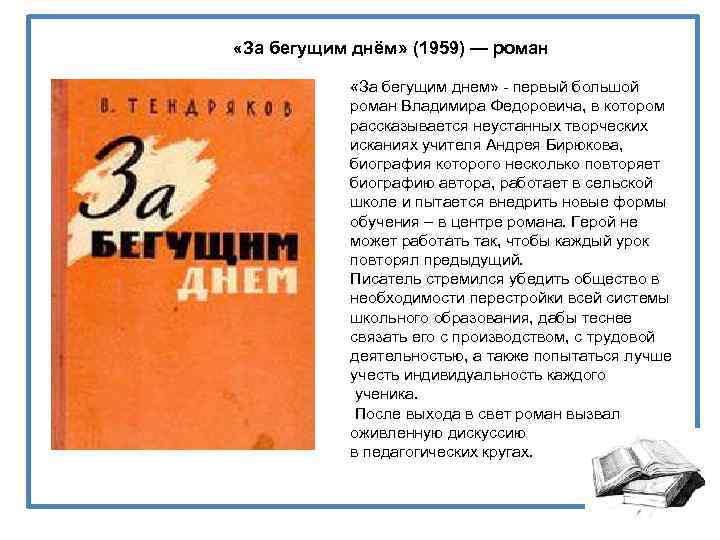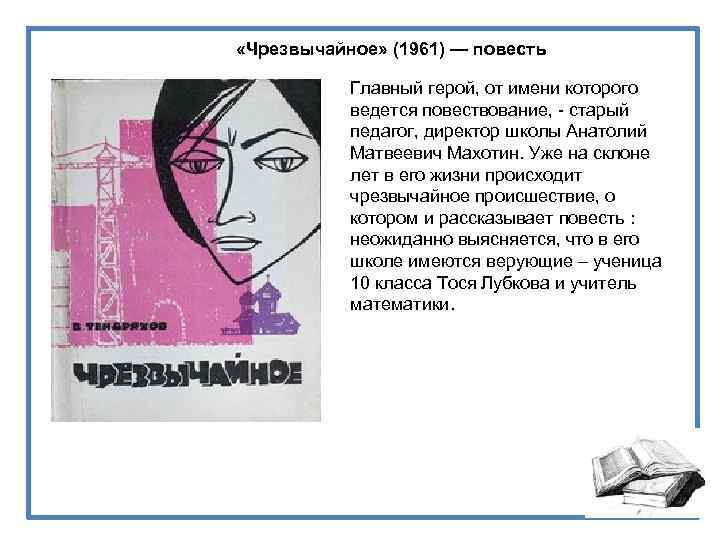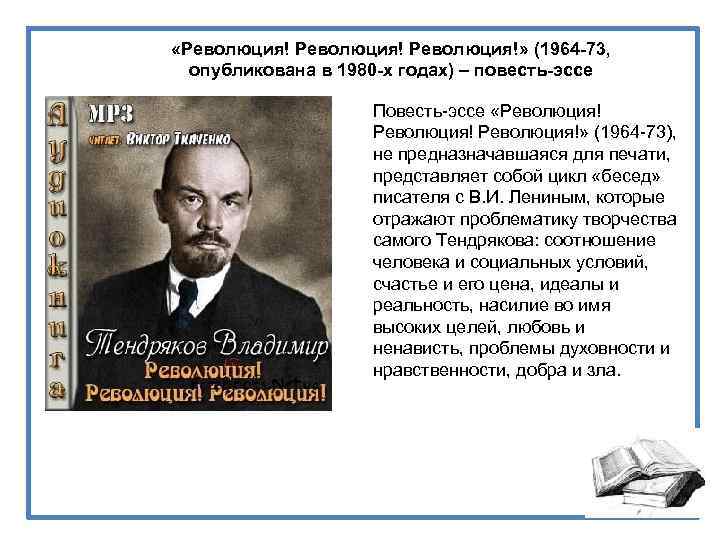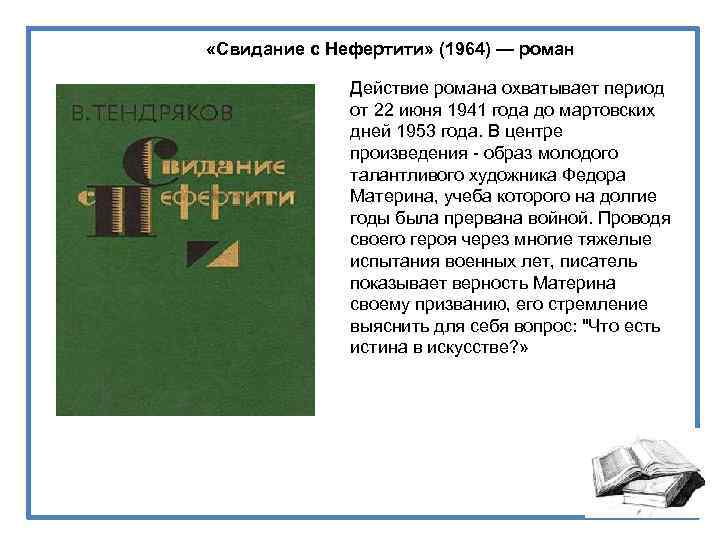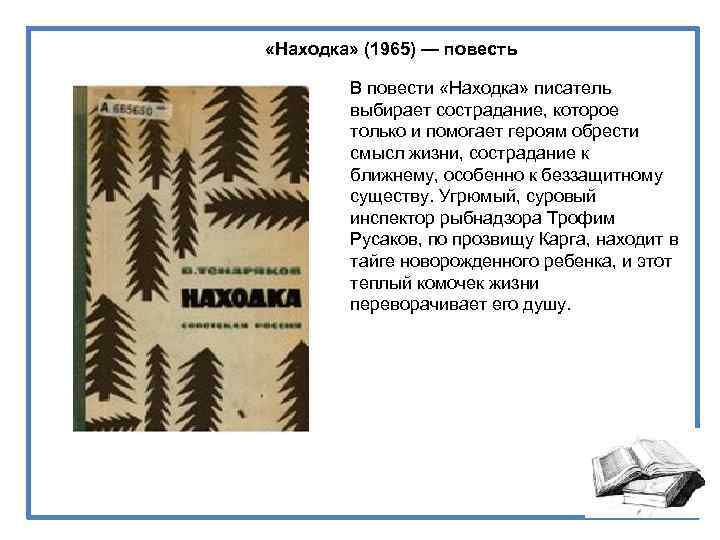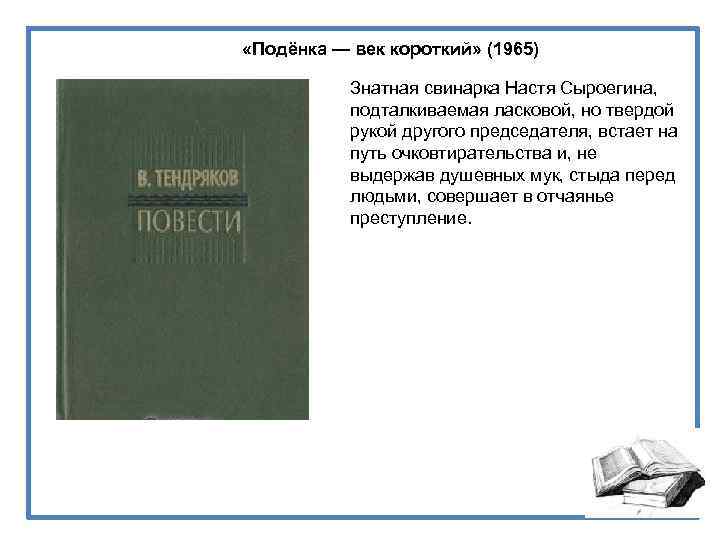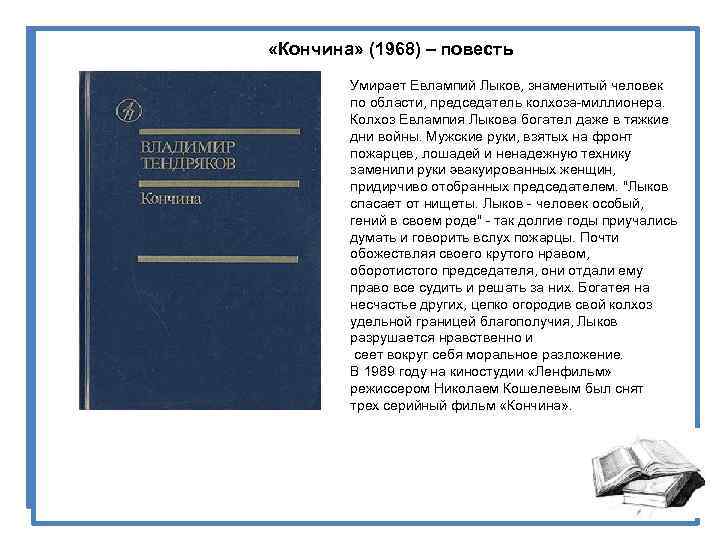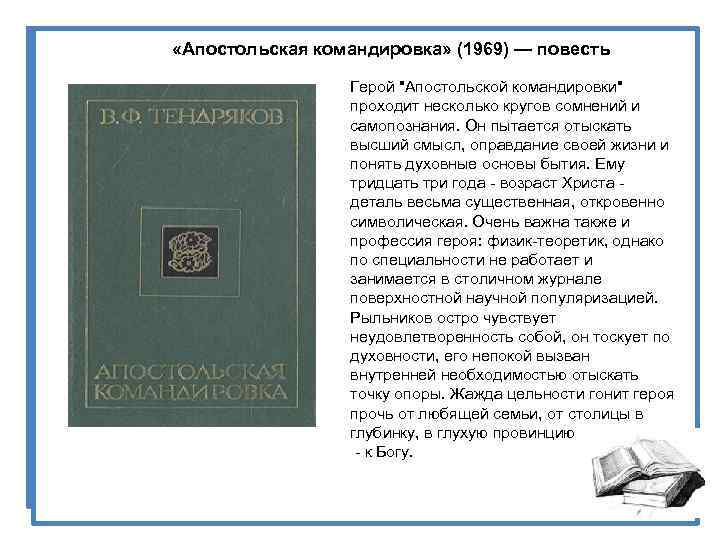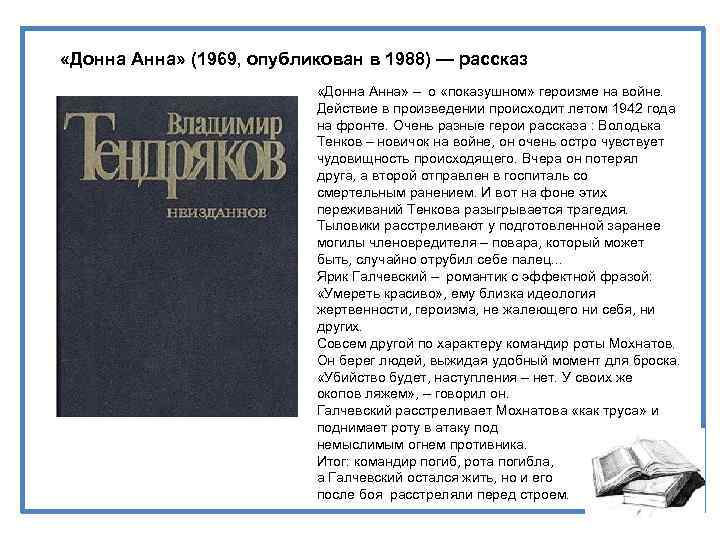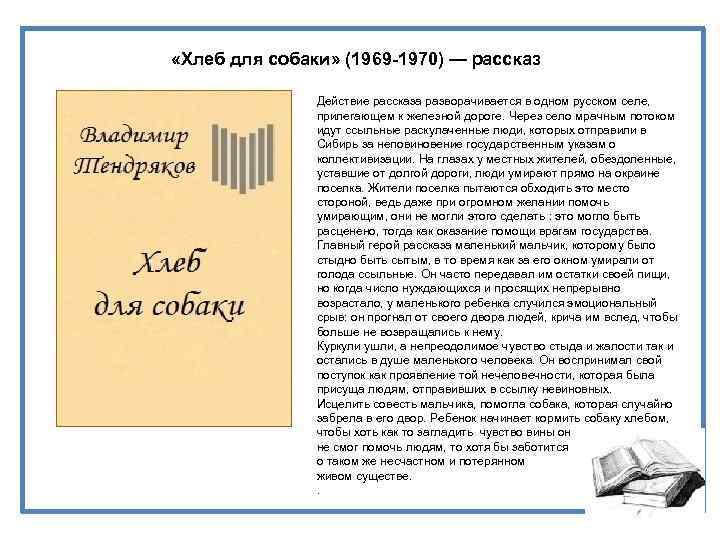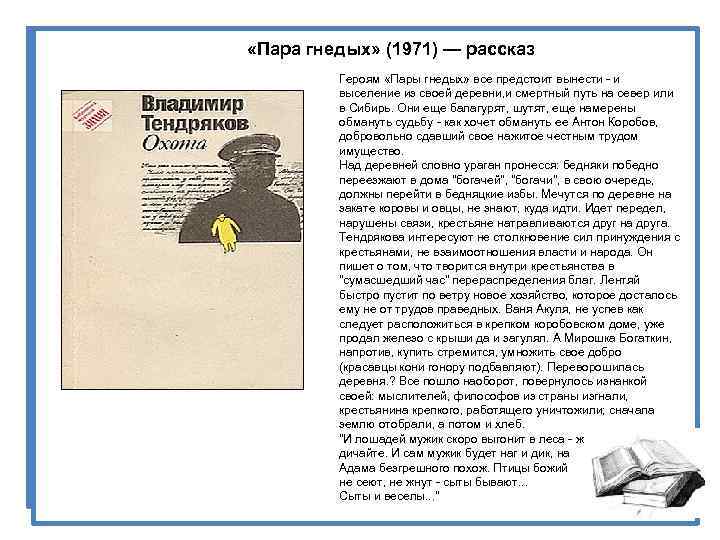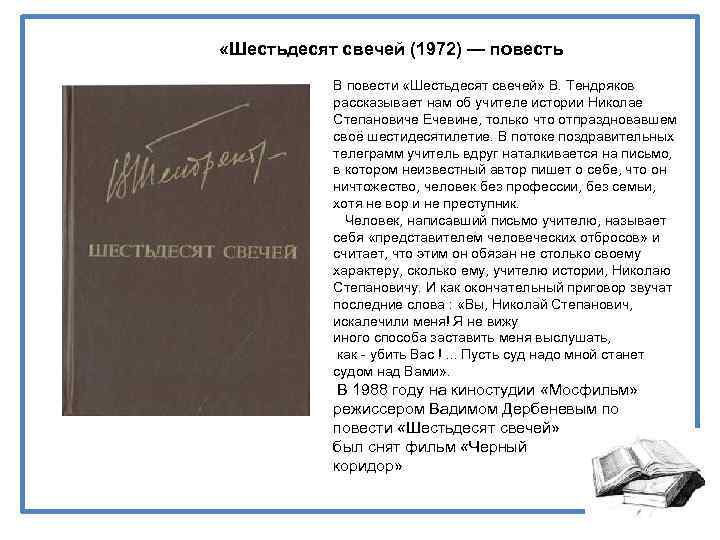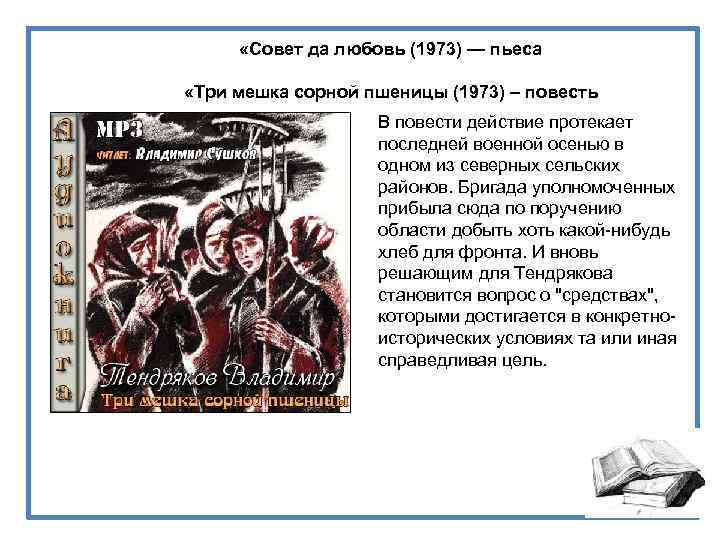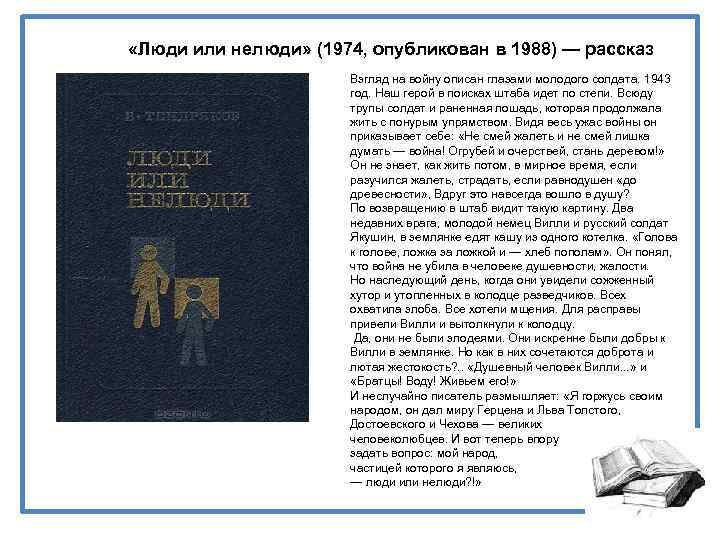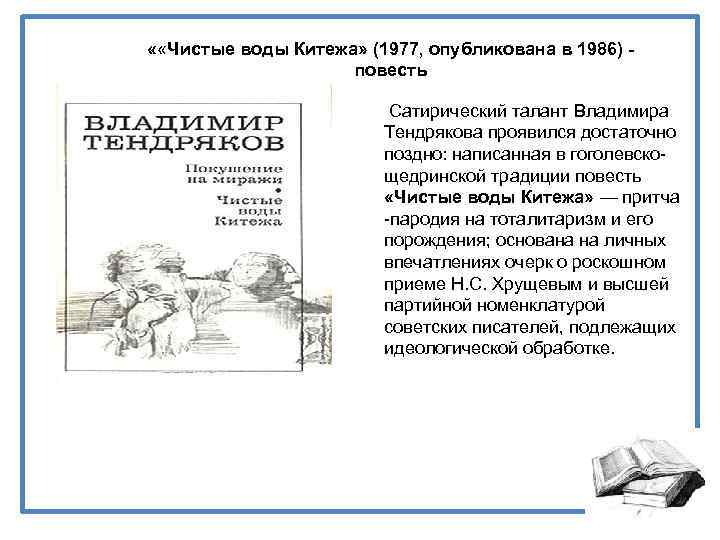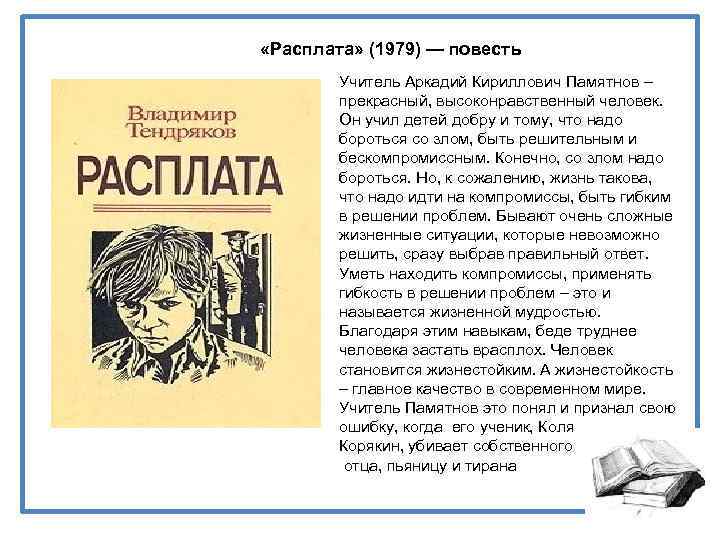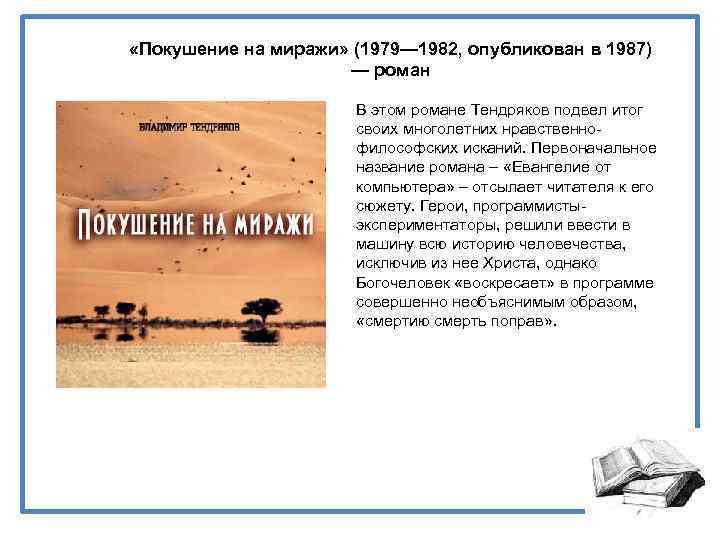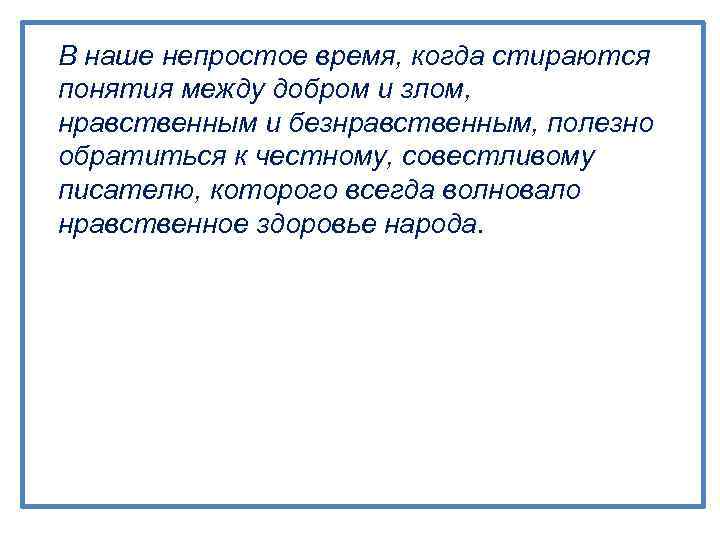План-конспект урока по повести В.Тендрякова «Подёнка – век короткий». История нравственного перерождения человека.
Цели урока:
Образовательные:
- Осмыслить идейное содержание повести.
- Продолжить формирование навыков вдумчивого чтения.
- Продолжить развитие умения анализировать художественный текст, выделять проблемы, формулировать тему и идею урока, аргументировать свое высказывание.
Развивающие:
- Развивать речь, мышление, умение дискутировать с обоснованием своего мнения.
- Совершенствовать умение анализировать, доказывать, формулировать выводы.
Воспитательные:
- Воспитывать чувство ответственности за свои поступки и умение их оценивать честно и объективно.
- Подтолкнуть ребят внимательнее посмотреть вокруг себя, нет ли рядом человека, который нуждается в их понимании, в их участии, в их сочувствии.
Ход урока.
Слово учителя:
— Ребята, сегодня у нас урок внеклассного чтения по повести Владимира Фёдоровича Тендрякова «Подёнка – век короткий»
— Мир, в котором живет человек, разнообразен и переменчив. Мир добра и зла, мир жестокости и милосердия. И в этом огромном мире человек – маленькая песчинка. Маленькая песчинка, но великая тайна. А проникнуть в эту тайну нам помогает литература, в частности произведения В.Ф.Тендрякова. Для него характерно столкновение полярных начал, экстремальные ситуации, в которых обнажается сущность персонажей. Начинается всё вроде с мелочей, а затем перерастает в проблему, от которой уже нельзя отмахнуться.
Творчество В.Тендрякова лишний раз доказывает, что в искусстве важно не только что, но и как поведать.
И тогда – в малом проглянет большое, в единичном – закономерное.
И тогда произведения, написанные на «злобу дня», обретают долгую жизнь, становятся тем ориентиром, по которому вымеряют пройденное и прикидывают дорогу вперед.
В.Ф.Тендряков родился в 1923 году в д. Макаровская Вологодской области. Сразу после окончания школы пошёл на фронт. Радист стрелкового полка В.Тендряков участвовал в тяжёлых боях под Сталинградом и Харьковом. Ранение вернуло к мирной жизни. Работает сначала учителем в сельской школе, затем секретарем райкома комсомола, учится в Литературном институте имени Горького.
Основные темы произведений – жизнь колхозной деревни, современной школы, воспитание молодого человека, история страны в наиболее трудные периоды её развития.
Тендряков ставит острейшие вопросы, связанные с жизнью деревни, проблемы двойной морали, образования и воспитания и много других.
Первый рассказ был опубликован в 1947 году. В.Тендряков обрёл собственный голос почти сразу. Известность Тендрякову принесла повесть «Падение Ивана Чупрова» (1953). Здесь он напоминает, что экономические проблемы неотделимы от нравственных. И когда об этом забывают, то это приводит к тяжёлым, необратимым последствиям. Общее признание завоевала и повесть «Не ко двору» (1954), в которой семейный конфликт молодого тракториста Фёдора Соловейкова с ветхозаветным укладом семьи Ряшкиных заставил задуматься над вопросом, заданным Горьким: «Если я только для себя, то зачем я?»
Сложный внутренний мир художника, интеллигента, подростка раскрывается в таких произведениях писателя, как «Свидание с Нефертити», «За бегущим днём», «Ночь после выпуск», «Короткое замыкание», «Расплата», «Подёнка – век короткий».
Критика не раз упрекала писателя в том, что он не создал образ яркого положительного героя.
Действительно, у Тендрякова нет запоминающихся характеров, как Павел Корчагин. Но, как справедливо подчеркнула Ольга Берггоольц, «настоящим писателем-гуманистом может быть и тот, которому отрицательные герои удаются лучше положительных». Не силы зла у Тендрякова определяют смысл бытия; они, в толковании писателя, те опухоли, которые необходимо вырезать, чтобы организм функционировал нормально.
Книги Тендрякова зиждятся на вере в победу добра, на осознании ценности каждого человека, пусть даже он запутался в собственных противоречиях и в данный момент представляет угрозу для общества.
Василий Макарович Шукшин говорил, что человек проверяется тем, как родился, как женился, как умер.
— Как сложилась жизнь и судьба Насти Сыроегиной? В какой момент мы встречаемся с главной героиней?
Работа над содержанием повести:
— Сколько лет Насте? Найдите строчки, как говорит об этом автор.
— О чём же мечтает Настя?
— Где и кем работает главная героиня? Что случилась у неё в свинарнике?
— Что чувствовала Настя, когда вытаскивала мёртвых поросят? Почему?
— Найдите и зачитайте в 5-1 главе, почему Настя с мешком мёртвых поросят пришла к председателю?
— Чем закончилась её затея?
— Какой совет дал Насте Артемий Богданович?
— По каким принципам живёт председатель?
— «Весь мир Кешки, ты одна против всех» — почему так считает Настя?
— Какие противоречивые чувства испытывает Настя?
— Какое решение принимает Настя, когда поросята продолжают умирать?
Почему Настя не говорит председателю, что у неё продолжают умирать поросята? Поверил ли он?
— На что надеялась Настя, когда скрывала, что у неё дохнут поросята?
— Почему Настя всё чаще вспоминает присказку «Умный гору обойдёт»?
— А что такое совесть?
— Посмотрите в приложении 1, согласны ли вы с данными высказываниями?
— А чиста ли совесть у Насти?
— Оправдались ли надежды Насти?
— После летнего опороса, который прошёл обильнее, Настю командируют в Густоборовский район для обмена опытом. Что удивило героиню в этой поездке?
— Почему она не чувствует уважения к себе и испытывает ненависть к Ольге Карповой?
— При встрече Насти Костя вздрогнул: «Ты какая-то… не та…» Что почувствовал её муж?
— Какой жизни хочет Настя?
— Почему же Настя не радуется новому свинарнику?
— Прочитайте главу 20-ю. О чём она? Что тревожит Настю, почему она не может уснуть? Сопоставьте пейзажную зарисовку с состоянием Насти.
— Просмотрите цитаты из произведения и скажите, какие изменения происходят с героиней? Какие чувства испытывает она? По ним легко проследить, как из заботливой свинарки Настя превращается в человека, готового на преступление.
— К какому решению пришла Настя? Легко ли далось оно ей? Почему именно такое решение принимает?
— Смогла ли остаться равнодушной Настя Сыроегина к содеянному?
— Как называет она себя?
— Чем заканчивается повесть?
— Как вы думаете, что дальше будет с Настей? Погибла ли она для людей?
— Почему повесть называется «Подёнка- век короткий»?
Дискуссия:
— Каковы причины нравственного падения Насти?
— Нравственное воспитание человека, чьё это дело?
Слово учителя:
Книги Тендрякова зиждятся на вере в победу добра, на осознании ценности каждого человека, пусть даже он запутался в собственных противоречиях и в данный момент представляет угрозу для общества.
Таковы и Настя Сыроегина, и Лёшка Малинкин («Тройка, семёрка, туз»), и Коля Корякин («Расплата»). Они не погибли для людей, нужно только вовремя протянуть им руку помощи. Не случайно «Подёнка – век короткий» заканчивается авторским призывом: «Люди добрые, спасите Настю».
В.Тендряков создаёт характеры-предостережения, которые учат «беречь честь смолоду»
Биография В.Тендрякова
Влади́мир Фёдорович Тендряко́в (5 декабря 1923, д. Макаровская, Вологодская губерния — 3 августа 1984, Москва) — русский советский писатель, автор остроконфликтных повестей о духовно-нравственных проблемах современной ему жизни, острых проблемах советского общества, о жизни в деревне. Член Союза писателей СССР.
Родился 5 декабря 1923 года в деревне Макаровская (ныне Шелотское сельское поселение Верховажского района Вологодской области) в семье народного судьи, затем ставшего прокурором. В декабре 1941 года был призван в РККА и направлен в школу младших командиров, по окончании которой получил званиe младшего сержанта-радиста. В июле 1942 года отправлен на фронт. Первое ранение получил под Сталинградом. В августе 1943 года под Харьковом был ранен вторично, на этот раз тяжело и после лечения в госпитале демобилизован в январе 1944 года. Обосновался в Кировской области, работал школьным учителем (преподавал военное дело), затем был секретарём Подосиновского райкома комсомола.
В 1945 году переехал в Москву. Осенью 1945 года поступил во Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК) на художественный факультет, но уже через год перешёл в Литературный институт имени А. М. Горького, который окончил в 1951 году. Учился в семинаре К. Г. Паустовского.
Член ВКП(б) с 1948 года.
В студенческие годы начинает писать рассказы, некоторые из которых были опубликованы в период с 1948 по 1953 год в журнале «Огонёк». С 1955 года стал профессиональным писателем, полностью отдавшись литературному труду.
Начиная с 1960-х годов, практически все произведения Тендрякова сталкиваются с советской цензурой. Многие из них были опубликованы только в годы Перестройки, уже после смерти писателя.
С 1964 года являлся членом редакционной коллегии журнала «Наука и религия».
В 1966 году подписал письмо 25-ти деятелей культуры и науки генеральному секретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу против реабилитации Сталина.
Член правления СП СССР (избран в 1967, переизбирался в 1971, 1976 и 1981 годах).
Скончался 3 августа 1984 года от инсульта. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище.
Приложение 1
Как мы, молодые люди начала третьего тысячелетия, понимаем, что такое совесть?
- Немецкий учёный М.Фасмер соотносит значение слова совесть с понятием, заключённым в глаголе ведать, которое, с его точки зрения, в целом ряде европейских и древнеиндийских языках восходит к словам знать, я знаю, мы знаем, я вижу, знание, знающий.
- Совесть – это «…внутреннее сознание добра и зла… способность распознать качество поступка; чувство, побуждающее к истине и добру, отвергающее ото лжи и зла…»
- Наше собственное толкование слова совесть (варианты ответов):
- Обычно говорят, когда ругают: совести у тебя нет, тебе не стыдно. Совесть – это умение осознать, что ты поступил плохо.
- Если ты совершишь дурной поступок, тебе тут же скажут: как тебе только совесть позволила? Но человек не всегда может отчитаться за свои поступки. И только то, как он это переживает, говорит о его совести.
- Совесть – это качество души каждого человека. Например, человек поступил неправильно, жестоко, и он сам это понимает; проходит время, он всё больше убеждается, что поступил неправильно, и начинает действовать – помогает, извиняется и т.д. Совесть диктует человеку поступки, искупающие его вину.
- Говорят, заговорила совесть. Значит, совесть – это что-то живое, действующее.
- Совесть – это чувство человека, которое контролирует отношения между людьми. Совесть заставляет человека посмотреть на свои поступки со стороны. Это внутренний контролёр, помогающий человеку сделать правильный выбор.
- Ключевые слова: ведать, знать, знающий, умеющий; сознание добра и зла, способность распознать качество поступка; умение осознать свой поступок; толчок к размышлениям над собственным поступком; что-то живое, действующее; высший личный судья человека; умение не идти на компромисс с собой в выборе между добрым и злым; внутренний контролёр, помогающий в выборе между добром и злом.
Вывод: Итак, совесть – это высший личный судья человека, знающий, ведающий, как должен поступить человек, чтобы избежать компромисса с самим собой в выборе между добром и злом; это внутренний контролёр, помогающий человеку осознать степень собственной вины и понять необходимость искупления её, если выбор был сделан неправильно.
Бескомпромиссная; звенящая;
Тревожная; честная;
Бунтующая; тревожащая;
Беспокойная; предупреждающая;
Неподкупная; набатная;
Неумершая; зовущая
- Взрослым: Skillbox, Хекслет, Eduson, XYZ, GB, Яндекс, Otus, SkillFactory.
- 8-11 класс: Умскул, Лектариум, Годограф, Знанио.
- До 7 класса: Алгоритмика, Кодланд, Реботика.
- Английский: Инглекс, Puzzle, Novakid.
Подёнка – век короткий (В.Ф. Тендряков). Очень краткое содержание
За 5 секунд
Невезучая Настя становится знатной свинаркой, но занимается приписками. Она разъезжает по совещаниям, но после строительства нового свинарника понимает, что ее жизни конец. Она поджигает свинарник.
За минуту
https://dzodzo.ru/wp-content/uploads/podyonka-vek-korotkij-v-f-tendryakov-ochen-kratkoe-soderzhanie.mp3
Отец Насти Сыроегиной погиб на фронте. Когда девушка выросла, ей не везло с женихами. Последний, Кеша, предлагал ей уехать в город и бросить мать, но Настя отказалась.
Настя работала в свинарнике в деревне Утицы. Начался падеж поросят из-за авитаминоза. Председатель колхоза Артемий Богданович обвинил Настю, и она за свои деньги в мороз привезла из города рыбий жир.
Она пыталась выходить умирающих поросят, но они все равно дохли. Настя занялась приписками, чтобы выгодно выглядеть в соцсоревновании. Одного поросенка она выходила и назвала Кешей. Он ходил за ней, как собака.
Настя не сообщала о потерях, и вскоре ее стали ставить в пример другим. Она попала в газеты. В нее влюбился коррепондент Костя. Председатель привел его сватать, и Настя с Костей поженились.
Настя заделалась знатной свинаркой.. В Утицах строили новый свинарник, и Настя понимала, что ее приписки откроются. Однажды она выпустила Кешу и подожгла свинарник. Кеша шел за ней, и она ударила его камнем, чтоб не выдал.
- Взрослым: Skillbox, Хекслет, Eduson, XYZ, GB, Яндекс, Otus, SkillFactory.
- 8-11 класс: Умскул, Лектариум, Годограф, Знанио.
- До 7 класса: Алгоритмика, Кодланд, Реботика.
- Английский: Инглекс, Puzzle, Novakid.
Владимир
Федорович Тендряков родился в 1923 году
в деревне Макаровская Вологодской
области в семье сельского служащего.
После окончания средней школы ушел на
фронт и служил радистом стрелкового
полка. В боях за Харьков получил тяжелое
ранение, демобилизовался, учительствовал
в сельской школе, был избран секретарем
райкома комсомола. Первой мирной осенью
поступил на художественный факультет
ВГИКа, а затем перешел в Литературный
институт, который окончил в 1951 году. С
1948 года В. Тендряков — член Коммунистической
партии. Работал корреспондентом журнала
«Огонек», писал сельские очерки, в
1948 гаду опубликовал свой первый рассказ
в альманахе «Молодая Гвардия».
Но
в нашем читательском сознании Тендряков
заявил о себе сразу, крупно и заметно,
в начале пятидесятых годов, словно бы
миновав пору литературного ученичества.
Время, общественная ситуация способствовали
появлению целой плеяды писателей, устами
которых правдиво заговорила доселе
почти молчаливая или пейзански
подгриммированная послевоенная деревня.
Вслед за очерками рассказами Валентина
Овечкина, Гавриила Троепольского в
ранних произведениях В. Тендрякова были
публична обнажены серьезные противоречия
колхозной жизни тех лет, ставшие
впоследствии предметом пристального
общественного внимания.
Сельская
действительность сороковых — пятидесятых
годов, сложный процесс восстановления
в деревне нормальной жизни нашли в лице
Тендрякова сильного, смелого художественного
интерпретатора.
Другие
устойчивые мотивы его прозы — школа и
подросток, религия, искусство. Всю жизнь
его волновали проблемы выбора и долга,
веры и скепсиса. И до последних своих
дней он тревожно размышлял над вопросом:
«Куда движется человеческая история?»
Свидетельство тому — роман «Покушение
на миражи» (1978 — 1980) — наиболее глубокое
и сильное произведение Тендрякова, его
духовное завещание нам и будущему.
Но
о чем бы ни писал Тендряков, какую бы
жизненную ситуацию ни выбирал,
рассмотрение, художественный анализ
действительности всегда протекают у
него при свете нравственных требований
совести.
Совесть
в этическом кодексе Владимира Тендрякова
— основополагающее понятие, только она
способна осветить человеку глубокую
правду о нем самом и окружающем мире.
Уже
в первой своей повести «Падение
Ивана Чупрова» (1953)
Владимир Тендряков обращается к истории
нравственного перерождения человека,
корыстно использующего свое положение
в обществе. Не о материальной личной
корысти здесь идет речь, откровенные
рвачи и приобретатели не интересуют
писателя. Ему важно понять другой
нравственный феномен, издавна закрепленный
в таких, например, формулах, как «ложь
во благо» или «цель оправдывает
средства». Тема эта не оставляет,
тревожит Тендрякова, он возвращается
к ней постоянно, углубляя и варьируя ее
в разных произведениях.
Председатель
колхоза Иван Чупров ради колхозного
«блага» обманывает государство и
в результате морально гибнет сам и
приводит к развалу хозяйство.
Знатная
свинарка Настя Сыроегина, подталкиваемая
ласковой, но твердой рукой другого
председателя, встает на путь
очковтирательства и, не выдержав душевных
мук, стыда перед людьми, совершает в
отчаянье преступление («Поденка — век
короткий», 1965) .
Но
особенно полно и впечатляюще раскрыта
психология морального и социального
перерождения в повести Владимира
Тендрякова «Кончина» (1968).
Умирает
Евлампий Никитич Лыков, знаменитый
человек по области, председатель
колхоза-миллионера «Власть труда».
Умирает еще не старым, на шестьдесят
третьем году жизни, в собственном доме,
который «отличался от других домов
не красотою, не игривостью резных
наличников, а тяжеловесной добротностью:
кирпичный фундамент излишне высок и
массивен, стены обшиты пригнанной
шелевкой, оконные переплеты могучи,
крыша словно кичится, что на нее пошло
много кровельного железа,- в железо
упрятаны по пояс трубы, сверху на них
красуются грубые жестяные короны,
стоки-лотки несоразмерной величины и
длины. Добротность дома не просто
откровенна, она назойлива и даже чем-то
бесстыдна».
Неспроста
начинает Тендряков свою повесть с
описания лыковского дома. Дом несет
отпечаток характера своего хозяина,
которого большинство колхозников-односельчан
почитают чуть ли не за пророка, хозяина,
кормильца, давшего им безбедную жизнь.
Но
какой ценой пришло материальное
благополучие в колхоз «Власть труда»?
Если
вдуматься, страшная эта цена. «Доходы-то
миллионные, а «возлюби ближнего»
и не пахнет — у кого сердце болит, что
Пашка Жоров живет под худой крышей? А
ежели нет «возлюби», то и нет семьи,
есть казенная организация».
Колхоз
Евлампия Лыкова богатеет даже в тяжкие
дни войны. Мужские руки взятых на фронт
пожарцев, лошадей и ненадежную эмтээсовскую
технику заменили руки эвакуированных
женщин, придирчиво, как на ярмарке,
отобранных председателем. Померзший
картофель из соседних сел скупался за
бесценок, а то и вывозился даром и
пускался на патоку, затем на рынок. А
рядом, в деревне Петраковка, пацан малой
— «тугой барабан живота на кривых
тонких ножках» — остановившимися
светлыми глазами глядит на хлеб и яйца
не с жадностью, а с изумлением. Море
нищеты и горя омывает лыковский остров.
Два мира через узкую дорожку колхозных
границ.
«Лыков
спасает от нищеты. Лыков — человек особый,
гений в своем роде» — так долгие годы
приучались думать и говорить вслух
пожарцы. Почти обожествляя своего
крутого нравом, оборотистого председателя,
они отдали ему право все судить и решать
за них.
Писатель
глубоко вскрывает диалектику лыковского
перерождения. Мы следим за Евлампием
Никитичем на протяжении многих лет — от
первых коммун до конца пятидесятых
годов. Не родился Лыков хозяином и
«богом» для своих односельчан, был
как все, только, пожалуй, умнее и способнее
других и умело пользовался обстоятельствами,
которые то и дело принуждали его входить
в сделку с моральными принципами, ставить
материальные интересы своего хозяйства
превыше всего на свете. Рано выйдя в
передовые, в «маяки», он обрел и
общественный вес, и тогда-то появилось
сладостное чувство вседозволенности,
объективно поощряемое почетом, орденами,
привычным. местом в президиумах.
Характер
Лыкова, конечно, по-своему феноменален,
но одновременно он типизирует собственной
судьбой некоторые серьезнейшие
противоречии нашей колхозной истории.
Типизация для Тендрякова есть, по его
словам, «характерное, доведенное де
исключительности».
Пожалуй,
ни в одном своем произведении писатель
не достигал такой силы обобщения.
«Лыковщина» есть резкое искажение
самой идеи социалистического строительства.
Богатея на несчастье других, цепко
огородив свой колхоз удельной границей
благополучия, Лыков разрушается
нравственно и сеет вокруг себя моральное
разложение. Он окружен прихлебателями,
вреде своего заместителя Валерия
Николаевича Чистых или личного шофера
и телохранителя Алексея Шаблова. Зло
приносит он и своей семье: спиваются
сыновья, сохнет от горя бессловесная
Ольга, вынужденная терпеть бесстыдные
любовные похождения своего стареющего
мужа.
Писатель
не упрощает конфликта. Отрицание
«лыковщины» приходит не сверху,
как это нередко бывало в книгах на
подобную тему, а рождается изнутри, в
недрах самого колхоза «Власть труда».
Эти силы зреют исподволь и наиболее
концентрированного выражения достигают
в образе агронома Сергея Лыкова,
племянника председателя, объявляющего
поначалу неравный, но, в конечном итоге
победный бой Евлампию Никитичу.
Сергей
не просто доказал, что скудная земля
Петраковки, которая после укрупнения
колхозов в середине пятидесятых годов
была присоединена к хозяйству «Власть
труда», тоже способна давать людям
хлеб. Он сделал гораздо больше: он посеял
сомнения в самих основах хозяйственного
и нравственного кодекса Евлампия
Никитича, делившего мир на «свое»
и «чужое», пробудил в рядовых
колхозниках чувство хозяина своей
земли. Пусть «лыковщина» еще не
сдалась, еще живет в людах, первый
смертельный удар ей уже нанесен.
«Кончина»
написана сильной, плотной прозой;
характеры героев. выявлены до конца,
психологическое и социальное живет в
них слитно, нераздельно. Художественное
мастерство Тендрякова ярко проявилось
здесь и в самой стилевой ткани произведения,
в слове, которое временами обретает
поэтический пафос, как бы контрастируя
с основными драматическими красками
повествования.
«Голая,
взрытая земля подернулась легчайшим,
как наваждение в глазах, зеленоватым
дымком — это выползли нежные росточки,
это младенчество хлеба.
Зеленоватый
дымок крепнет от утра к утру, теряет
летучую нежность, от утра к утру обретает
сочную яркость. Земля становится зеленой
без просвета, зеленой, веселой, парадной.
Это раннее детство хлеба.
И
однажды, нагнувшись, ты видишь в бахроме
зелени: лист свернулся в тугую стрелку,
целит в синеву неба, в косматое солнце.
Отрочество началось у хлеба.
Отрочество
до первого, стыдливо спрятанного колоска.
Сам по себе колосок застенчив и мягок,
нет в нем никакой грубости, никакой
жесткости — хлеб вступает в пору юности.
Зелены
стебли буйно зелены листья, но колосок
уже не спрятан, нет, он выставлен напоказ,
он поднят вверх, как знамя. И тронь его
— жестковат, чувствуешь заносчивую
колючесть, и вглядись — серебром отливает
он. И окинь взглядом все поле, по которому
погуливает ветер,- по зелени волны с
металлическим отливом. Юность в разгаре.
Серебро на колосе не то что серебро в
волосах, оно здесь вовсе не напоминает
старости.
Желтизна,
соломенное золото — вот напоминание
зрелости, вот цвет хлебного старения.
Но попробуй уловить момент, когда он
появляется впервые.
Легче
увидеть сухой туманец над полем, легкий
и летучий, как дыхание. На колосе серьги.
Хлеб цветет. Это созрело растение, само
растение, а не хлеб. До хлебной зрелости
еще далеко.
Еще
будешь пробовать на зуб зерно, а оно
станет брызгать молочком. Нет, не спело.
Не
спело и тогда, когда зерно уже не брызгает,
но мнется, оно молочно, оно полуспело,
подозрительно спело. Так и называют
такую спелость — молочно-восковой.
Но
тут-то и начинаются тревоги: как не
пропустить момент, как поспеть убрать
вовремя, чтоб спело и не переспело, чтоб
было крепко зерно и не осыпалось? К этому
времени уже крадется осень, крадутся
дожди…
Петраковские
бабы, «божья рать», вытянувшая на
своих спинах весь навоз на поля, больше
всех дивились своим полям. Изумлялись
до страха, до оторопи…
«-
Господи! Да неуж с хлебом будем, неуж
жить начнем? Да как же мы управимся-то
с такой напастью? Сил-то у нас… Господи!
Не было человека в деревне, кого бы не
охватило это счастье-отчаянье».
Будь
моя воля, я непременно поместил бы этот
отрывок из «Кончины» в наши школьные
хрестоматии по литературе. «Деревенская»
проза и публицистика посвятила хлебу
насущному немало сильных, взволнованных
страниц, но даже на фоне богатой традиции
тендряковские строки о хлебном колосе
выделяются своей безусловной поэзией.
Важно только подчеркнуть, что для
Тендрякова это не просто ода хлебу, не
«лирическое отступление», которое
у иного прозаика и само по себе было бы
хорошо и уместно, а все тот же «прозаический»,
«счастливо-отчаянный» взгляд
измученных петраковских баб, верящих
и не верящих в свое грядущее счастье.
Очень
редко в голосе Тендрякова прорывается
прямая нежность. Обычно он жестковат и
суров в описаниях, особенно в пейзажах,
которые под стать драматическим событиям,
свершающимся в его книгах. Но здесь —
исключение, здесь крестьянская душа
очнулась, дала себе волю и выплеснулась
в словах бесхитростно точных, согретых
сердечной памятью и болью.
В.
Тендряков в своих повестях о недавнем
прошлом нашей колхозной деревни проводит
эту идею исторического и нравственного
«возмездия». Он любит наказывать
моральное и экономическое «зло»,
выносить ему приговор, не подлежащий
обжалованию. В острой борьбе побеждает
новое, истинно коммунистическое,
олицетворенное в характерах Игната
Гмызина («Тугой узел»), Сергея Лыкова
(«Кончина»), Евгения Тулупова («Три
мешка сорной пшеницы»), Но победа эта
ставит перед героями новые проблемы,
которые надобно решать в новых исторических
условиях. Жизнь в книгах Тендрякова —
вечное конфликтное движение.
В
семидесятые годы В. Ф. Тендряков
работает особенно напряженно и
продуктивно. Одно за другим выходят его
новые произведения «Затмение»
(1977); «Расплата» (1979), «Шестьдесят
свечей» (1980). Посмертно опубликованная
блестящая сатирическая повесть «Чистые
воды Китежа» (1980) открыла читателю
еще одну грань тендряковского таланта.
Как он стремительно развивался всю
жизнь, не затвердевая в найденном и
освоенном слове!
Незадолго
до внезапной своей смерти Тендряков
пишет несколько рассказов о войне. Все
случилось по слову поэта: «Как это
было! Как совпало — война, беда, мечта и
юность! И это все в меня запало и лишь
потом во мне очнулось!..» Рассказы эти
(«День, вытеснивший жизнь», «Седьмой
день»), как точно заметил Даниил
Гранин, «удивляют свежестью…
безыскусностью… Как будто они написаны
тогда, ну хотя бы в госпитале. В них нет
знания того, что будет: Сталинграда,
разгрома немцев, наступления… То, что
всегда так опасно в книгах о войне… И
это незнание открывает великую
нравственную силу героя — восемнадцатилетнего
солдата».
Владимир
Тендряков пишет свою войну от первого
лица, почти не скрываясь за героем —
рассказчиком. Первый бой, принятый им
и его товарищами по оружию летом 1942
года, остался в авторской памяти как
самый длинный день, вытеснивший прежнюю
жизнь. Написан этот день с проникновенным
и сдержанным психологизмом, без всякого
нажима на трагические детали, без тени
экзальтации и нервного подъема. И оттого
еще сильнее действует на читателя
обыденная противоестественность и
жестокая необходимость военной работы,
в которую с ходу впрягается мальчик-сержант,
за один день познавший цену трусости и
бесстрашия, жизни и смерти.
В
романе «Покушение на миражи»
сходятся воедино главные темы, волновавшие
Тендрякова. Эта мощная книга подводит
своеобразный итог и старому критическому
спору по поводу его писательской манеры,
в которой публицистический элемент то
и дело властно побеждал чисто художественную
пластику. Уникальность голоса Тендрякова
явлена в его последнем романе столь
отчетливо и убедительно, что снимается
сама антиномия «проблемы» и «прозы»
в применении к данному литературному
характеру. Если чего и не хватает нашей
современной беллетристике, так это
именно мысли, страстной и одновременно
социально точной, бесстрашно правдивой,
идущей в своих поисках до края,
заглядывающей в самую глубину вещей и
явлений. И это хорошо понимают сегодня
наши лучшие писатели. Прямое публицистическое
слово властно окрашивает книги Валентина
Распутина («Пожар») и Чингиза
Айтматова («Плаха»). А Тендряков
задолго до них вступил на этот путь,
упорно бил в свой колокол мысли, мучился
и страдал в поисках ответа.
«Течет
поток рода людского. Куда? Какие силы
гонят его? Безвольные ли мы рабы этих
фатальных сил, или у нас есть возможность
как-то их обуздать? Мучительные вопросы
бытия всегда вызывали страх перед
будущим. Он прорывался в легендах о
всемирном потопе, хоронящем под собой
человечество, в кошмарах откровения от
Иоанна, в жестоких расчетах Мальтуса.
И хотя активная жизнедеятельность людей
побеждала этот страх, но тревога за свои
судьбы не исчезала и загадки бытия не
становились менее мучительными».
В.
Тендряков всегда мечтал объединить в
своем сознании «физику» и «лирику»,
науку и нравственность, найти синтез
свободы мысли и необходимости добра.
Главный герой романа, физик-теоретик
Гребин, проводит фантастически смелый
эксперимент, пытаясь понять логику
человеческой истории, мысленно и с
помощью новейшей ЭВМ вновь пройти путь
нравственных и социальных исканий
человечества от Христа до наших дней.
Этот
путь суждено пройти каждой мыслящей
личности, озабоченной судьбами мира и
человека в наше трагическое время. В
романе вновь возникает Кампанелла, а
вместе с ним грозный мотив гибельности
социальных утопий без опоры на трезвое
знание, на опыт, выстраданный историческим
человеком. Маркс никогда не позволял
себе прекраснодушных иллюзий, когда
речь шла о будущем.
Все
книги Владимира Федоровича Тендрякова
вызваны к жизни нашим временем, его
реальными конфликтами и страстями. Он
относился к тому типу писателей, которые
осуществляли в советской литературе
социально-нравственную разведку и
проповедь. За Тендряковым часто шли
другие прозаики, иногда художественно
углубляя
впервые открытое им. Для меня, например,
несомненно, что творчество Василия
Белова и Федора Абрамова, Василия Шукшина
и Бориса Можаева развивалось с учетом
писательского опыта Владимира Тендрякова,
который одним из первступил на дорогу
художественного познания противоречий
нашей послевоенной жизни ради их
преодоления, ради, торжества идеалов,
начертанных на знамени советского
общества.
Он
не дожил до тех дней, когда время в нашей
стране резко повернулось в сторону
социальной и экономической перестройки,
бескомпромиссной борьбы с официальным
двоедушием, с разрывом между словом и
делом. Но каждой своей строкой приближал
эти дни, предчувствовал, торопил их и
потому надолго останется живым
современником своих читателей.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
Тревожная совесть Владимира Тендрякова (страницы творчества писателя) БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В. Ф. Тендрякова» Отдел формирования информационных ресурсов
Уважаемые читатели ! Предлагаем вашему вниманию список основных произведений Владимира Федоровича Тендрякова. Произведения писателя расположены в хронологическом порядке. Все представленные произведения есть в фонде БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В. Ф. Тендрякова» в других изданиях, за исключением рассказов : «Экзамен на зрелость» , «Дела моего взвода» и повестей : «Среди лесов» , «Короткое замыкание» .
Более емкого хранилища нравственного опыта, чем художественная литература, мне думается, у людей пока нет. . . Когда пишу, надеюсь, что это будет великое, более того, откровение. Надеюсь: вдруг переверну мир, но он все так и не переворачивается. . . В. Ф. Тендряков
«Экзамен на зрелость» (1944 -45) — повесть «Экзамен на зрелость» — первая попытка осмыслить место каждого конкретного человека в ней, стремление разобраться в психологии отступающего и победителя, показать из-за чего случается нравственный надлом. Конечно, до классических канонов жанра (в моем понимании это «Судьба человека» Михаила Шолохова) Тендряков не дотянул, но тем не менее «Экзамен на зрелость» стал фундаментом, с которого Владимир Федорович начал строить свой литературный дом.
«Дела моего взвода» (1947) – рассказ В рассказе «Дела моего взвода» В. Ф. Тендряков отразил свои впечатления о Великой Отечественной войне. Владимир Федорович очень критично относился к своему творчеству и на встрече со студентами МГПИ имени Ленина, в 1980 году он сказал : «Я стыжусь своего рассказа «Дела моего взвода» и старательно прячу его. Рассказ «Дела моего взвода» написан очень плохо, написан человеком, который впервые взял в руки перо. Нечаянно написав, я нечаянно вдруг его напечатал. Это мой грех, в чем я каюсь»
«Падение Ивана Чупрова» (1953) — повесть В этой повести Владимир Федорович обращается к истории нравственного перерождения человека, корыстно использующего свое положение в обществе. Не о материальной личной корысти здесь идет речь, откровенные рвачи и приобретатели не интересуют писателя. Ему важно понять другой нравственный феномен, издавна закрепленный в таких, например, формулах, как «ложь во благо» или «цель оправдывает средства». Тема эта не оставляет, тревожит Тендрякова, он возвращается к ней постоянно, углубляя и варьируя ее в разных произведениях. Председатель колхоза Иван Чупров ради колхозного «блага» обманывает государство и в результате морально гибнет сам и приводит к развалу хозяйство.
«Среди лесов» (1953) — повесть Повесть «Среди лесов» была написана о родных подосиновских местах. По утверждению земляков писателя Владимир сохранил даже названия подосиновских деревень, но позднее он не стал включать повесть в собрание сочинений именно потому, что всегда был необыкновенно требователен, прежде всего, к себе самому. Эта требовательность осталась у него на всю жизнь. Уже став известным писателем, на встрече со студентами, отвечая на вопрос, в чем он видит опору нравственности, Владимир Тендряков уверенно сказал: «В критическом отношении к самому себе» .
«Не ко двору» (1954) — повесть В книге описывается конфликтная ситуация возникшая между передовым колхозником, комсомольцем Федором и его тещей и тестем. Родители жены были противниками колхозов, о чем яро заявляли и всячески противились этому повсеместному явлению. Молодая женщина, только покинувшая родительский очаг, оказывается в противоречивой ситуации, с одной стороны семья, а с другой любимый человек. С детства, привыкнув покоряться воле родителей, женщина долгое время не решалась уйти из дома и высказать свое мнение. . . В 1955 году на киностудии «Ленфильм» режиссером Михаилом Швейцером по повести «Не ко двору» был снят фильм «Чужая родня» .
«Тугой узел» (1956) – роман Председатель колхоза Гмызин как может помогает Саше Комелеву, сыну, недавно умершего секретаря райкома партии. Юноша поступает на заочное отделение института и начинает работать в колхозе. Появляется у него и любимая — черноглазая Катя. . . А она полюбила нового секретаря райкома, который в отличие от Саши был смелым и решительным… Но вскоре многие осознают, что руководствуется он не уважением к людям, а лишь собственным честолюбием. Саше предстоит многое понять и сделать нравственный выбор не в пользу былых друзей своего отца… Повесть Тендрякова была одной из первых ласточек хрущевской оттепели и вызвала бурный общественный резонанс. В 1956 году на киностудии «Мосфильм» режиссером Михаилом Швейцером по повести был снят фильм «Тугой узел» . Фильм не был выпущен на экраны и переснят под названием «Саша вступает в жизнь» . Восстановлен и вышел в прокат в 1988 году. Первая роль в кино Олега Табакова.
«Ухабы» (1956) – повесть В повести «Ухабы» автор обнажил беспощадную правду: появился новый класс людей, который узурпировал народную собственность, спекулирует словом «государственный» , использует отнятую у народа, обобщенную собственность против народа — даже когда речь идет о жизни и смерти человека. Гибнет молодой парень, попав в автомобильную аварию, и виновником его кончины становится директор МТС Княжев, отказавшийся, ссылаясь на инструкции, дать трактор, чтобы доставить пострадавшего в больницу. Так прямо, так убедительно о смертельной вражде руководящего слоя к простому человеку писатели еще никогда не говорили.
«Чудотворная» (1958) — повесть В сюжет повести Владимир Тендряков вводит случай : ученик сельской школы Родька Гуляев выкапывает на берегу реки древнюю потемневшую икону. И это событие ломает ему жизнь, ибо религиозные фанатики объявили мальчика «божьим избранником». Семья и церковь пытаются насильственно приобщить мальчика к вере. Повести присуща острая конфликтность и предельный драматизм жизненных ситуаций. В 1960 году на киностудии «Мосфильм» режиссером Владимиром Скуйбиным был снят фильм с одноименным названием.
«За бегущим днём» (1959) — роман «За бегущим днем» — первый большой роман Владимира Федоровича, в котором рассказывается неустанных творческих исканиях учителя Андрея Бирюкова, биография которого несколько повторяет биографию автора, работает в сельской школе и пытается внедрить новые формы обучения – в центре романа. Герой не может работать так, чтобы каждый урок повторял предыдущий. Писатель стремился убедить общество в необходимости перестройки всей системы школьного образования, дабы теснее связать его с производством, с трудовой деятельностью, а также попытаться лучше учесть индивидуальность каждого ученика. После выхода в свет роман вызвал оживленную дискуссию в педагогических кругах.
«Суд» (1960) — повесть Профессиональный охотник Семен Тетерин совершает нравственное предательство. Не выдержав напора следователя, он уничтожает единственную улику, которая свидетельствует, что случайное убийство на охоте совершено начальником крупного строительства Дударевым, «выдающейся личностью» в районе, а не скромным, безответным фельдшером Митягиным. Суд оправдывает Митягина, но убил-то человека Дудырев, и единственно, кто мог это доказать, был он, Тетерин. Но не доказал, спасовал, дрогнул и приговорил себя к мукам собственной совести. А этот суд самый тяжкий. В 1962 году на киностудии «Мосфильм» режиссером Владимиром Скуйбиным был снят художественный фильм «Суд» .
«Тройка, семёрка, туз» (1961) — повесть От нечаянного удара ножом умирает бандит и карточный шулер Николай Бушуев, но этого происшествия в таежной бригаде сплавщиков могло бы и не быть, если бы не трусость и малодушие юного Лешки Малинина, не побоявшегося с риском для жизни спасти тонущего человека, проявляет малодушие, когда надо пойти против коллективного безумия, охватившего товарищей азартной игрой в карты. .
«Чрезвычайное» (1961) — повесть Главный герой, от имени которого ведется повествование, — старый педагог, директор школы Анатолий Матвеевич Махотин. Уже на склоне лет в его жизни происходит чрезвычайное происшествие, о котором и рассказывает повесть : неожиданно выясняется, что в его школе имеются верующие – ученица 10 класса Тося Лубкова и учитель математики.
«Короткое замыкание» (1962) — повесть В повести «Короткое замыкание» писателя волновала проблема взаимозависимости нравственных установок и социальных условий. С одной стороны, Тендряков осуждает своих героев за отсутствие в них нравственной доминанты, категорического императива, с другой — говорит о ненормальности той социальной среды, которая лишает человека инициативы, выбора, превращает его в пешку, винтик.
«Путешествие длиной в век» (1964) — фантастическая повесть В 1964 году классик советской «деревенской прозы» вдруг публикует фонтанирующую фантастическими идеями повесть, о передаче личности по радио на межзвёздные расстояния, и контакт с инопланетянами, и проблемы человеческого бессмертия, и (непрочитанная до сих пор) идея о создании «спектакля без зрителей» , — грандиозной «ролёвки» , — на миллиона полтора участников, — в казахстанских степях, на тему: «Гражданская война в России» .
«Революция!» (1964 -73, опубликована в 1980 -х годах) – повесть-эссе Повесть-эссе «Революция!» (1964 -73), не предназначавшаяся для печати, представляет собой цикл «бесед» писателя с В. И. Лениным, которые отражают проблематику творчества самого Тендрякова: соотношение человека и социальных условий, счастье и его цена, идеалы и реальность, насилие во имя высоких целей, любовь и ненависть, проблемы духовности и нравственности, добра и зла.
«Свидание с Нефертити» (1964) — роман Действие романа охватывает период от 22 июня 1941 года до мартовских дней 1953 года. В центре произведения — образ молодого талантливого художника Федора Материна, учеба которого на долгие годы была прервана войной. Проводя своего героя через многие тяжелые испытания военных лет, писатель показывает верность Материна своему призванию, его стремление выяснить для себя вопрос: «Что есть истина в искусстве? »
«Находка» (1965) — повесть В повести «Находка» писатель выбирает сострадание, которое только и помогает героям обрести смысл жизни, сострадание к ближнему, особенно к беззащитному существу. Угрюмый, суровый инспектор рыбнадзора Трофим Русаков, по прозвищу Карга, находит в тайге новорожденного ребенка, и этот теплый комочек жизни переворачивает его душу.
«Подёнка — век короткий» (1965) Знатная свинарка Настя Сыроегина, подталкиваемая ласковой, но твердой рукой другого председателя, встает на путь очковтирательства и, не выдержав душевных мук, стыда перед людьми, совершает в отчаянье преступление.
«Кончина» (1968) – повесть Умирает Евлампий Лыков, знаменитый человек по области, председатель колхоза-миллионера. Колхоз Евлампия Лыкова богател даже в тяжкие дни войны. Мужские руки, взятых на фронт пожарцев, лошадей и ненадежную технику заменили руки эвакуированных женщин, придирчиво отобранных председателем. «Лыков спасает от нищеты. Лыков — человек особый, гений в своем роде» — так долгие годы приучались думать и говорить вслух пожарцы. Почти обожествляя своего крутого нравом, оборотистого председателя, они отдали ему право все судить и решать за них. Богатея на несчастье других, цепко огородив свой колхоз удельной границей благополучия, Лыков разрушается нравственно и сеет вокруг себя моральное разложение. В 1989 году на киностудии «Ленфильм» режиссером Николаем Кошелевым был снят трех серийный фильм «Кончина» .
«Апостольская командировка» (1969) — повесть Герой «Апостольской командировки» проходит несколько кругов сомнений и самопознания. Он пытается отыскать высший смысл, оправдание своей жизни и понять духовные основы бытия. Ему тридцать три года — возраст Христа — деталь весьма существенная, откровенно символическая. Очень важна также и профессия героя: физик-теоретик, однако по специальности не работает и занимается в столичном журнале поверхностной научной популяризацией. Рыльников остро чувствует неудовлетворенность собой, он тоскует по духовности, его непокой вызван внутренней необходимостью отыскать точку опоры. Жажда цельности гонит героя прочь от любящей семьи, от столицы в глубинку, в глухую провинцию — к Богу.
«Донна Анна» (1969, опубликован в 1988) — рассказ «Донна Анна» – о «показушном» героизме на войне. Действие в произведении происходит летом 1942 года на фронте. Очень разные герои рассказа : Володька Тенков – новичок на войне, он очень остро чувствует чудовищность происходящего. Вчера он потерял друга, а второй отправлен в госпиталь со смертельным ранением. И вот на фоне этих переживаний Тенкова разыгрывается трагедия. Тыловики расстреливают у подготовленной заранее могилы членовредителя – повара, который может быть, случайно отрубил себе палец. . . Ярик Галчевский – романтик с эффектной фразой: «Умереть красиво» , ему близка идеология жертвенности, героизма, не жалеющего ни себя, ни других. Совсем другой по характеру командир роты Мохнатов. Он берег людей, выжидая удобный момент для броска. «Убийство будет, наступления – нет. У своих же окопов ляжем» , – говорил он. Галчевский расстреливает Мохнатова «как труса» и поднимает роту в атаку под немыслимым огнем противника. Итог: командир погиб, рота погибла, а Галчевский остался жить, но и его после боя расстреляли перед строем.
«Хлеб для собаки» (1969 -1970) — рассказ Действие рассказа разворачивается в одном русском селе, прилегающем к железной дороге. Через село мрачным потоком идут ссыльные раскулаченные люди, которых отправили в Сибирь за неповиновение государственным указам о коллективизации. На глазах у местных жителей, обездоленные, уставшие от долгой дороги, люди умирают прямо на окраине поселка. Жители поселка пытаются обходить это место стороной, ведь даже при огромном желании помочь умирающим, они не могли этого сделать : это могло быть расценено, тогда как оказание помощи врагам государства. Главный герой рассказа маленький мальчик, которому было стыдно быть сытым, в то время как за его окном умирали от голода ссыльные. Он часто передавал им остатки своей пищи, но когда число нуждающихся и просящих непрерывно возрастало, у маленького ребенка случился эмоциональный срыв: он прогнал от своего двора людей, крича им вслед, чтобы больше не возвращались к нему. Куркули ушли, а непреодолимое чувство стыда и жалости так и остались в душе маленького человека. Он воспринимал свой поступок как проявление той нечеловечности, которая была присуща людям, отправивших в ссылку невиновных. Исцелить совесть мальчика, помогла собака, которая случайно забрела в его двор. Ребенок начинает кормить собаку хлебом, чтобы хоть как то загладить чувство вины он не смог помочь людям, то хотя бы заботится о таком же несчастном и потерянном живом существе. .
«Охота» (1971, опубликован в 1988) — рассказ Рассказ «Охота» , опубликованный в «Знамени» спустя девять лет после смерти Тендрякова, описывает, как в Литинституте боролись с космополитизмом. Главный герой – студент Литинститута Тенков, пытается понять, что же происходит с Отечеством, и вспоминает: в детстве над его кроватью висел плакат: «три человека, объятые красным знаменем, шагают плечо в плечо» : негр, китаец и европеец. «Любили далеких негров и испанцев, пренебрегали соседом, а чаще кипуче его ненавидели» . . .
«Пара гнедых» (1971) — рассказ Героям «Пары гнедых» все предстоит вынести — и выселение из своей деревни, и смертный путь на север или в Сибирь. Они еще балагурят, шутят, еще намерены обмануть судьбу — как хочет обмануть ее Антон Коробов, добровольно сдавший свое нажитое честным трудом имущество. Над деревней словно ураган пронесся: бедняки победно переезжают в дома «богачей», «богачи», в свою очередь, должны перейти в бедняцкие избы. Мечутся по деревне на закате коровы и овцы, не знают, куда идти. Идет передел, нарушены связи, крестьяне натравливаются друг на друга. Тендрякова интересуют не столкновение сил принуждения с крестьянами, не взаимоотношения власти и народа. Он пишет о том, что творится внутри крестьянства в «сумасшедший час» перераспределения благ. Лентяй быстро пустит по ветру новое хозяйство, которое досталось ему не от трудов праведных. Ваня Акуля, не успев как следует расположиться в крепком коробовском доме, уже продал железо с крыши да и загулял. А Мирошка Богаткин, напротив, купить стремится, умножить свое добро (красавцы кони гонору подбавляют). Переворошилась деревня. ? Все пошло наоборот, повернулось изнанкой своей: мыслителей, философов из страны изгнали, крестьянина крепкого, работящего уничтожили; сначала землю отобрали, а потом и хлеб. «И лошадей мужик скоро выгонит в леса — живите себе, дичайте. И сам мужик будет наг и дик, на Адама безгрешного похож. Птицы божий не сеют, не жнут — сыты бывают. . . Сыты и веселы. . . »
«Шестьдесят свечей (1972) — повесть В повести «Шестьдесят свечей» В. Тендряков рассказывает нам об учителе истории Николае Степановиче Ечевине, только что отпраздновавшем своё шестидесятилетие. В потоке поздравительных телеграмм учитель вдруг наталкивается на письмо, в котором неизвестный автор пишет о себе, что он ничтожество, человек без профессии, без семьи, хотя не вор и не преступник. Человек, написавший письмо учителю, называет себя «представителем человеческих отбросов» и считает, что этим он обязан не столько своему характеру, сколько ему, учителю истории, Николаю Степановичу. И как окончательный приговор звучат последние слова : «Вы, Николай Степанович, искалечили меня! Я не вижу иного способа заставить меня выслушать, как — убить Вас !. . . Пусть суд надо мной станет судом над Вами» . В 1988 году на киностудии «Мосфильм» режиссером Вадимом Дербеневым по повести «Шестьдесят свечей» был снят фильм «Черный коридор»
«Весенние перевёртыши (1973) — повесть В «Весенних перевертышах» рассказано о сложностях «переходного» (от детства к юности) этапа в человеческой жизни: поиск себя как личности; размышления о времени, о вечности, о загадке бытия, чувственно окрашенные свежестью и полнотой первой любви. . . Огромный, сложный мир открывается тринадцатилетнему мальчишке. Мир, где есть любовь, святое чувство товарищества и тут же рядом – злоба и жестокость, унижение человека и горе. Душа подростка растет, впервые постигая противоречия жизни, постигая само время. В 1974 году на киностудии «Ленфильм» режиссером Григорием Ароновым был снят фильм с одноименным названием.
«Совет да любовь (1973) — пьеса «Три мешка сорной пшеницы (1973) – повесть В повести действие протекает последней военной осенью в одном из северных сельских районов. Бригада уполномоченных прибыла сюда по поручению области добыть хоть какой-нибудь хлеб для фронта. И вновь решающим для Тендрякова становится вопрос о «средствах», которыми достигается в конкретноисторических условиях та или иная справедливая цель.
«Ночь после выпуска» (1974) — повесть Эта повесть вызвала много споров. Она — о воспитании чувств подростков и той роли, какую играет школа в этом сложном процессе. Тендряков любит устраивать своим героям проверку на человеческую подлинность. Путь к истине и добру протекает у него всегда драматически, через нравственный кризис, который человек должен преодолеть сам. В повести «Ночь после выпуска» происходит такая нравственная проверка шести юношей и девушек, только окончивших школу Они собираются ночью на речном берегу и впервые откровенно говорят о том, что они думают друг о друге. И выяснилось, что каждый из них думает только о себе и ни в грош не ставит достоинства другого…
«Люди или нелюди» (1974, опубликован в 1988) — рассказ Взгляд на войну описан глазами молодого солдата. 1943 год. Наш герой в поисках штаба идет по степи. Всюду трупы солдат и раненная лошадь, которая продолжала жить с понурым упрямством. Видя весь ужас войны он приказывает себе: «Не смей жалеть и не смей лишка думать — война! Огрубей и очерствей, стань деревом!» Он не знает, как жить потом, в мирное время, если разучился жалеть, страдать, если равнодушен «до древесности» , Вдруг это навсегда вошло в душу? По возвращению в штаб видит такую картину. Два недавних врага, молодой немец Вилли и русский солдат Якушин, в землянке едят кашу из одного котелка. «Голова к голове, ложка за ложкой и — хлеб пополам» . Он понял, что война не убила в человеке душевности, жалости. Но наследующий день, когда они увидели сожженный хутор и утопленных в колодце разведчиков. Всех охватила злоба. Все хотели мщения. Для расправы привели Вилли и вытолкнули к колодцу. Да, они не были злодеями. Они искренне были добры к Вилли в землянке. Но как в них сочетаются доброта и лютая жестокость? . . «Душевный человек Вилли. . . » и «Братцы! Воду! Живьем его!» И неслучайно писатель размышляет: «Я горжусь своим народом, он дал миру Герцена и Льва Толстого, Достоевского и Чехова — великих человеколюбцев. И вот теперь впору задать вопрос: мой народ, частицей которого я являюсь, — люди или нелюди? !»
« «Чистые воды Китежа» (1977, опубликована в 1986) повесть Сатирический талант Владимира Тендрякова проявился достаточно поздно: написанная в гоголевскощедринской традиции повесть «Чистые воды Китежа» — притча -пародия на тоталитаризм и его порождения; основана на личных впечатлениях очерк о роскошном приеме Н. С. Хрущевым и высшей партийной номенклатурой советских писателей, подлежащих идеологической обработке.
«Затмение» (1977) — повесть Молодая женщина Майя – героиня повести – не на словах, а всем сердцем стремится быть нужным на земле человеком. Она жаждет быстрейшего и осязаемого результата приложения своих сил. Она бросает институт, мужа-ученого, научная работа которого, как оказалось, не дает немедленного эффекта, немедленной пользы для общества и людей, и связывает себя с религиозной сектой, с Гошей Чугуновым – «рабом божьим» и «бессребреником» , чьи красноречивые проповеди, как ей представляется, оказывают мгновенное благотворное воздействие на тех, у кого горе, кому требуется участие и поддержка. Но Гоша не раб божий. Скорее наоборот : бог – его раб. Эксплуатируя имя бога, он не его превозносит, а себя и зарабатывает себе капитал. Но не только деньги ему нужны, а власть над людьми.
«Расплата» (1979) — повесть Учитель Аркадий Кириллович Памятнов – прекрасный, высоконравственный человек. Он учил детей добру и тому, что надо бороться со злом, быть решительным и бескомпромиссным. Конечно, со злом надо бороться. Но, к сожалению, жизнь такова, что надо идти на компромиссы, быть гибким в решении проблем. Бывают очень сложные жизненные ситуации, которые невозможно решить, сразу выбрав правильный ответ. Уметь находить компромиссы, применять гибкость в решении проблем – это и называется жизненной мудростью. Благодаря этим навыкам, беде труднее человека застать врасплох. Человек становится жизнестойким. А жизнестойкость – главное качество в современном мире. Учитель Памятнов это понял и признал свою ошибку, когда его ученик, Коля Корякин, убивает собственного отца, пьяницу и тирана
«Покушение на миражи» (1979— 1982, опубликован в 1987) — роман В этом романе Тендряков подвел итог своих многолетних нравственнофилософских исканий. Первоначальное название романа – «Евангелие от компьютера» – отсылает читателя к его сюжету. Герои, программистыэкспериментаторы, решили ввести в машину всю историю человечества, исключив из нее Христа, однако Богочеловек «воскресает» в программе совершенно необъяснимым образом, «смертию смерть поправ» .
В наше непростое время, когда стираются понятия между добром и злом, нравственным и безнравственным, полезно обратиться к честному, совестливому писателю, которого всегда волновало нравственное здоровье народа.
Тендряков Владимир » Подёнка — век короткий — читать книгу онлайн бесплатно

Конец
Книга закончилась. Надеемся, Вы провели время с удовольствием!
Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями:
Настройки:
Ширина: 100%
Выравнивать текст
Владимир Федорович ТЕНДРЯКОВ
ПОДЁНКА — ВЕК КОРОТКИЙ
1
Ни крик в голос, ни слезы не помогли — Кешка Губин, муж недельный, собрал свой чемодан, влез в полушубок, косо напялил на голову шапку, кивнул на дверь:
— Ну?.. Не хошь?.. Тогда будь здорова. Сама себя раба бьет. В свином навозе тонуть но хочу, даже с тобою!
И дверь чмокнула, ударило Кешке по валенкам тугим морозным паром, ушел.
Ни крик в голос, ни мольбы, ни слезы… Стояла посреди неприбранной избы, валялся на лавке клетчатый шерстяной шарф, забытый Кешкой.
С печи, шурша по-мышиному, сползла мать, встала напротив, сломанная пополам, зеленое лицо в сухих бескровных морщинах, в глазах — тоскливая накипь, знакомая с детства.
— Да покинь ты меня, каргу старую. Никак помереть не могу. Жизнь твою заедаю, дитятко.
Настя вцепилась в волосы, рухнула на лавку, затряслась:
— Невезучая я, ма-монь-ка-а! Проклятая моя жи-ызнь!
Мать присела, гладила трясущееся плечо легкой ладонью, повторяла:
— Покинь, право… Мне все одно скоро…
Настя выплакалась, поднялась с опухшим лицом, раскосмаченная, сказала спокойно:
— Давай спать укладываться. Завтра опять вставать ни свет ни заря.
Направилась в боковушку к кровати с никелированными шарами, на которой еще вчера спала вместе с Кешкой, добавила:
— Жили ж мы без него.
2
Насте Сыроегиной шел шестой год, когда началась война. Она хорошо помнит — в избу ворвалась мать, тревожная, суетливая, тормоша накинула на Настеньку оболок, укутала платком:
— Идут же, идут! Господи! Може, в последний раз увидим… Да шевелись ты, Христа ради, квелая!
Бегом тащила ее мать от деревни через поле к тракту. Стоял ненастный осенний день, раскисшая стерня лежала по сторонам грязной дороги. По дороге двигались подводы, забросанные туго набитыми котомками, за подводами неровным строем шагали мужики, кто в брезентовом плаще, кто налегке в ватнике, кто в пальто. Шагали из райцентра, от военкомата к вокзалу на станцию, в армию.
Из растянувшегося строя выскочил отец, краснолицый, широкий, оступаясь в колеях, бросился к ним… Он поднял Настю и поцеловал, от него попахивало водкой. Мать повисла на его плече, а отец легонько, ласково ее отталкивал, оглядывался на своих деревенских, говорил с непривычной, неуверенной удалью:
— Чего зря мокроту разводить. Ты меня знаешь — иль грудь в крестах, иль голова в кустах…
Поглядывал браво по сторонам. Он никогда прежде не пил, считался самым тихим мужиком в деревне.
— Грудь в крестах иль голова в кустах… Ты меня знаешь.
Среди мокрой, темной стерни — грязная дорога, ровным войлоком небо, шагающие за подводами люди, бабьи всхлипы, бабьи вздохи, мелкий дождь… Последний раз видела Настя отца — голова в кустах…
Война. Ушли из деревни на фронт не только мужики, но и лошади. Бабы сговаривались по пяти дворов, пахали усадьбы — четверо впрягались в плуг, пятая шла по борозде, налегала на ручки. Все равно хлеба не хватало — хлеб нужен фронту. Муку с осени берегли к весне, весной — тяжелые работы, надорвешься без харчей. Летом Настя заготовляла траву, ее сушили, толкли мелко, дважды ошпаривали кипятком, заправляли яйцом и пекли оладьи. Они выходили буро-черные, тяжелые, напоминали коровьи лепехи, на них сверху картошка, нежная, на молоке, подрумяненная, политая янтарным маслом. Корова-то своя, молоко было и маслицем баловались. От лепех пучились животы, сколько ни ешь — все не сытно. Ели еще и куглину — сухую шелуху с головок льна. До древесной коры не доходило. На усадьбе рос ячмень, но его всегда сжинали зеленым — невтерпеж сидеть на траве.
Но и трава Насте шла на пользу — росла крепкой, а мать горбилась, хирела. Она отрывала от себя последние куски: «Ешь, Настя…» После колхозной работы она бежала за восемь километров в заболоченный Кузькин лог, там, стоя по колено в воде, ночи напролет махала косой среди кочек по берегам бочажков: корову-то надо кормить, сохранишь корову — и Настя будет жить. К матери подкатывался Иван Истомин, на фронте он оставил в кустах не голову, а только ногу, хоть и на костылях, а руки целы — пимокатничал. «Давай завяжем узелок, в паре-то ладней лямку тянуть. Степана твоего ждать нечего…» Мать и не ждала мужа, где уж, коль голова в кустах, но отказала наотрез. Как-то Иван к Насте повернет — не родная кость, нет уж, дочь дороже своей судьбы.
Настя выровнялась — не так уж и высока, но крепко сбита, прочна в кости, плечи налиты полнотой, грудаста, щеки румяны, вздрагивают на каждом шагу и глаза в колючих редких ресницах. Настя выровнялась, а мать сломалась, года три уже не вылезает дальше завалинки, греется на солнышке, сложив руки на коленях, в ситцевом платочке, с линялым, ссохшимся лицом. Но дома по хозяйству она еще шевелилась — печь топила, обеды варила, а дров от поленницы или воды с колодца уже не принесет. Матери всего пятьдесят шесть, учительница Митюкова ей ровесница, никому и в голову не придет величать ту бабушкой.
Настя не хуже других девчат, поди, лучше многих. Но в последнее время мать, глядя на нее, вздыхала: «Твоего батьку старый цыган облаял…»
Отец еще мальчишкой вместе с другими ребятишками как-то увязался за проезжавшим мимо деревни цыганом. Прыгали вокруг, бесновались:
Цыган, цыган!
Почему кобыла?
Без рубля четвертак,
А с хозяином — за так!
Дразнило много ребятишек, но цыган с коршуньим носом из дикой бороды почему-то направил на одного Степку Сыроегина крючковатый палец, брызгая слюной, проклял, как взрослого:
— Не будет тебе удачи в жизни! На суху тебе оскальзываться, на ровном спотыкаться! И родня твоя, и дети твои счастия не узнают! До пятого колена в коросте будут ходить, слезьми солеными умываться!
Это почему-то так поразило всех, что уже много лет спустя, если у Настиного отца случалась неприятность, сразу же вспоминали: «А правду, знать, цыган плел: на суху оскальзываться, на ровном спотыкаться…» И вот на войне — споткнулся…
За Настей стал увиваться Венька Прохорёнок, тракторист, молод, а зарабатывал неплохо, и по характеру тихий, и к водке увлечения не имел. Брали в армию — говорил: «Ужо срок кончится — мимо своего дома пройду, прямо к тебе, свадьбу играть». Но из армии он так и не вернулся, слух дошел — получил хорошую специальность, работает на экскаваторе где-то под Челябинском.
А идет время, и в деревне женихов не густо, и новые девки подрастают косяком. Ты же, того гляди, прокукуешь до седых волос. И вздыхала мать: «Старый цыган все. Будь он нездоров…»
Кешка Губин приехал из Воркуты при деньгах — шапка пыжиковая, зуб золотой. Надоел ему Север, не встретишь дерева живого. Он был братом Павлы, что из деревни Дор, вышла за Сеньку Понюшина. Соседки, подруги, по утрам бегали друг к другу закваску занимать, по вечерам сумерничали, перемывали косточки всем, кто попадет на язык. У Павлы и встретила Кешку, сошлись как-то быстро. Ему — за тридцать, пора семьей обзаводиться. Собрал пожитки, перешел проулок, и тут оказалось: «В свином навозе тонуть не хочу…» Метит снова в город. «Бросай все, едем…» И ничего слушать не хочет. А бросать-то нужно больную мать, ту, что вынянчила, ту, что от себя кусок отрывала. С больной матерью по общежитиям не проживешь, а когда-то еще устроятся на стороне, квартиру получат. Да и что Насте делать? Она одно умеет свиней накормить.
«На суху тебе оскальзываться, на ровном спотыкаться…»
Кешка Губин ушел, хлопнув дверью. А старалась удержать, слезы лила, упрашивала, уламывала, жизнь тихую расписывала — в колхозе-то давно не бедуют. Остался от Кешки только клетчатый шарф на лавке. И одно успокоение: «Жили же без него».
3
Над зазубренным черным лесом сочился, растекаясь, водянисто-бесцветный зимний рассвет. Деревня Утицы была окутана синими снегами. По этим угрожающе синим снегам промята дорога, связывающая деревню с трактом, с селом Верхнее Кошелево, где стоит колхозная контора, с районным центром Загарье, с маленькой станциюшкой Ежегодка, со всем великим и далеким миром.
За деревней на отшибе — длинное, придавленное к земле тяжелой заснеженной крышей здание, свинарник, где изо дня в день хозяйничала Настя Сыроегина.
Деревня Утицы еще спит, еще не светится ни одно окно, ни из одной трубы еще не тянется вверх вялый дымок, только кричат петухи, глухо — за бревенчатыми стенами сараев. Спит деревня Утицы, Настя встает раньше всех, сейчас закутанная в платок, в потасканном ватнике спешит к околице, синий снег скрипит под большими резиновыми сапогами — в валенках-то по свинарнику не потопчешься, промокнут.
Скрипит снег, и кричат петухи. Скрипит снег, и тревожной синевой напитан воздух, и жиденько расползается утренняя зорька на небе, из-под нахлобученной крыши навстречу хитренько, как в прищуре, поблескивают узкие окна свинарника. Так было позавчера, так было вчера, так сегодня и так будет завтра. И Насте кажется, что она живет на свете не двадцать семь лет, а долгие-долгие века — так заучена ее жизнь.
Сейчас пройдет по утоптанному выгону, снимет тяжелый замок с дверей, навстречу мягко ударит в лицо теплый, спиртово перекисший воздух. Она растопит печь под котлом, а пока котел закипает, засыплет мешок мелкой картошки в барабан картофелемойки. Начинается рабочий день.
В девять часов с воли донесется скрип санных полозьев и треснутый стариковский голос:
— Н-но, необутая, шевелись!.. Эй, пустынница, жива аль нет?
Настя распахнет дверь:
— Жива, Исай!
Старик Исай Калачев привезет мешки с картошкой, пахнущей погребным тленом, мякинных высевок, муки… Отпускают не очень скупо, но Настя не удержится, чтоб не поворчать:
— Сколько раз говорила: коль картошка прихвачена — пусть дают с надбавкой. А муки ты бы еще в картузе принес, одни высевки. С мутной водицы не зажиреют.
А старик Исай будет слюнявить толстую цигарку, напустив важность, начнет рассуждать:
— Ныне ученые люди головы ломают — достичь жирок не с мутной водицы, а чтоб с чистого воздуха. Тогда Америку нагоним, так-то, кума.
Через час — через полтора зарычит мотор полуторки, шофер Женька Кручинин доставит с маслозавода бидоны с сывороткой и обратом:
— Как жизнь молодая? Погрела бы, прозяб в кабинке.
— Не погрею, а огрею. Помогай давай.
— Плывет курица по прудику,
Крылом гонит волну.
Эх, девка с грудями по пудику
Достанется кому?
— И охальник же ты, Женька. Как только Глашка с таким уживается?
— Ничего, терпит, должно, нравлюсь.
Глашка — под стать Женьке, на язык остра, ни одного парня не пропустит, чтоб не зацепить. Они два года как поженились, и уже двое детей, и живут вроде дружно.
Насте нужно бы счастье, самое незатейливое, такое, как у всех, как у Глашки, как у Павлы, чтоб муж, пусть даже вот такой зубоскал, чтоб дети, чтоб семейным теплом была согрета изба и мать на старости лет в приюте. Самое простое, как у всех. Всем достается как-то легко, у Насти заело… И ни ряба, ни кривобока, нынче в колхозе мало кто зарабатывает больше ее. Эх, Кешка, Кешка! В две пары рук устраивали бы семью!
Председатель Артемий Богданович Пегих на последнем собрании сказал при всех: «Еще услышит район фамилию Сыроегиной! Еще будет она гордым знаменем нашего колхоза!..» Артемий Богданович любил громкие слова.
И, пожалуй, дива нет, стала бы знаменем — Артемий Богданович всегда кого-нибудь пророчит в «знамена». Был Селезнев, была доярка Катька Лопухова из деревни Степаковская, была бы и она, Настя Сыроегина, если б не сам Артемий Богданович… «Гордое знамя…»
4
Настя сняла тяжелый амбарный замок, толкнула прилипшую дверь, и… в лицо ударил не обычный сбродивший до спиртовой остроты запах здорового свинарника, а другой — удушливо-едкий, кислый, мутящий.
Мимо холодной плиты с вмазанным котлам, мимо картофелемойки, вглубь, к клеткам. Нашарила на стене выключатель, вспыхнул свет, тяжело, по-стариковски вздохнул в углу хряк Одуванчик.
Грузная розовая Купчиха заворочалась, с усилием поднялась, навесив на глаза лопушистые уши, и в маленьких черных глазках под этими ушами — покорное, умное осуждение: «Что ж ты, мать, меня подвела?..» Вяло повизгивали у ног ее сосунки, им, считай, уже по месяцу, а каждый не больше рукавицы вечно зябнущие, серые, жалкие, не растут, хоть плачь. Настя сразу заметила — двое не двигаются, лежат, напряженно вытянувшись, кажутся тоньше, длинней остальных.
Вот оно — ждала… Еще третьего дня среди сосунков начался понос.
Освещенный знакомый свинарник, он не нов, но добротен, его выстроили, когда колхоз «Богатырь» начал уже подыматься на ноги. Одну клеть от другой отделяют решетки, не простые, а затейливые, гнутые, им всякий удивляется, кто впервые входит сюда. Решетки сделаны из старой церковной ограды. Свинарник, как всегда, выглядит чинно, как всегда, чист, вздыхает в углу хряк Одуванчик, сопение, повизгивание, глухая возня. И спирает дух, настолько заражен воздух. Два подохли, сколько еще?..
Вот оно, виноват Артемий Богданович, а спишут на нее — не уберегла, не управилась.
Артемию Богдановичу иногда приходят в голову великие затеи. Как-то он посидел у себя в кабинете, подсчитал на бумажке и пришел к выводу: свиньи поросятся два раза в году — весной и летом, как раз в то время, когда в амбарах уже пусто, зато кругом начинает подрастать трава — корм подножный. А этим-то кормом и не пользуются — поросята малы, чтобы добывать травку из-под ног. А что, если запустить опорос на зиму, к весне поросята подрастут, можно выпускать на травку, пользоваться запаренной крапивой. За лето они нагуляют вес, осенью будут тяжелее весенних — двойной выигрыш, сколько мяса в колхозе прибавится.
Артемий Богданович обещал Насте: «Будешь получать рыбий жир — питай витаминами». Обещал, но рыбий жир по оптовым ценам достать не мог, появлялся он в аптеке маленькими пузыречками, и то рецепт от врача просили, покупать его для свиней — прогоришь, свининка колхозу влетит в копеечку. Артемий Богданович обещал еще давать сверх всяких норм проросшее зерно, в нем тоже, сказывают, есть какой-то витамин. Обещал, но предложили купить две пятитонки, за них нужно сдать на закуп хлеб сверх плана, не упускать же машины, подчистили все излишки, зерно уплыло мимо Настиного свинарника. Только вера в Настю у Артемия Богдановича осталась прежняя: «Будешь гордым знаменем нашего колхоза!»
Вот уж воистину — беда не приходит одна: вчера ушел Кешка, сейчас спозаранок — новая напасть. Настя прошлась от матки к матке, вытащила из-под ног мертвых сосунков. Семь! За одну ночь! Вот оно — началось!
Вышла во двор за навозной тачкой, побросала всех, вывезла…
Сумеречная синева снегов стала прозрачней, воздух ясней, небо над дымчатым лесом порозовело, прижимал морозец. А в грязной тачке один на другом, как поленья, — поросята, окоченевшие пятачки, сквозь полуприкрытые веки влажная муть мертвых глаз, взъерошенная щетинка на острых хребтах… Вот оно… Болезнь, как пожар, займется, не потушишь — перекинется на откормочных, начнется повальный мор.
Настя стояла на морозе под розовым заревом и чувствовала — рассыпается жизнь. До сих пор хоть в одном была удачлива — в работе. Хвалили, слов не жалели и платили хорошо, в прошлом году пальто новое справила с мерлушковым воротником, больная мать ни в чем нужды не знала, загадывала летом купить Кешке мотоцикл. Теперь все разом покатится. Попреков не оберешься, поносить начнут, за падеж выплату скостят, не постесняются. Девки завидовали, то-то будут подхихикивать: «Гордое знамя…»
Но убиваться да плакать некогда: нужно отобрать больных поросят, согнать в отдельную клеть, полы, стены, переборки в стойлах надо вымыть, ошпарить, бежать на склады за дезинфекцией… Болезнь, как пожар, — успевай вовремя схватиться. А из-за стены слышен дружный визг — бунтуют голодные, чтоб им пусто было. Разводи огонь, крути картофелемойку. Изо дня в день одно и то же — корми да навоз выгребай. «В свином навозе тонуть не хочу…» Уехать бы вместе с Кешкой, бросить бы все — опостылело! Бросила бы, если б не мать.
Совсем рассвело. Под потолком блекло горели невыключенные электрические лампочки. Как всегда, с воли донесся скрип саней:
— Шевелись, необутая!.. Эй, пустынница, принимай гостя!
У деда Исая жиденькая бородка курчавится инеем, мятые щеки свекольного цвета, растер их рукавицей, кивнул на дверь облезлой шапкой:
— Урон, гляжу, у тебя. Целу тачку, на-кось, наворотила.
И снова закипели слезы на глазах:
— Будь все проклято! Толкнул меня, а я-то послушалась.
— Оно верно, послушный конь без копыт ходит.
— Ты сейчас в село, Исай? Захвати меня… Захвати с тем добром, что в тачке…
— А то зачем? Пока ни людей, ни поросят с того свету не возвращают. Не дано.
— Разложу у него на столе под носом, пусть любуется.
Исай хмыкнул:
— Ну, ктой-кого любоваться заставит. У плохого пахаря — кобыла-злыдня борозду криво ведет.
5
В старом ватнике, насквозь пропахшем свинарником, в резиновых, заляпанных навозом сапогах, платок сбился на шею, губы сведены в ниточку, в прищуре глаз злой блеск, прошла Настя мимо бухгалтерских столов, волоча грязный мешок за собой. Прямо к Артемию Богдановичу, носком отшибла легонькую дверь.
За ней, пряча остренькую ухмылочку в бородке, дед Исай — любопытно все-таки, как-то председатель поглядит на номер с поросятами, право, любопытно.
Отшибла ногой дверь…
Не только за гиблую затею, не только за то, что эта затея станет ее позором, влетит ей в копеечку, но и за ушедшего из дому Кешку, за хворую мать, которую нельзя покинуть, за всю свою нескладную судьбу — на тебе! Кто-то должен быть виноват, хоть тут, да отвести сердце, а то живут себе, ни до кого дела нет. Так — на тебе!
Без «здравствуй» вывернула мешок, об пол с тупым стуком ударились дохлые поросята, закоченевшие, тощие, запачканные нечистотами.
У Артемия Богдановича сидел Костя Неспанов, председатель сельсовета, просто покуривали перед началом хлопотливого дня.
Костя Неспанов — прост, жесткий зачес над чистым лбом, нос пуговицей, щеки в веснушках, глаза в прозрачную зелень и большие уши. Он вскочил со стула, раскрыл рот, ошалело глядел на поросят.
— Ты что… Что это?..
Артемий же Богданович, видать, в одну секунду сообразил все, как сидел за столом, круглый, домашне добродушный, напустив на ворот рубахи пухлую складку у подбородка, так и остался сидеть — не дрогнул бровью, не раздвинул прищур глаз, только под веками блеснула настороженная искорка.
— Видишь?.. — выдохнула на него Настя. — А это только почин. То ли будет еще!
Артемий Богданович пошевелил на столе переплетенными пальцами, покачал сокрушенно головой. Костя Неспанов растерянно переводил взгляд — с поросят на Настю, с Насти на Артемия Богдановича. А в распахнутых дверях прирос скулой к косяку дед Исай — любопытно.
— Что мигаешь? Ай не ясно? Дохнут твои зимние! Дох-нут!
— Как же ты? А? Не углядела? — мягко, сокрушенно вымолвил Артемий Богданович и снова пошевелил пальцами, и снова покачал головой.
— Я?! Это я-то недоглядела? Так и знала! Так и знала, что на меня все свалишь… Кто настаивал? Кто толкнул меня? Не я ль тебя отговаривала? Не ты ль меня уламывал?.. Рыбий жир, витамины!.. О-о!.. — И задохнулась.
Простодушное рыхловатое лицо, сдобная складка под подбородком, приглаженные набок редкие волосы, и в щелках век осторожный умненький блеск, и мягкость, и сокрушение — ничем это сокрушение не пробьешь. Криком кричи, волосы рви, а он будет сидеть поглядывать, перебирать пальцами по столу, качать головой, ждать. Настя задохнулась, опустилась на стул и закрыла лицо руками.
— Так что же ты хочешь? — мягко спросил Артемий Богданович. — Ась, красавица?
Настя вытерла глаза, отвернулась.
— Хочешь, чтоб я встал сейчас, пошел по улице, стал кричать: «Люди добрые! Сыроегина Настя не виновата, виноват я, подлец!» Так, что ли?
— Знаю, сам-то чист останешься, меня в грязь посадишь.
— Тебя? Я?.. Ой, Настя, не греши, голубушка. Кажись, до сих пор я не в грязь тебя садил, а подсаживал, что повыше куда.
— И подсадил… «Гордое знамя»…
— То-то и оно: хотел, чтоб — знамя, а ты мне — подарочек, да еще вон это добро, — Артемий Богданович кивнул на поросят на полу, — мне на шею вешаешь.
— Само собой, мне нынче одно осталось — умойся да молчи в тряпочку.
— Кричи, почему же, рот затыкать не буду! Кричи, сколько влезет, чтоб другие глупость твою видели.
— По твоей милости глупа, не по своей!
— Чужим умом жить хочешь. Ой, опасно, Настя.
— Ты ж руководитель наш! Как к тебе не прислушиваться? Иль ты, что крест на церковной маковке, для красы торчишь?
— Руководитель не пророк, голубушка. Моей лысиной ты свою голову не заменишь.
— Ох, да хватит!
— Вот тебе и «ох». Есть порядочек, он одинаков и для тебя, и для меня. Когда у меня в колхозе, скажем, кукуруза не выросла, я что — бегу в район и кричу там: «Вы заставили сеять, вы, мол, и отвечайте!» Нет, мне скажут: «С больной головы на здоровую не вали». И правы они! Надо было раньше мозговать. Поздний ум, что глупость — цена одинакова. Не сумел вовремя мозгами пошевелить — ответь.
Артемий Богданович встал из-за стола, невысок, широк, несмотря на полноту крепок телом, прочно стоит на коротких ногах, — такой вот встанет на дороге, лошадь с возом стороной обойдет.
— Ты в том виновата, — голос Артемия Богдановича отвердел, — что не настояла на своем тогда, когда нужно, не убедила меня. После драки, дружочек, кулаками не машут.
Настя сморщилась:
— Не настояла, не убедила… Ты — сила, а я кто? Ты всегда подомнешь.
— Вся и заковырка в жизни, что против силы надо идти, а с бессильным-то всяк справится. Против силы умом. Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Так-то, святые слова.
Костя Неспанов, слушавший колхозного председателя с уважительным вниманием, с подавленной серьезностью, сурово заговорил:
— Подводишь ты нас, Настя. Мы на тебя большую надежду имели. Я вот хотел заметочку в районную газету послать. Вот, мол, какие у нас передовики, не бедней других в этом плане. Даже начало уже в голове шевелилось, эдакое лирическое… М-да, Настя, Настя…
В голосе его не только суровое огорчение, но и искренняя обида: подвела Настя, пропало лирическое начало.
— Эхе-хе, — вздохнул у дверей дед Исай.
— Тебе чего? — спросил его Артемий Богданович.
— Да ничего, — ответил Исай. — Говорю: кобыла-злыдня борозду криво взяла.
Артемий Богданович кивком указал Насте на кучу грязных поросят посреди кабинета:
— Бери-ка свой мешок да сваливай эту падаль.
6
«Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет» — любимая присказка Артемия Богдановича.
Его выдвинули в председатели на укрупненный, разбросанный, отсталый колхоз в те дни, когда и в печати, и на собраниях, и в директивных бумажках вовсю славили торфоперегнойные горшочки.
Уже и тогда Артемий Богданович был в возрасте, отличался дородством, успел поработать в районе каким-то начальником средней руки — тертый калач, но попался, потому что всей душой наивно поверил: только торфоперегнойные горшочки могут поднять колхоз. Он с усердием, о котором сложена пословица «новая метла чище метет», перекроил посевы, пересмотрел планы, сократил должности, отставных бригадиров, замов, счетоводов заставил лепить горшочки. Их лепили колхозницы, их лепили школьники с учителями, раздобыли специальный станок и штамповали на нем — горшочки, горшочки, горшочки! Горшочками забили все склады, они стояли рядами в сельском клубе, в этих горшочках к весне капустная рассада зеленела даже на подоконнике кабинета Артемия Богдановича. Горшочки, горшочки, горшочки — залог будущего, начало изобилия!
В соседних колхозах к ним относились наплевательски, они лежали сваленные в кучи на морозе, смерзались, оттаивали в оттепели, к весне совсем развалились, их вывозили на поля, как навоз, — с глаз долой, из сердца вон.
Но Артемий Богданович уже тогда показал характер: ругал, умолял, сулил золотые горы, добился — почти все горшочки с капустной рассадой были высажены на поля. Не знал он, что это станет началом большой для него беды.
Горшочки, горшочки, горшочки!.. Нет, не зря их славили, рассада поднялась, Артемий Богданович не мог нарадоваться: «Только бы не побили заморозки… В прошлом году килограмм капусты стоил чуть меньше двух рублей, ну, ежели он опустится до рубля… За тонну — круглая тыща, а то и больше… Только бы не прихватило заморозками…»
Заморозков весной не было, к осени зрели тяжелые кочны.
Вместе с ними назревала беда…
Она грянула!
Много ли мало, капусту в торфоперегнойных горшочках посадили все. А областные заготовители не построили новых овощехранилищ — по смете не предусмотрено. На базаре капусту перестали покупать… Эх, горшочки! На этот раз сельский клуб забили до потолка белокочанной, на Артемия Богдановича писались жалобы: закрыл клуб, гноит овощи. За труд колхозников — лепили горшочки, рассаживали, поливали, таская на плечах воду за километры, — нужно платить, а чем? Бери капусту… Капустой все сыты. Эх, горшочки!
Колхозники клянут, из района, не шутка, стращают судом — погноил сотни тонн высококачественных овощей.
Брань колхозников на председательском загривке не висит, от суда Артемий Богданович увернулся, проработки, нагоняи вынес, получил лишь выговор с занесением в личное дело, похудел, издергался, но приобрел опыт, из колхозного руководителя-новичка сразу стал тем, кого обычно называют: «Хватаные». Кажется, в это время он и начал на все случаи жизни применять поговорку: «Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет».
Долго висел выговор, но… «выговор не туберкулез, носить можно». Зато новое наступление — грозную кукурузу — Артемий Богданович встретил, как мудрый полководец.
Артемий Богданович любил громкие слова, поэтому, выступая на районных совещаниях, нисколько не хуже других славил «королеву полей». Сначала славил, потом громко каялся: вымерзла сразу, с ходу, пришлось, чтоб не пустовали поля, засеять овсом и ячменем. Но в районе слезам не верят: «Почему у тебя вымерзла, у других нет? Проверить! Припечатать!» Выехали проверять и… наткнулись — у самой дороги, так что любому ударит в глаза, — поле кукурузы, вовсе не мерзлой, раскустившейся, по району поискать такую. «А ты говорил: вымерзло?» Артемий Богданович вздыхает, разводит руками: «Только это и сберегли. Все силы бросили, чтоб остатки спасти. Видит бог — старались. Создали передовое звено кукурузоводов…» Артемий Богданович умолчал лишь о том, что все звено состояло из одного человека — Сашки Селезнева, если не считать тракториста Хохлова, который подвез навоз. «Все силы бросили, старались, спасли только пять га…» И опять Артемий Богданович немного преувеличивал — пяти га под кукурузой не было, двух, если измерить, не наберется. И все-таки ему дали новый выговор, чтоб впредь не вымерзало, но… «выговор не туберкулез, носить можно». Зато осенью были с хлебом, расплатились с колхозниками. Артемий Богданович не кичился, наоборот, прибеднялся, жаловался: того нехватка, там неудача, кругом прорехи. Не верили особо, но в передовые не посадили и зерна сверх плана не потребовали, хотя опять было пригрозили: «Вкатим выговор»… Эва, «выговор — не туберкулез». «А умный в гору не пойдет…»
По всей стране загремело «рязанское чудо», брали пример, выполняли и перевыполняли мясо на закуп, резали не только телят, не только дойных коров, но и коров стельных, быков-производителей. Артемий Богданович на совещаниях опять лез на трибуну: «Догоним и перегоним!» Но свой скот не спешил резать: «Догоним и перегоним по свинине!»
В те годы в свинарниках его колхоза сновали длиннорылые, длинноногие существа с острыми хребтинами, заросшие колючей щетиной. Они отличались неуемной прожорливостью и резвостью.
— На что мы корм изводим? — спрашивал Артемий Богданович своих. — На свиное мясо? Нет! На свиную энергию. С нашими поросятками только бы зайцев травить — не поросята, а борзые собаки.
И вот этих-то «борзых» Артемий Богданович давно хотел вывести, заменить породистыми, которые бы вместо проворства наделены были степенной ленью, нагуливали не только щетину, но и пуды сала и мяса.
«Догоним и перегоним по свинине!» «Борзые» подчистую шли под нож хряки, матки, сосунки. Мясо есть мясо лишь бы шло в зачет.
Правда, не так-то просто выехать на одних «борзых», тем более что соседний Блинцовский район выкинул лозунг: «Блинцы — вторая Рязань!» А с блинцовцами соревновались. И опять Артемию Богдановичу вкатили выговор. «Выговор — не туберкулез», пусть… «Умный гору обойдет…»
Вскоре после этого Настю назначили свинаркой вместо Пелагеи Крынкиной. А свинарник был пуст, даже запах свиней выветрился, углы затянуло паутиной. И вот однажды к нему подкатил грузовик, сам Артемий Богданович выскочил из кабинки — шляпа из соломки сбита на затылок, плечи расправлены, пухлая грудь вперед.
— Племяши приехали, встречай, тетушка! — крикнул он Насте.
С кузова сняли две большие плетеные корзины, в каждой из них — по пяти поросят, замученных длинной дорогой. Их высадили на согретую солнцем молодую травку, они лезли друг на друга, повизгивали — розовые, тупоносые, беспомощные.
Артемий Богданович щупал их, восторгался:
— Гляди! Ты на уши гляди! У свиней порода в ушах. Раз висят — значит, благородных кровей, из дворян! — И вдруг стал строг: — Вот, девка, подыми. Колхоз на тебя смотрит. Всех до единого, слышишь?
И Настя подняла всех, это было не так уж трудно — поросята быстро обжились.
Из них выросли десять дебелых маток, каждой было дано имя — Роза, Канитель, Рябина, Купчиха… Они стали основой свинофермы, каждый год по два раза плодили ушастых поросят.
Артемий Богданович не мог нарадоваться на них:
— У свиней порода в ушах. Дворян вислоухих разводим!
Хвалил Настю:
— Золотой ты человек. Придет время — на руках носить будем.
И вот при первой же оплошке свалил все на нее.
7
По дороге, зажатой сугробами, шла Настя домой. В пухлых, белых полях тонули черные избы знакомых деревенек — Степаковская, Кочерыжино, Кулички… В них попрятались люди. Настя несла в себе воспаленное недоверие к ним.
Те, кому она больше всего верила, обманывали ее. Венька Прохорёнок первый, к которому потянулась, без хитрости, открыто. Венька — тонкая шея с проклюнувшимся кадыком, узкие плечи, стянутые тесным пиджаком, тяжелые, раздавленные работой ладони. И ведь робел перед Настей, не нахальничал, как другие парни, можно ли подумать, что обманет?..
Кешка Губин не похож на Веньку, потаскался по жизни, знал баб, ему нужно было к кому-то прилепиться, а Настя — по соседству, чем плоха — не урод, люди уважают. Зажал в сенцах, когда выходила от Павлы, дыхнул табаком, блеснул золотым зубом, сказал: «Перейду к тебе, примешь?» И опять поверила, и опять обман.
Артемию Богдановичу, казалось, какая корысть обманывать, ни в мужья, ни в полюбовники не лез. Ловко он вывернулся: «Сумей против силы справиться». Против силы…
Весь мир Кешки, ты одна против всех. Так и не заметишь, как люди жизнь по кускам повыкрадут. Самой бы у других рвать, да не умеет…
Снег, снег, поля, поля — обширна заснеженная земля, утыканная пахнущими печным дымом деревеньками, перелесками в инее, рассеченная оврагами в путанице кустов. Обширна земля кругом, а куда в ней спрятаться одинокому человеку?
Дорога вела мимо свинарника. Настя свернула к нему. От девичьих неудач, от вида больной матери она привыкла прятаться здесь, забывалась в работе.
Из кормокухни распахнутая дверь вела внутрь, в стойловое помещение. Настя не зажгла свет, и животные не учуяли ее приход. Из темноты слышалось сопение, вздохи, шевеление, тек густой запах. Укрытая от белого заснеженного мира, здесь шла своя жизнь, — Настя впервые подслушивала ее со стороны. Обычно ее приход нарушал эту жизнь: подымалась возня, визг.
Темнота, густой спертый воздух, хряк Одуванчик вздыхает, и его вздохи напоминают натужно стариковское: «Охо-хо!» Тоже жизнь, радуются, когда приносят корм, спят, чешутся, поросятся и не замечают, что над ними текут дни за днями, не замечают, что живут. И Насте вдруг стало страшно от неожиданного открытия — живут, словно спят, к чему являться на белый свет, когда свету не видят?
«Охо-хо!» — вздох Одуванчика.
Кешка звал Настю с собой, в города, освещенные по вечерам огнями, в города, где кипят улицы от народа, где сияют окнами магазины, где непохожие на нее, Настю, люди разъезжают в машинах, ходят в театры. Кешка звал, и стоило ей сказать «да» — как забыты были бы эти стариковские вздохи Одуванчика, забыта засыпанная снегами деревня Утицы, и нынешние беды казались бы смешными, и ругает или хвалит ее сам Артемий Богданович — нисколько не важно. Кешка ни разу не заглянул сюда в свинарник, а звал: едем, не топи себя в свином навозе. Стоило только сказать «да»… Кешка звал, и уговаривать его было напрасно — не прельстился, что построят новый дом, что купят мотоцикл…
Темный провал дверей, в густом, перебродившем сумраке живут туши сала и мяса, без мысли, без страсти, покорно. И Настя, чтоб перебить эту жизнь, стала торопливо шарить по бревенчатой стене, отыскивая выключатель.
Свет вспыхнул, разбудив свиней — заворочались, завизжали. И в этом сонливом мире бывают минуты радости, даже неистовства. Поросята лезли друг на друга, толкались в перегородки…
Отлученные от маток больные сосунки лежали кучей под рядном. Только один отпал в сторону, растянулся, припав по-собачьи мордой к полу. Он вяло приоткрыл белесое веко, проклюнулся черный маленький глаз, переполненный почти человеческой покорной тоской. И эта тоска в упор, в самую душу, и то, что не в куче, а сиротливо умирает в стороне, резануло Настю по сердцу. Она взяла его на руки, прижала к себе:
— Бесталанный ты мой…
Из кучи вынесла в подоле троих, выкинула в навозную яму. В куче оставалось еще около десятка, все они обречены, все подохнут, но Настя все-таки возилась с ними, кормила, подносила к маткам.
Того, сиротливого, засунула за пазуху, пошла домой, волоча от усталости ноги.
Спускавшаяся с потолка лампочка без абажура заливала избу ярким светом, на столе в деревянной чашке прикрыт полотенцем нарезанный хлеб. Мать сидела у стола, сутулилась, ждала ее, и, как всегда, лицо у нее какое-то немое, как всегда, прислушивалась, что происходит у нее внутри, к болезни.
— Щи в печи и селянку с яйцом сделала, должно, перестоялась, — сказала мать. — Достань, лапушка, сама… — И почему-то сняла со стола свою иссохшую, с набухшими суставами руку, стыдливо спрятала в юбке.
Настя вынула из-за пазухи поросенка, положила к порогу:
— Чем бы укутать его?.. Умрет, не выходим.
Клетчатый Кешкин шарф все еще лежал на лавке, Настя взяла его, заботливо завернула грязного поросенка.
— Ты чего? — удивилась мать. — Вещь-то совсем новая.
Настя сердито обрезала:
— Иль думаешь, я корыстоваться после него буду?
И представился Кешка с этим шарфом на шее, в городском пальто, в шляпе и с золотым зубом. Сейчас, поди, толкается где-нибудь под фонарями на людной улице, глазеет — в какой бы магазин зайти. Мать, как и этого свиненка, что сунула под порог, уже не выходишь, все равно умрет. Умрет, а время пропущено, к кому-то там прилепится Кешка?..
Сухие, текучие морщинки на бледном лице матери, глаза застывшие, глаза, для которых не так важно то, что они видят — изба, Настя, печь, поросенок, — важно внутри, туда вглядывается, тем живет.
— Собери, лапушка, сама, мне сегодня чегой-то совсем… Ох, господи! Скорей бы смерть пришла. Молю, молю, никак не вымолю.
— Раньше бы молила, а теперь чего уж — поздно! — прорвалось у Насти.
Вот как складно у нее получается: мать умрет, когда уже нет нужды умиратб, когда уже Кешка утерян, когда счастье проскочило мимо. И что толку, что мать когда-то тянула ее, выкармливала на крапиве да на кугеле, что толку, что вытянула, — нянька при свиньях. И впервые к больной матери обида, впервые злоба: пусть не хотела, а ее бабье счастье переехала.
— Поздно! Не вымолишь!
— Доченька, господь с тобой! Что говоришь?
— А то, мне хоть вешайся, как подумаешь, что за житье впереди.
— Господь с тобой!
— Видать, не со мной ваш господь, с кем-то другим!
— Так я, что ж… так ты б покинула меня… Право, чего уж жалеть.
— Покинула! Покинула! А после — корчись от совести. Тоже не жизнь! Ох, нет мне удачи! Скажи, за что я проклята, за какие такие грехи? Оглянись, кто из девок так обижен, как я?
— Я бы рада…
— Уж молчи! Что толку от твоей радости! Ты-то хоть немного да хлебнула счастья, хоть чуток да с мужем жила, семью имела. А я?.. Может, мне радоваться, что сейчас щи не пустые буду есть, что в сундуке пальто нарядное лежит? И в этом нарядном пальте никому не нужна!..
Мать сидела, подавшись головой вперед, скрученные руки дрожали на коленях. А Настя уже не владела собой, выкрикивала с клекотом:
— Для чего живу? Для чего? Для того, чтоб еще одно пальто заробить? Потом спрятать и не надевывать! Ломлю спину с утра до вечеру — для чего? Для кого? Для себя? Не-ет, для свиней! Вот она долечка! Радуйся вместе со мной-то! Чего не радуешься?..
Мать тихо произнесла:
— Не руки же мне на себя наложить. Нету смерти-то, не вымолю.
И Настя отрезвела от ее глухих, виноватых слов, опустилась на лавку, шершавой, жесткой ладонью провела ото лба к подбородку, сдирая с лица кошмарную одурь.
— Раньше, слышь, приемные дома для стариков были… Есть ли теперь-то?
Настя терла лицо:
— Чтой-то со мной?.. Дичаю…
— Разве не вижу я, что век твой заедаю.
— Молчи! Молчи! Забудь! С ума схожу!..
— У меня, глядючи-то, кровью по тебе сердце обливается.
— Ох, прости ты меня, непутевую. Молчи! Нянчить тебя буду, лечить буду! Да и как мне без тебя? Без тебя одна-то совсем с ума свихнусь. Хоть для тебя и жить-то, маменька…
— Добрая ты у меня, Настька.
— Сорвалась я сейчас…
— Этого-то… — Мать кивнула к порогу, где из широкого клетчатого шарфа высовывался поросячий нос. — Чаю надо круто заварить да отпаивать. Помогает.
— То стервлюсь, то в жалость бросает. И этого вдруг так-то жалко стало…
— Добрая ты… А шарф зря — новый.
— Ну и пусть этот бездоля в новом пофорсит. — Настя подошла к порогу, опустилась на колени. — Лежи, Кешенька, лежи, болезный… Вот и имя ему, самое подходящее… Коль выживет — память о том. Другой-то не оставил.
8
На следующее утро выбросила еще пятерых поросят. Заболели новые. Болезнь как пожар…
Приехал дед Исай, привез корм, сообщил, что кладовщик Михей отпустил муки самую толику, почти всю заменил высевками.
Все ясно, считали — «гордое знамя колхоза», как тут не задабривать, не идти навстречу — ей подбрасывали и получше и побольше. «Гордое знамя»… Ошиблись. И сразу вместо муки — высевки. И жаловаться не думай, ответ один — как всем, так и тебе. Как всем, ты не особая.
И с отчаянья решилась: «Еще посмотрим, может, и особая…»
Она зашла к Павле:
— Подкинь вечером моей прорве корму. В Загарье еду, до ночи задержусь.
Дома она достала из сундука пальто с мерлушковым воротником, то самое, что купила в прошлом году, на голову накинула пуховый платок…
Пешком до тракта, а там к райцентру ходил автобус.
Сушеной черники она достанет и в деревне, в аптеке надо взять каких-нибудь трав, бутыль риванола и, главное, как можно больше рыбьего жира, на что не захотел раскошелиться Артемий Богданович.
В ветлечебнице просить — пустое. Было бы у старшего ветфельдшера, было бы и в колхозе — Артемии Богданович с ним в дружбе.
Конечно, все влетит Насте в копеечку, да теперь ей деньги не так нужны, раньше думала купить Кешке мотоцикл «Уралец».
В аптеку сразу не пошла. Без рецептов, без бумаг с печатями ей не отпустят, тем более что собирается закупать оптом: стадо лечить — не мать, все полки в аптеке опустошишь.
Настя с автобуса двинулась к Маруське Щекоткиной, та родом из их деревни да еще приходилась родней, хотя и не близкой — троюродная сестра. Работала Маруська буфетчицей в сплавконторе, ее все Загарье знало.
— Выручай, Марусенька, не то съедят меня…
Маруська — добрая душа, своих помнит, не раз выручала, когда сахар в магазинах было трудно достать, — сплавщики-то снабжаются на отличку. Вся деревня Утицы не пивала чаю без сахару.
— Выручай, Марусенька…
Маруська — добрая душа, невысока ростом, конопата, бойка на язык. Вот таким-то и везет в жизни, муж у нее работает на сплаве и зарабатывает крупно, не пьет, на стороне не гуляет, Маруськи побаивается. Дом недавно свой поставили, а в доме в каждой комнате по кровати пружинной, на всех перины горой. При такой жизни и к другим можно быть доброй.
В аптеке Маруська никого знакомых не имела, но зато хорошо знала местного фотографа Исаака Куропевцева. Тот уж знает всех и ей, Маруське, ни в чем не откажет. Кроме того, он — стар, верно, часто ходит в аптеку.
Однако Исаак Куропевцев был хоть и стар, побаливал, но лечиться не любил, а беде помочь мог — хорошо знаком с Василием Леонтьевичем Мигуновым, тот много лет работал в райздраве, сейчас на пенсии, авторитет еще не растерял.
Василий Леонтьевич оказался «тот самый», который нужен. Он сходил к врачам, чтоб получить рецепты, — «аптека-то не частная лавочка, перед кем-то отчитываться должна», — свел Настю с Анной Павловной, она заведующая аптекой, провизор, командовала штатом — одной девицей, которая недавно ушла в декретный отпуск, — так что полная хозяйка.
Василий Леонтьевич попросил, Анна Павловна не отказала, выдала все, что нужно. На беготню от одного человека к другому ушел целый день. Но Артемий Богданович, если б решился сам раздобывать, вряд ли бы управился быстрей, ему бы пришлось ходить из учреждения в учреждение, составлять бумаги, подписывать их. Вряд ли быстрей да и вообще вряд ли достал все, так как с бумагами чаще заедает.
С двумя тяжелыми сумками, набитыми бутылками, пузырьками, пакетами, Настя двинулась от Маруськи к автобусу. Все-таки Маруська — добрая душа, она и покормила Настю, и помогла уложить все, даже сунула гостинец — двести граммов недорогих конфет: «Старуху побалуешь…»
Насте везло, по дороге ее обогнал грузовик и с ходу затормозил. Открылась дверка, высунулся шофер:
— Домой, зазноба?
Женька Кручинин, возивший ей обрат и сыворотку.
— Садись. И мне веселей. Люблю женское общество… Да сидоры-то брось в кузов — целы останутся.
— Не, — Настя стала пристраивать сумки на коленях. — Бутылки у меня побьются.
— Бутылки? Уж не свадьбу ли гуляешь?
— В моем заведении один жених — Одуванчик, да и то у него невест много.
— Тогда именины?
— Иль поминки. Чай, слышал уже, болезнь на поросят напала, вот спасаю — рыбьего жира купила да еще отравы всякой.
— Вроде не твоя забота. Тебе должны на подносике поднести.
— Жди. Хоть бы раскошелились… На свои деньги все.
— Мне б такую женку заботливую, как у твоих поросят хозяюшка.
— А своя что? Сменяй на другую, коль не хороша.
— Променял бы старую
На девку угарую,
На кобылу,
На козу,
На козулю в носу… Прогадать боюсь. Все девки хороши, и откуда только жены-злыдни берутся.
Машину заносило на поворотах, из тьмы на стекло кабины бесновато летели освещенные фарами хлопья снега.
9
Веселый Женька Кручинин выболтал. На другой день, близко к полудню, серый рысак пронес по улицам дрожки, остановился у свинарника. Из дрожек выкатился упрятанный в черный полушубок Артемий Богданович, вошел к Насте, на исхлестанном морозным ветерком лице — доброе смущение, скинул шубную рукавицу протянул теплую руку:
— Вот из Дору гнал, решил завернуть. Как здоровьечко?
— Чье? Мое? Или их? — Настя без платка, раскосмаченная, гневливая, розовая — только что подшевеливала печь.
— Твое, твое, молодая. Ты будешь здорова, и они выправятся.
— Твоими молитвами, Артемий Богданович.
— Эк, кусачая.
Подошел к окну, где на подоконнике рядком стояли опростанные пузырьки, взял один, поднес к носу, внюхался, озабоченно покачал головой, взял другой…
— Ладно, не серчай, девка… А за эти снадобья мы тебе заплатим. Не серчай. Я ведь тоже могу ошибаться. У каждого своя манера к делу подходить. Я, к примеру, люблю с обходцем — «умный в гору не пойдет…» А ты, может, из тех, кто как раз горы-то берет в лоб… Много еще пало после тех? А?
После тех семи, что Настя вывалила перед Артемием Богдановичем, пало много и еще, не миновать, будут падать — считай, на всем зимнем опоросе крест. Но Настя ответила заносчиво и решительно:
— Один — и хватит!
Сам Артемий Богданович урок дал: не будь слишком доверчивой, доверчивому — синяки и шишки, обходчивому — колобки и пышки, теперь-то она всю правду ему не скажет. Один! Пусть проверит, пусть пересчитает по головам, для этого ему придется скинуть мягкие чесаночки да полазить на коленях вокруг маток, а при этом недолго и полушубочек запачкать. Пусть проверит.
Но Артемий Богданович и не думал проверять.
— Один?.. Ай, молодец! Характер у тебя, девка, гвардейский. Не растерялась, вовремя спохватилась. Ай, молодец!
Голос искренний, уважительный, лицо открытое, от глаз добрые морщинки, но Настя нутром почувствовала — вряд ли совсем верит, не так прост Артемий Богданович. Не верит, а соглашается: пусть будет «один — и хватит», пусть кончится напасть; раз она, Настя, так говорит — значит, знает, что потом вывернется. Ну, а коль, не вывернется — он, Артемий Богданович, не ответчик. А в сводках и расчетах — полный порядок, никто сверху не попрекнет, что у тебя в колхозе падеж; председателя за неудачи по головке не гладят.
— Ворочай, Настя. Мы еще покажем с тобой, что не лаптем шти хлебаем. Ставь точку над этой канителью и бери вершины!
И опять теплой ладонью пожал ей руку, заглянул в глаза, вышел. Привязанный к ограде рысак рыл снег копытом. Настя знала: Артемий Богданович теперь снова начнет ее славить.
И не ошиблась.
Не от кого иного, как от Артемия Богдановича, узнал Костя Неспанов о подвиге Насти. На следующий день прибежал к ней пешком, озябший, прячущий ушм в поднятом воротнике, конопушки на щеках тонули в густом морозном румянце. Выудил из кармана затрепанный блокнотик и вечную ручку.
— Хочу матерьялец подать в районную газету. Так сказать, вроде коротенького очерка о передовике…
Костя был председателем сельсовета. Когда-то на этой должности сидели солидные люди, под их управлением было несколько колхозов. Слово председателя сельсовета было тогда законом для колхозных руководителей, попробуй-ка ослушаться, коль говорит глава местной власти. Но уж много лет, как эти разбросанные колхозы слились в крупный, один на весь сельсовет. И председатель колхоза как-то незаметно поднялся над председателем сельсовета. Клуб отремонтировать — помоги колхоз, у него и тес, у него рабочая сила, в школе дров нет — у колхоза и кони, и машины, и леса вокруг колхозные, не сельсоветовские. Первая фигура на селе — Артемий Богданович, а при нем где-то Костя Неспанов, и если у Кости над головой будет протекать крыша, то на поклон ему идти к тому же Артемию Богдановичу. Ныне уже слово Артемия Богдановича — закон для Кости, да Костя и не лезет в главари, чувствует — молод.
Не так давно Костя писал стихи про любовь, под Есенина и под Степана Щипачева:
Любовь — это буря в душе,
Любовь — это верность навеки!
Скажите вы мне, человеки:
Чего не хватает мне?
Ему чего-то не хватало, чтоб стать поэтом, потому он начал писать заметки в районную газету. И каждый раз, когда он читал напечатанное типографским шрифтом то, что недавно было написано его рукой, когда видел в конце заметки свою фамилию «К. Неспанов», от волнения краснели уши.
К тем, о ком он собирался писать, Костя заранее относился с почтительным уважением, доходящим до робости. Уж коль он пришел к человеку с надеждой увидеть его имя в печати — значит, этот человек особый, он, Костя, не имеет права называть его Ванькой, Сашкой, Настей, как звал их вчера, обязан величать по имени отчеству.
Вот и сейчас он смущался, от смущения с деловитой строгостью насупливая почти отсутствующие брови, выспрашивал:
— А скажите, Анастасия Степановна, что побудило вас?.. Ну, какая внутренняя причина?.. Я с точки зрения переживаний, психологически…
— Чудак ты, Костя. Какая точка зрения да психологически еще… Поросята же дохли, а в правлении, знаю, никто не почешется…
Костя с важным видом делал пометки в своем блокнотике.
Дома он в тот же вечер сел писать очерк, который начинался: «Мела свирепая метель, заносила дороги. Преодолевая напористый ветер, по сыпучему снегу шагала девушка…»
Дальше шел рассказ о том, как эта девушка сквозь пургу несет медикаменты больным поросятам. Костя знал, что метели в тот вечер не было и что Настя к дому шла не пешком, ее привез в кабинке грузовика шофер Женька Кручинин, но недаром же Костя мечтал стать поэтом…
Свое произведение он показал Артемию Богдановичу. Тот пробежал его, нахмурился:
— Спрячь и никому не показывай.
— Почему?
— Да потому, что незачем, голубь, выносить сор из избы. Прочитают в районе, ухватятся: «А, мол, вы такие-сякие — поросята у вас дохнут, свинарки из своего кармана лекарства покупают, даже лошади не догадаются дать», словом, никакого внимания ни к людям, ни к поросятам. Как мы, братец, будем выглядеть? Такие писульки у знающих людей называются очернительством, слыхал? То-то. А вот про свирепую метель ты красиво загнул.
Костя как похвалу, так и критику переживал одинаково — краснел ушами.
— Ничего. Сейчас не попал, в следующий раз угодишь в самую точку, успокоил его Артемий Богданович. — Ты к этой Насте приглядывайся, не раз тебе сочинять о ней придется. Ей рость и рость. Еще вырастет не без нашей с тобой помощи — по области, а то и по всей стране загремит.
Косте не впервой было переживать неудачи. Он спрятал свой очерк, но слова Артемия Богдановича запали ему в душу — к Насте стал приглядываться, и очень внимательно.
10
Поросенок Кешка, которого Настя подыхающим принесла домой за пазухой, выжил, вырос, отъелся, стал тугой, как барабан, давно живет в общем стаде. Но пока Настя нянчилась с ним, отпаивала крепким чаем, черничным настоем, рыбьим жиром, он так привык к ней, что теперь, едва выпускали из клетки, ходил за своей хозяйкой, как собака, терся о ноги, замирал в блаженстве, когда протягивала руку.
Косте Неспанову, частенько заглядывавшему на свинарник, Настя говорила, показывала на крутобокого Кешку, путавшегося у юбки:
— Вот — скотина, а верней не отыщешь. Добро помнит. Я в омут брошусь, он — за мной. Средь людей, поди, таких не бывает. У людей-то, у каждого своя рубашка ближе к телу.
Костя косился на млеющего под Настиными руками Кешку, возражал:
— Ты это брось людей с поросятами сравнивать. «Человек — это звучит гордо!» Горький сказал.
— Вот то-то, что гордо. Всяк своей гордыней живет. А у животных душа проста. Что, Кешенька, что, сизарь мой, вот я тебя, вот как… Ишь, лыбится…
— Золотой ты работник, Настя, а политически незрела. И на людей черства. Вот я, к примеру… — У Кости начинали наливаться багрянцем уши. — Вот я с открытой душой к тебе, а ты хоть раз мне слово ласковое бросила? Ласковые-то слова у тебя на поросят уходят. Иди навстречу людям… Вот, к примеру, я… Я, конечно, ничем других не лучше, но…
Костя замолкал. Настя, задумчиво почесывая млеющего Кешку, холодновато и пытливо присматривалась к Косте:
— Лучше ты иль хуже — не пойму. Ты блаженный, стихи пишешь, статьи, речуги толкаешь на собраниях. Ни от твоих стихов, ни от твоих речей никому ни жарко и ни холодно.
У Кости сердито горели уши. Эта засидевшаяся в невестах рослая девка с крутыми плечами и самостоятельным характером, которого побаивался сам Артемий Богданович, не замечает его, глядит как бы сквозь. А Костя последним парнем никак себя не считал.
Зимой Настя бросила Артемию Богдановичу, словно отрезала:
— Один — и хватит!
А к тому времени подох уже не один, да и после выносила тайком в подоле. Тайком, утаила и — вот диво — страха не чувствовала, что откроют обман.
О каждом поросенке, как только родился, сообщи в колхозную контору есть, мол, прибыль на голову. Эту голову сразу записывают в книгу, в графе «приход» цифра увеличивается на единицу. Сдох поросенок — спиши, акт составь, чтоб в другой графе «расход» была проставлена новая цифра, уже на единицу меньше. Учет! На то и существует бухгалтерия во главе с бухгалтером Сидором Петряевым. Сам он мужик тихий, покладистый, жена на нем верхом ездит, да законы возле него строгие. Попробуй не списать вовремя хотя бы одного подохшего сосунка — откроют книгу, и цифра покажет: не сходятся концы с концами — на единицу меньше, где эта единица? Может, продала, может, во щах съела, и не думай доказывать на пальцах. На суд, скажем, не подадут, а оплатить из собственного кармана заставят.
Вынесла тайком в подоле добрый десяток… Казалось бы, прямехонько сама себя к беде ведешь и свернуть нельзя — дохлых поросят не оживишь. Но… «Умный гору обойдет…» А каким путем? Кого это интересует?
Весной — новый опорос, как бы его ни планировали там, в конторе, какие бы цифры ни писали, а угадать заранее никто не в силах: сколько матка Рябина вымечет поросят — может, пять, может, десять. Сколько ни скажи — поверят и уж, конечно, сломя голову не бросятся считать, с цифрами, записанными в книгах, сравнивать: «Не собираешься ли обжулить нас, голубушка?» Любая свинарка удивилась бы и обиделась такой проверке. Обычно документы на рожденных поросят оформляют в конторе, от которой до Настиной свинофермы добрых семь километров, верят слову, сразу подохших поросят даже не списывают, чтоб особо «не портить показатели».
Весенний опорос покроет недостачу. Интересоваться поросятами начнут осенью, когда придет время рассчитываться с государством по мясу. Но и тогда всех по головам считать не станут, могут только спросить: почему не подросли, почему вес ниже нормы? Ну, тут отговорок полный мешок: «Поросята-то зимние, а вы бы хотели полный вес, спасибо говорите, что таких вытянула». «Умный гору обойдет…» Большого риска нет, а совесть… Что совесть? Артемий Богданович, ежели прижмет, не посовестится на нее, Настю, вину спихнуть. Почему она должна быть совестливее его?
Артемию Богдановичу приходилось отдуваться за зимний опорос. Настя как-никак, пусть с потерями, остановила падеж, сохранила часть поросят, у других же свинарок попередохли не только сосунки, но и откормочные, заразились матки. Свинаркам снижали оплату, и они на чем свет стоит костили Артемия Богдановича. И тут единственный ангел-хранитель — Настя. На все попреки, на все жалобы у Артемия Богдановича один ответ: «Не справились, а почему Сыроегина справилась? Она что — дух святой, не такая же свинарка? Все дело в умении и добросовестности!» — и фотографию Насти наклеили на Доску почета, ее имя постоянно склоняли на собраниях, о ней с уважением писали в районной газете. И становилось ясно каждому — на околице деревни Утицы зреет знатный передовик колхоза. А чтоб он быстрей зрел, нужно подкармливать. Кладовщик Михей по словесному указу Артемия Богдановича отпускал Насте на свиней лучшие корма, не заменял больше муку высевками. Лучше и больше, так как сдохшие поросята числились живыми, росли, крепли, им тоже отпускалось на прокорм.
Так прошла зима, из-под снега выползли прогретые проплешины, в оврагах копилась застойная зеленая вода. И Настя по утрам бежала на ферму уже при молодом солнышке — дни становились длиннее.
После зимнего опороса матки не набрались сил, и весенний приплод был мал. Рябина, самая плодовитая, меньше восьми никогда не метала, а тут принесла шестерых. И, как назло, где тонко, там и рвется. Хотя Настя не спала ночами, затемно вскакивала с постели, накидывая платок и ватник, мчалась к ферме, часами не отходила от маток, но все-таки недоглядела. Матка Роза, страховидно толстая, неуклюжая, ворочаясь с боку на бок, задавила сразу троих. А впервые запущенная под хряка Голубка, на которую Настя рассчитывала — будет хорошей маткой, — оказалась со злым пороком. Голубка, крокодилом бы ее звать, выметала четверых и тут же сожрала. И не обошлось без поштучного отхода: одного угораздило свалиться в навозную яму, другого искусал хряк…
Настя извелась, почернела лицом, мать дома пряталась от нее на печи вдруг да вгорячах облает. А Настю продолжали славить, Костя Неспанов ходил вокруг с блокнотиком, он написал в областную газету, ждал ответа. И часто заскакивал замотанный делами Артемий Богданович, топтался в проходе, заглядывал под маток, бодрил:
— Держи марку, Настя. На тебя глядит вся колхозная общественность.
Настя сердито пеняла ему на скудный приплод, но о потерях помалкивала. Задавленных Розой сосунков снова тайком вынесла в подоле…
Списать под этот опорос мертвые поросячьи души? Наверно бы, можно. У неу не красно, а у других и совсем из рук вон плохо. Другие-то не получали добавочные корма, не обиходили маток, как она обиходила, не вскакивали по ночам с кровати… Списать можно, грехи покроются, но тогда уж похвалы не жди — кисленькие попреки и, быть может, вместо чистой мучки высевки. «Что ж это ты, Настя, по показателям упала, на одной половице с Марией Клюшиной стоишь?» А у свинарки Марии Клюшиной пустые клети паутиной затягивает. Нет, она ей неровня!
Семь бед — один ответ. Раньше не испугалась проверки, а теперь-то и подавно бояться нечего.
Для виду Настя решила списать двоих на Голубку. Только двоих. Приплод невелик, но и процент отхода низок. Верьте!
Нежданно-негаданно нагрянул носатый паренек в кожаной куртке, увешанный фотоаппаратами, заставил выгнать всех свиней под открытое небо, поставил посреди тучных маток Настю и строгонько покрикивал: «Не глядите в объектив! Минуточку!» Хлопотливо щелкал, то забегая сбоку, то приседая, то забравшись на изгородь. Прославлена была на область не только Настя, но и ее любимец Кешка. Настя-то стеснительно смотрела в сторону, а Кешка, прижавшись к юбке, нахально уставился со снимка, он не считался со строгими приказами носатого паренька: «Не глядите в объектив!»
После дождей, по расползшейся дороге, еле-еле пробрался к Утицам автобус, из него высыпали девчата и парни — все свой брат, колхозники из соседнего Блинцовского района. Они лазали по свинарнику, изучали свиней, расспрашивали:
— А каков рацион? А когда поишь? А собираешься ли еще проводить зимний опорос?..
Глядели в рот, ловили каждое слово.
11
А дома по-прежнему — пустынно и скучно. Мать держалась, ей не хуже и не лучше, лечилась травками. По-прежнему Настя заставала ее сидящей на лавке с замороженным взглядом, направленным куда-то внутрь себя, вглубь.
Мать-то не считала Настю счастливой. Вот если б внуки по избе ползали да стоял бы в доме запах ядреного мужика, дымящего табаком, приходящего с работы в пропотелой рубахе, тогда бы — у дочери жизнь, как у людей. А так и с почетом, и с фотографиями в газете, а бобылка бобылкой, для бабы это последнее звание.
Потому-то Настя и не любила бывать дома, что каждую минуту чувствуешь немое сожаление матери.
Они с матерью сидели за столом, Настя хлебала из чашки, мать смотрела, придвигала то соль, то нож для хлеба. Молчали, обо всем давно переговорено. Корм в свинарнике задан, вечер свободный, как-то надо его убить. Обычно Настя убегала к Павле поболтать. Павла каждый раз сообщала новенькое о Кешке — живет в Соломбале, работает на лесозаводе, холостяжничает, как бы при одинокой жизни карусель у него не пошла, сама знаешь, от стопки никогда не отказывался, а дружков-собутыльничков везде хватает… Павла доносила не без задней мысли — вот, мол, хоть ты и в славе, и при деньгах, а мужики на тебя что-то не очень падки, нам-то Кешка пишет, а тебе даже и поклоны не велит передавать. Павла в эти минуты была неприятна Насте, но приходил вот такой свободный вечер — и тянуло к ней, послушать о Кешке.
И сейчас она, дохлебав бы щи, поднялась бы и ушла, но за окном раздался храп коня, стук ног на крыльце, знакомый голос:
— Дома хозяйка?
Артемий Богданович — что с ним? — синий бостоновый костюм, в каком выезжал только в область, не ниже — для района и обычный хорош, — рубашка белая, галстук, и лицо — что пятак, натертый о валенок. За Артемием Богдановичем бочком Костя Неспанов, тоже в глаженом костюме, отложной воротничок вокруг шеи, туфли начищены, щеки красные, и глаза бегают где-то по потолку, выше голов.
— Здоровы будете?
— Здоров, коли не шутишь, — ответила Настя, чувствуя зябкость в спине и слабость в ногах: начинала догадыватъся. — К столу бы пригласить, да не сказались — стол-то не праздничный, а вы — как на именины. Может, порогом ошиблись?
— Нет, вроде порог тот и люди те, что нам нужны. Правда, Костя? — Артемий Богданович решительно присел к столу. Костя на краешек лавки в сторонке.
Мать Насти с натугой поднялась, двинулась было к печке, но Артемий Богданович остановил ее:
— Нет, мамаша, останься. Не посторонний человек, а, так сказать, напротив — самый нужный в нашем деле. Правда, Костя?
У матери дрогнули морщины, она села, тревога и выжидание застыли на лице.
Артемий Богданович выбросил на стол руки, пошевелил пальцами, крякнул смущенно, исподлобья взглянул на Костю — тот густо покраснел.
— Ну вот, — начал Артемий Богданович, — я человек прямой, вилять не люблю. Обычаев старых тоже не знаю. Но, помнится, в прежние-то годы начинали: «У вас есть красный товар, у нас — купец молодой…» Так, что ли, мать? Настя, ясно?
Настя молча покосилась на свекловичную физиономию Кости.
— Я сват, Настя! Сам-то он хуже девки робеет, пришлось взять на себя. Впервые в жизни, значит, с этой должностью справляюсь, может, чего и не так, не обессудьте… Ну, Настя?
— Чего — ну?
— Эва, она еще спрашивает! Пойдешь за него замуж или какого там принца крови из заморских стран подождешь? Вопрос, так сказать, прочувствованно ребром. Ну?
Настя сжала руки коленями, уставилась в стол, молчала. Артемий Богданович смущенно крякнул:
— Ну, не тяни! Иль он чем худ тебе?
— Худ?.. Пожалуй.
Костя тоскливо сцепил челюсти, поднял взор к потолку, проскулил:
— Пойдем, Артемий Богданович, отсюда. Что уж…
— Это как так пойдем? — У Артемия Богдановича гневливой темнотой налились подглазницы. — Уйдем, когда выясним, не раньше того. Уйдем и позор снесем. Выкладывай, чем он тебе худ?
— Одним только. Молод. Я уж в годах, намедни двадцать восемь стукнуло, что мне к себе детей припутывать?
— Детей? Костя, слышишь?.. Да обидься ты, чертов сын! Стукни по столу, чтоб чашки с ложками на пол посыпались!
— Пойдем, Артемий Богданович, чего уж…
— Эх, завел волынку! Ты не можешь, так я стукну! — И Артемий Богданович действительно влепил тупой кулак в столешницу. — Тебе — двадцать восемь, ему двадцать пять в этом месяце выпадет. Три года разница. Как ты успела постареть за эти три года, чтоб он тебе дитем стал? Сколько Кухареву Гришке, помнишь? А сколько его Верке?..
— То-то и оно, — глуховато и спокойно возразила Настя, — иль слава о Гришке не идет? За любым хвостом волочится, юбку на козу одень — побежит, принюхиваясь. Такого не хочу!
— Ха! Он ли на Гришку похож? Да ты оглянись — с таким ли характером хвосты ловить? Не парня, а ярочку к тебе в дом ввожу.
— Артемий Богданович! — Костя вскочил, щеки пошли пятнами, зеленые глаза плавились, голос скололся на сипленький тенорок: — Не хочу! Баста! Можно только по… по любви! А раз нет… То чего уж. Я пошел, Артемий Богданович…
Артемий Богданович вдруг стал спокоен и суров:
— Ну, Настя, скажи ему, чтоб уходил. Ну-ка, скажи, я послушаю.
— Я пошел, Артемий Богданович! Я пошел… Раз нет, раз не лежит сердце… Чего уж…
— Что-то я, Настя, голосу твоего не слышу. Молчишь?.. Ну, тогда я скажу последнее слово, другого не будет. Цену себе набиваешь? Хвалю! Цену себе каждый знать должон. Но только помни: так и с товаром на руках остаться можно. А твой товар — скоропортящийся, вроде молока, подержи подольше — там уж за бесценок никто не примет.
— Цена! Бесценок! — вдруг завопил Костя. — Что за слова? Не хочу! Не буду! Знал бы я, да разве… Да ну вас!..
Он повернулся и пошел к двери. Мать, сидевшая за столом все с тем же тревожным выжиданием в глубине бесцветных морщинок, вздохнула, опустила глаза.
— Костя, обожди, — тихо сказала Настя.
И Костя застыл — одна нога в сенях, другая в избе.
— Неуж любишь? — все так же тихо спросила Настя, пристально глядя на застывшего на пороге Костю.
— Да теперь все! Теперь внутри перегорело. Не-на-ви-жу! Врага ты, Настя, во мне нажила во веки веков!
И Настя улыбнулась, оглянулась на Артемия Богдановича:
— Чай, принесли с собой чего-нибудь? А то ведь я не заготовила, не ждала таких гостей.
— А как же, как же, — колыхнулся Артемий Богданович. — Костя! Там в сено сунута, вынь поди!
Костя помялся в нерешительности и вышел. Вернулся хмурый, пряча глаза, поставил на стол поллитровку.
12
С Кешкой даже не успели расписаться, а о свадьбе и разговоров не было.
Артемий Богданович сам взялся за дело, решил устроить парад.
В троицын день, по старой памяти, гуляли все — и верующие старухи, и неверующая молодежь. На этот счет Артемий Богданович признался: «Бога легче вькорчевать, чем праздник». И потому он созвал правление, посовешался, выпустил приказ:
«Во имя ликвидации религиозных предрассудков правление колхоза «Богатырь» постановило:
1) отменить праздник святой троицы;
2) вместо него праздновать каждый год свой социалистический, колхозный праздник — «Встреча лета»;
3) в этом году во время праздника «Встреча лета» широко отгулять колхозную свадьбу К. И. Неспанова и лучшей нашей свинарки А. С. Сыроегиной;
4) на проведение свадьбы правление колхоза выделяет пятьсот рублей;
5) свадьба будет проходить на берегу реки Курчавки возле бывшей Редькинской мельницы, в случае плохой погоды — в сельском клубе;
6) на свадьбу приглашаются все члены колхоза «Богатырь».
Но и это не все. Артемий Богданович всегда считал: «Мало сделать похвальное дело — нужно добиться, чтоб за него похвалили». О колхозной свадьбе должен шуметь весь район и знать вся область.
Артемий Богданович скупил в магазине сельпо залежавшиеся пачки чертежной бумаги и с ними поехал в райком, беседа была недолгой, после чего в районной типографии раздался телефонный звонок:
— Тут к вам зайдет председатель колхоза «Богатырь», посодействуйте.
И Артемий Богданович не заставил себя ждать:
— Великая просьба — отпечатайте покрасивее.
Выложил на стол пачки чертежной бумаги, преподнес написанный своею рукою текст:
«Уважаемый товарищ . . . . . . . . 2 июня, сего года, в селе Верхнее Кошелево Загарьевского района колхоз «Богатырь» выдает замуж знатную свинарку Анастасию Степановну Сыроегину за председателя сельсовета Константина Ивановича Неспанова. От лица молодых и от лица всего колхоза просим Вас, дорогой товарищ, быть желанным гостем на нашей колхозной свадьбе.
Начало в три часа дня».
Великая просьба… Как тут откажешь.
Приглашения были разосланы в область: секретарю обкома по сельскому хозяйству, председателю облисполкома, главному редактору областной газеты, начальнику сельхозснаба… Посланы они были и в район: опять же первому секретарю Пухначеву, секретарю по пропаганде Кучину, председателю райисполкома Гаврилову, директору районного отделения госбанка Сивцову (нужный человек), председателю райпотребсоюза Тужикову (не менее нужный) и еще кой-кому по расчетам Артемия Богдановича.
Из района — сомнений не было — приедут, а из области — за двести километров, на свадьбу — ой, вряд ли. Но Артемий Богданович и не рассчитывал на высокихгостей из области. Важно, что там прочитают приглашение, лишний раз узнают, что в Загарьевском районе существует колхоз «Богатырь», который, по всему видать, живет на широкую ногу, дружно справляет свадьбу знатных людей. Артемий Богданович не без умысла поставил перед именем Насти слово «знатная».
Приглашения были разосланы, а Артемий Богданович развивал бурную деятельность, брал за бока приглашенного на свадьбу председателя райпотребсоюза Тужикова, закупал у него: селедку — бочками, постное масло — ведрами, водку, красное вино, шампанское — ящиками. А в деревне Степаковская сноровистая бабка Анфиса варила хмельную бражку и на меду и на солоде.
По всему колхозу из деревни в деревню шли возбужденные рассказы о приготовлениях, все ждали веселый день. Два гармониста, Павел Клешнев и Серега Рюхин, один из села, другой из деревни Кулички, вечные соперники — неизвестно, кто из них мастеровитей в игре, — были освобождены от работ «для репетиций» со строгим наказом, чтоб не ударили в грязь лицом.
Настя шила себе белое подвенечное платье. Костя на правах жениха приходил к ней каждый день, сидел на краешке лавки, напряженно вытянувшийся, с густым торчащим ежиком, который так и хотелось пригладить ладонью, спросить: «Кто тебя обидел, лапушка?» Он молчал, вздыхал, иногда ронял:
— Брошу свою должность, пойду в трактористы или в животноводы.
— Это почему?
— Бесперспективная у меня работа. Может, там смогу показать себя. Нет, бесперспективная.
— Зато чистая. В животноводах-то, гляди, ручки навозом испачкаешь.
— Навозом испугала. Я, может, за светлое будущее жизнь готов отдать.
И торчит мальчишеский непокорный ежик, под чистым лбом обиженно зеленеют глаза, и Настя со зрелой бабьей жалостью думала: «Право, не на три года моложе, на все тринадцать, с кем судьба сводит — желторотенький».
13
И вот он — день.
На небе ни облачка, засасывает синий воздух колом взмывающих стрижей. Река Курчавка сквозь темную воду червонится камешковым дном. Березки на берегах задумчиво перебирают не утерявшей еще весенней яркости листвой — сочные, песенные березки троицына дня.
На зеленом берегу наспех сколочены длинные тесовые столы буквой «П», в челе — место для молодых и для начальства. Здесь стол покрыт белыми простынями, на остальных простыней не хватило. Вокруг стола хлопочут жинки-общественницы, уставляют закуску: холодное мясо ломтями — свинина, баранина, говядина; райпотребсоюзовская, крупно нарубленная селедка с вареной картошкой; квашеная капуста, щедро политая постным маслом; на противнях горы холодца, размякающего от жары; огурцы прошлогоднего посола; бордовые винегреты под тем же райпотребсоюзовским постным маслом. Меж всем этим убранством — ясные бутылки «Столиичной», сумрачно нарядные — шампанского. Ближе к молодым в стеклянных графинах, какие обычно украшают столы президиума во время заседаний, — мутно-янтарная бражка, налитая по самые пробки. Подальше от молодых — та же бражка, но только в разномастных эмалированных чайниках.
Народу на берегу, что пчел на летке перед роением, — топчутся, мнут траву, сходятся кучками, степенно беседуют о погоде, о яровых, о том, что неплохо бы дождичек, нет, не сегодня — боже упаси! — как-нибудь на днях. Все в костюмах, в чистых рубахах, кой на ком пучится шляпа, кой-кого не сразу распознает и сосед, влажный речной запах нет-нет да и перебьет густая волна нафталина. Девицы ходят в цветистых платьях, при часах на запястьях, каждая держит в кулаке чистый носовой платочек. Дед Исай мученически морщится — жмут ни разу не надеванные ботинки. Все стараются углубиться в беседу, чтоб не глазеть зря на стол — неприлично вьказывать нетерпение.
Наконец гуляющей походкой подошли гости из района: невысокий, коротко стриженный Пухначев, рослый, начавший полнеть Кучин, осанистый Тужиков из райпотребсоюза, тихий, в очках директор из банка… Подошли, растворились среди масс, примкнули к разговорам о яровых.
А молодых нет. А уже четвертый час и солнце клонится вниз, и кой-кто стягивает с себя шерстяные праздничные пиджаки. Молодых нет, не видать и Артемия Богдановича.
И тут раздался крик:
— Б-бе-ре-егись!
Храпящая тройка, пританцовывая от нетерпения, несла бричку, за кучера, заваливаясь на спину, багровея лицом, — Артем Богданович.
— Бе-ере-егись! Люди добрые, дорогу молодым!
Ветер играет белой накидкой невесты, жених в черном костюме, как скворец, задрал вверх подбородок — душит тугой галстук.
И сразу берег беспокойно зашевелился, одни раступались перед конями, теснили других, эти другие поднапирали, чтоб поглазеть поближе, — толкотня, смех, выкрики:
— Богданыч-то словно Илья-пророк.
— Вместо бороды бы веник приклеить.
— Жаль, бубенцов нет, по-старому-то с бубенцами.
— Вывелись бубенцы…
— Люди добрые! Дорогу!
И визгливые бабьи голоса:
— Гости дорогие! К столу просим! Гости дорогие! Пожалте к столу! Не обессудьте — чем богаты, тем и рады!..
Упрашивать никого не пришлось, хлынули, приступом беря скамьи, потирая руки. Оказывается, как ни длинны столы, а гостей больше, чем нужно. Тесно сдвигались, особенно охотно парни к девкам, смех, советы:
— Прижми-ко Нюрку — сок потечет.
— И так стараюсь.
— Отцепись, банный лист! Василья крикну!
— Твой Василий, глянь, на Дашке сидит, ножки свесил.
Какая-то компания парней развалилась в стороне, развесив по сучьям пиджаки:
— Механизаторы, сюда давай! Дед Исай, ты когда-то прицепщиком был!
— У него теперь своя механизма на четырех ногах.
— Нет уж, браточки, я и здесь ладно угнездился.
Тощая, костистая спина деда Исая — между двух пухлых бабьих спин.
— Тут меня греют.
Во время этой суматохи появились еще два гостя, их заметили только тогда, когда один из них начал выплясывать перед молодыми, целиться из фотоаппарата.
— Кто такие?
Оказывается — область не забыла, из газеты прислали, чтоб описать, сфотографировать, — знай все, как гуляют в колхозе «Богатырь»!
Костя — с растерянно задранным подбородком, потный в черном костюме. Настя — вся белая, горбится от страха, от лютого смущения, кажется вот-вот сползет под стол. И рядом мать, страдающая от беспокойно крутящегося на своем месте Артемия Богдановича. И почетные гости с невнятными, чуть смущенными улыбочками…
У Насти на голове рюшечка, покрывало, заполненное речным воздухом, спадает на плечи. Невестин наряд Насте не очень-то идет, лицо из белого газа — круглое, широкое, с крутыми скулами, как деревянная чаша, и буйная плоть — плечи, груди — слишком решительно выпирает сквозь тонкую ткань. Настя чувствует взгляды, смущается до одеревенения, прячет под стол раздавленные, красные, заскорузлые от работы руки.
Бригадиры за столом и правленческий актив, исполняя волю Артемия Богдановича, шепчут направо и налево:
— Передай-ко, чтоб тут особо не наливались. Как бы при гостях-то какой конфуз не вышел. Особо Егорке Митюхину накажите, он же дурной, когда хлебанет… Вот гости уедут, бражка останется, вечерком возьмем свое…
И всяк, кто бы ни получил такое наставление, понимающе кивал:
— Само собой, раз зазвали — держи марку…
Но сильней всяких уговоров трезвило начало пира.
Первым поднялся со стопкой в руке Артемий Богданович, ему по обязанности положено произнести вступительную речь о том, что колхоз идет в гору — святая правда, давно ли получали триста граммов на трудодень, — что лучших своих людей колхоз умеет ценить, что Настя Сыроегина — прощенья просим за оговорочку, уже Неспанова, — была ничем, а стала всем, что такие, как Настя, — хозяева жизни, что спасибо дорогим гостям, что приехали… Артемий Богданович говорил до тех пор, пока не занемела рука, державшая стопку, и только тогда провозгласил:
— За здоровье молодых!
Поднялся первый секретарь райкома Пухначев, в жизни он был прост, скор на слово, но тут случай особый, быстрота и простота неуместны. Он тоже долго говорил, держа стопку, что растут кадры, что поднимается экономический и культурный уровень, что вот вам наглядный пример — знатная свинарка…
Второй секретарь по пропаганде, Кучин, долго увязывал свадьбу Насти с международным положением, с посягательствами империалистов…
Однако дальше пошло быстрей, так как Тужиков, председатель райпотребсоюза, речей гладко говорить не умел: колупнул международное положение спутался, завязал было речь о светлом будущем — и тут спутался, махнул рукой и рявкнул:
— Горька-а!!
И столы охотно подхватили:
— Го-орь-ка-а!!
Костя, путаясь в невестиной газовой накидке, послушно потянулся к Насте, клюнул носом в щеку.
— Э-що горь-ка-а!!
Снова клюнул.
Тут кончилась организованность, начался разброд, чокались кто с кем хотел:
— Ой, кум, будь здоров!
— Пашка, едрена-матрена! Забыл? Дотянись!
Пробовали говорить речи в честь гостей, но не получилось, хотя за их здоровье охотно пили.
Грянули дружно две сыгравшиеся гармошки, молодежь зашевелилась, полезла танцевать, но танцы сбил шофер Женька Кручинин со своей Глашкой. Женька выскочил и начал выкаблучивать — мелькали начищенные голенища, летали ладони, моталась разлохмаченная голова, с разгона врастал в землю перед Глашкой:
Эх, хвать да похвать
Я в прямом расстройстве!
Надоть бы свинарку сватать
Ту, что попородистей!
Глашка, чернявая, узкобедрая — сама в невесты годна, хотя и двое детей, — каменея в бровях, вихляя плечиками, плыла, потрясая скомканным платочком в руке:
Ой, мил соколок,
Не держу за локоток:
Приживи свинарочке
Свиночек три парочки…
А их, припадая на колено, фотографировал репортер из областной газеты.
— Товарищи! Граждане! Упустили!! — надрывался Артемий Богданович. Товарищи! Выпить забыли!
— Не забыли — пьем!
— За здоровье забыли выпить! За мать Насти! За ту, которая родила нам, которая для нас вырастила…
— Ура-а Анне Егоровне!
— Ур-ра-а!!
Для всех неожиданно вынырнула пригнувшаяся к столу старушка. Фотограф из газеты сломя голову кинулся к ней… Вынырнула и снова канула, снова куролесил Женька, сверкая начищенными голенищами.
До самого вечера было шумно и весело над рекой Курчавкой, но праздник не дорос до того горячего уровня, когда враги нежно мирятся, а друзья ссорятся. Только деда Исая вывели из-за стола — слишком ослаб, — уложили под ближайший куст, сняли тесные ботинки, чтоб не жали. Да председатель райпотребсоюза Тужиков вдруг вспомнил, что он несчастлив в жизни, и пошел было к реке топиться, но и его отговорили вовремя.
Настя была трезва, сидела за столом как связанная, а Костя обнимал за плечи Артемия Богдановича, втолковывая ему:
— Первый человек у нас — она! — и указывал на Настю. — Второй — ты. А третий — я!
Артемий Богданович, красный, маслянистый, довольный всем, ухмылялся:
— Может быть, может быть… Я ведь, сам знаешь, в гору-то не ползу, могу и без номера походить.
— Нет, ты второй человек. Признаю! Она — первая! А третий — я!
На берегу реки вечер кончился, начинался по деревням. Далеко за полночь надрывались гармошки во славу Насти в девичестве Сыроегиной, ныне Неспановой. Далеко за полночь кипел праздник — и враги мирились, и друзья ссорились.
14
Ранним утром бежала сломя голову на свинарник, затапливала печь под котлом и, пока котел закипал, опять сломя голову мчалась домой, чтоб успеть накормить Костю, проводить его на работу.
А дома ее встречал музыкой пущенный на полную силу приемник, и Костя, уставясь в зеркало, гримасничая, брился, и мать словно бы ожила, воевала с ухватами, тащила к столу топленое молоко.
Костя, робкий, нескладный, какой-то ломкий, и Настя рядом с ним чувствовала себя грубой, сильной, с каждым днем все ощутимей материнская ответственность за него, и, когда уходил из дому, почему-то боялась — а не случится ли там на стороне с ним беды, хотя знала: какая беда, занимается, как и занимался, сельсоветовскими делами. Мало-помалу приходила вера, что не случайно к ней потянулся Костя, что без нее ему трудно, а значит — прочно, значит — надолго, не упорхнет.
До сих пор бабью жалостливость тратила на какого-нибудь полудохлого поросенка, больше некуда, кто ее примет, эту неизбывную жалостливость, кому нужна? Сейчас ее принимает, по ночам, косноязыча от удивления, шепчет:
— Жару в тебе, что в печи, право.
И Настя бешено крутилась между домом и свинарником — ни минуты свободной, некогда оглянуться по сторонам. Вот это жизнь! Даже загадай раньше не смогла бы представить лучше.
А давно уже газеты из номера в номер печатали статьи и заметки под общей шапкой: «Навстречу областному совещанию животноводов!» Давно уже в колхозной конторе подбивали итоги: за такой-то квартал надоено, выращено, продано… И где-то в незнакомом Насте Густоборовском районе жила соперница, тоже свинарка, тоже знатная, знатнее Насти, потому что гремела по области давно, потому что и теперь приплод у нее больше, потому что в свое время была награждена орденом, — Ольга Карпова! С полгода назад Настя и думать не думала с ней сравняться — высока, рукой не достанешь. А теперь Артемий Богданович сказал без обиняков: «Вызывай ее на соревнование, не робей, воробей!» Помог составить Насте письмо.
И, как всегда, Артемий Богданович не остановился на полдороге: «Мало сделать похвальное дело — надо добиться, чтоб за него похвалили…» И он добился, что Настино письмо напечатали сразу в трех газетах: у себя в Загарье, в незнакомом Густоборье и в области.
— И наши утки по верхам летают. — Артемий Богданович потирал руки.
Он поднимал Настю, а сам-то говорил: «Умный в гору не пойдет…» И Настя смутно понимала — хитер, удобно для него посылать в гору кого-то другого, попробуй только попрекнуть: с молоком недовыполнил, с зерном заминка — ан нет, обождите, мы другим славны, все разом не охватишь. Под горой сиди, а на горе-то свой флажок поставь, без этого никак нельзя.
Этот человек все сделал для Насти — вознес, прославил, даже мужа нашел. Должна бы отцом родным величать, благодетелем, но почему-то боялась Артемия Богдановича. Как ни растет вверх Настя, а над ним не вырастет, попробуй только поперек пойти — мягонько эдак ссадит, и славу сдует, и знатность слетит… Ох, Артемий Богданович, Артемий Богданович, благодетель!
Тем свирепей Настя орудовала на свинарнике. Что она без него? Простая баба, каких много. Сорвись, Костя потерпит, потерпит, да и возьмется за шапку. Он-то с образованием — книжки читает, статьи пишет, политические моменты в докладах освещает…
Прошел летний опорос, он был куда обильнее весеннего. Рябина родила одиннадцать поросят, даже неприметная раньше Канитель удивила — девятерых, все крепкие, здоровые, любо-дорого глядеть. Тут-то бы и снять грех с души, покрыть старые прорехи, но уж время очень неудачное — перед совещанием-то животноводов, когда пришлось вызвать на соревнование знатную Ольгу Карпову. У всех свинарок — удача, у тебя одной провал, на белом черное сразу заметят, каждый пальцем ткнет, позлорадствует — эге, мол, оплошечка у знатной. Нет уж, назвалась груздем — полезай в кузов. У Насти до областного рекорда не хватало несколько голов. Всего несколько, чтоб перешагнуть Ольгу Карпову. Все ждут этого, пуще всех ждет Артемий Богданович. Всего несколько, чтоб «знамя колхоза» стало «знаменем» всей области. И эти головы выросли. Опасно, с огнем, Настя, играешь.
По первой зорьке, заспанная, едва успевшая ополоснуть лицо, мчалась к свинарнику. Со свинарника — иноходью домой. Дома включенный приемник играл бодрые утренние марши. Костя-аккуратист брился за столом, перебросив через плечо чистое полотенце.
С огнем играешь, — тревожило. «Навстречу совещанию!» — газетные заголовки. На это совещание Настю собираются проводить с почетом — значит, она кому-то должна сдать с рук на руки свой свинарник со всей живностью. С рук на руки той же Павле, и тут — мало ли что может случиться?
Павла была всего на год старше Насти, крупнокостная, плоскогрудая, из тех, кого называют неладно скроена, да крепко сшита, лицо грубое, голос с сипотцой, замужем не столь давно, а успела обложиться детишками. В свое время ее сватали в свинарки — отказалась. Работа хлопотная, с утра до вечера торчи на ферме, порой и ночами нет покою, забудь дом, а заработаешь или нет — это еще бабка надвое гадала. А за мужней спиной Павлу нужда не особо подпирала.
Она одно время считала себя удачливей Насти — без отца выросла, мать больна, суженый да гаданый на стороне где-то застрял, как не пожалеть. И жалела, и за Кешку сватала. Но теперь-то жалеть нет причин, теперь сама Павла возле Насти крохи подбирает. Настю-то частенько в район вызывают, иногда целыми днями приходится сидеть по совещаниям, нельзя свиней без присмотру оставлять. Павле за случайный догляд приплачивают, но, конечно, не густо, обнов с этого не нашьешь и ребятишек не накормишь, работай в поле, как все.
Одно дело оставить на Павлу свинарник на день, на вечер, другое — на неделю, на две. За неделю она так освоится, так приглядится, что откроет под крышей-то не одни живые души живут, но и мертвые. А уж коль откроет, в секрете держать не станет, не-ет, Павла — не святая, не утерпит ковырнуть знатную соседушку.
Пришел с работы Костя, жесткий ежик торчит внушительно, на лице выражение со строжинкой: или только что председательствовал на собрании и еще не остыл, или принес какие-то новости — портрет Насти в газете напечатали, правление премию выделить собирается…
— Командируют тебя.
— Куда?
— Хватит сидеть на месте, такой человек должен делиться с другими опытом.
— Значит, уезжать?
— А ты хочешь быть в командировке да дома на печке лежать?
— Никуда я не поеду.
— Поедешь. Решение бюро райкома партии. Сперва едешь в Густоборовский район для обмена опытом с Ольгой Карповой. Раз! Блинцовский район просит побывать у них. Два! Ну наверное, еще кое-куда завернуть придется…
— На кого я брошу свинарник? Запустят! Изведут! Никуда не поеду!
— Найдем людей, чтоб присмотрели. В десять глаз, в десять рук славу колхоза станем беречь.
Что говорить с Костей — надут, как индюк, горд, что жена будет разъезжать по другим районам, учить людей уму-разуму.
Легла спать в тревоге. «В десять глаз, в десять рук…» Это пострашнее, чем на одну Павлу довериться. Как начнут заглядывать да вникать кому только не лень, — беды не миновать. А одна Павла, что ж… О Павле, пожалуй, напрасно тревожилась. Павла и сейчас, считай, все стадо знает, каждого сосунка по рылу гадает, как соседского парнишку в лицо. Стадо знает, да не дано знать, что в книгах про него записано. А книги эти бухгалтер Сидор Матвеич Петряков держит в конторе, в шкафу под замком. Смешно даже думать, что Павле в голову ударит в эти книги залезть. А ежели б и ударило, то все равно не столь уж грамотна, чтоб понять. Правда, Сидор Матвеич, хоть ночью раскачай, любую цифру назовет. Но опять нужно догадаться спросить его. До сих пор это Павле на ум не приходило. Вот ежели в «десять глаз, в десять рук…»
Утром после кормежки Настя была уже у Артемия Богдановича.
— Ладно, уеду, раз уж так нужно, — согласилась она. — Хоть, что говорить, боюсь бросать свиней. Павла — баба верная, но все же не свои руки.
— Приглядим за ней. Не оставим без внимания, — пообещал Артемий Богданович.
Этого-то от него и ждала Настя.
— Нет уж, просить хочу, чтоб не совались без нужды. Разве не наказание — сам посуди, когда работаешь, а за тобой десять глаз в спину глядят, десять рук под локоть толкают. Слышь, Богданыч, не вели путаться никому. Я сама с Павлой уговорюсь, сама с нее и спрошу, когда приеду.
— Ну, ну, накажу. Никто не сунется.
— И платить Павле будете, как мне. Слышишь?
— Заплатим, не волнуйся.
— И корм пусть возят по-прежнему, как возили. Знаю этого Михея-ключника — кому-то готов скатерку постелить, а кому-то рогожку.
В тот же день она привела Павлу на свинарник:
— Старайся, любая, никого не пускай к себе, греха не оберешься с распорядителями-то. Гони каждого в шею, пусть не указывают.
— Окорочу, — успокоила Павла. — Это у меня быстро.
Кешка, как всегда, терся о голенища сапог, ждал, когда Настя протянет руку, поскребет за ухом, повизгивал просяще. И Настя склонилась:
— Ненадолго, чадушко, расстаемся. Не скучай, любый… Павла, ты не жалей ласки на него. Чего уж скрывать, он у меня заласканный.
Павла хохотнула:
— Под подолом держать буду.
— И смотри, Павла… Чуть что — дай знать Артемию Богдановичу, он сразу меня телеграммой вызовет.
— Авось сойдет и без телеграммы. Детишек на соседские руки оставляют, не боятся, а тут — поросята. Эка…
Кешка терся о сапоги, не отходил ни на шаг. А Настя с тоской думала, что рано или поздно придется оторвать от себя этого Кешку, ему, как и всем свиньям, конец приписан один — под нож. «Господи! Сердце теснит, словно расстаешься с родней кровной, а не со свиньями…»
Светлое платье в голубых мелких цветочках, с отделкой по вороту, темный жакет со вздернутыми плечиками, через руку — песочного цвета легкое пальто, ткань «метро», подкладка в глянец; на ногах туфли на высоком каблуке — жмут, проклятые, авось разносятся. Настя садилась в поезд.
Артемий Богданович не поленился, сам провожал до станции вместе с Костей. Махали руками в окно, пока вагон не тронулся. А Костя — эх, дурачок! лицо расстроенное, а перед поездом все искоса поглядывал на Настю, сказал дважды:
— Ну и шикарная ты женщина.
Артемий Богданович подхмыкивал:
— Гляди, еще кого новенького со стороны привезет. Очень просто.
— Нет, она верный человек.
Эх, дурачок родной…
15
Попала не в заморские страны — в другой район. А все районы похожи: такие же желтеющие поля, такие же обветренньте крыши деревень, такие же, как в Загарье, дороги с выбоинами и ухабами, с ветхими мостиками, держащимися на честном слове. Все знакомо, вроде бы нечему удивляться, а каждый час одаривал Настю новизной.
Едва сошла с поезда, как подскочил человек:
— Простите, вы не Анастасия ли Степановна будете?
— Она самая.
— Пожалуйста, вас ждет машина.
Настя раз пять в жизни ездила в гости к двоюродной сестре, вышедшей замуж на стороне за начальника лесопункта, случалось-таки сходить с поезда и на своей станции, и на чужих, и каждый раз забота — как не упустить автобус, как уломать шофера-левака… А тут: «Пожалуйте, машина ждет…»
А от машины спешит женщина, морщит в улыбке и без того сморщенное бабье лицо. Вот так-так, выехала встречать Настю сама Ольга Карпова! Первая тянет руку, вроде чуточку смущается:
— Здравствуйте. Как доехали?
Знаменитая Карпова невысока, жилиста, тяжелые в мослах руки, спеченное лицо с доброй, несмелой улыбочкой. Настя по сравнению с ней в своем нарядном платье, в туфлях на высоком каблуке — артистка из столицы, не меньше. Потому, видать, и смущена Карпова.
Все ново, даже номер в районном Доме колхозника. Никогда не останавливалась в номерах — уезжая из дома, всегда ночевала у родных или знакомых. А тут отдельная чистая комнатушка с картиной трех богатырей на стене и с графином воды на белой салфеточке.
Все ново, утром вежливый стук в дверь:
— Разрешите? Я за вами.
Парнишка-шофер, на Женьку Кручинина похож — глаза с нахалинкой, так и ждешь, что пропоет:
Девка с грудями по пудику
Достанется кому?
Где там, другой мир, другие люди…
Знаменитая Ольга Карпова, знаменитый укрупненный колхоз имени XX партсъезда, знаменитый председатель Чуев Афанасий Парфеныч. Этот знаменитый председатель высок, тощ, басист, над крупным носом — дремучие брови, прячущие глаза.
— Знакомьтесь. Критикуйте. — Ладонь сунул, широкую, словно лопата.
Ох, как хотелось посмотреть да раскусить, что из себя представляет Ольга Карпова. С виду куда как проста, баба бабой, чуточку смахивает на Настину мать, когда та была помоложе. А на самом деле так ли проста эта прославленная Ольга Карпова? Что-то подозрительно — много лет обиходит громадное стадо, получает небывалые приплоды. Настя ее перескочила, но как? Своей-то победе Настя цену знает. Но Ольга обещает и ее побить! Что у нее, вместо пары рук — пять, десять? Настя надрывается, с темна до темна пропадает на свинарнике, а показатели хороши, что сумела обратить мертвые души, они-то ухода не требуют. Ох, нетерпится… Может, все кругом пыль пускают, обычное это дело? Тогда все ясно — без хитрости не проживешь. И не пытайся, Ольга Карпова, навести тень на плетень, мы — не начальство, мы — дошлые.
«Знакомьтесь. Критикуйте»… Карпова привела Настю в свой свинарник. И Настя оробела.
Настя больше видывала на своем веку свинарники — смрад, теснота, темнота, в потолке продушины, на полу болото. Потому ей и свой свинарник всегда нравился: цементная дорожка, поработай рычагом — вода льется в котел, а решетки даже с затеями, с церковной ограды сняты… Здесь котла нет, есть какие-то запарники — ручки никелированные, что шары над кроватью, бока выкрашены в белую краску, что-то внутри пыхтит, клокочет, а ни дыму, ни пару, ни запаху. Прямо к запарнику — лента, транспортер. Нажал на рычажок — корм теплый порцией на ленту, и эта лента по лотку с бортиками везет корм к клетям: каждой свинье отмеренное — ешь, наживай жирок. Не таскайся взад-вперед с грязными ведрами. А клети чистить?.. Сколько времени, сколько труда уходит, а не успеваешь — свиньи в навозе валяются. Тут взял резиновый шланг, из шланга струей навоз в лоток, той же струей по лотку прогонишь к колодцу. Смыл, закрыл крышкой колодец — чистота, лопат даже нет. И просторно, и светло, и все в белое выкрашено — больница. Полдела в таком свинарнике работать, тут и лежебока в знатные выскочит.
«Знакомьтесь. Критикуйте»… Послали опытом делиться. Что ж, могла бы поделиться опытом…
После того, как Настя выбросила перед Артемием Богдановичем дохлых поросят, после того, как услышала: «Вся и заковырка в жизни, что против силы надо идти… Против силы умом…» Умом да хитростью. Настя хитрила и не угрызалась совестью — не зря же говорят: простота хуже воровства. Одного боялась — ее хитрость не мудрена, могут и раскусить…
И вот: «Знакомьтесь. Критикуйте»… Как порядочной. Никому невдомек, что случайно попала в святые угодницы. В нарядном платье, в туфлях на высоких каблуках… Да если б ей, Насте, самой с такой привелось столкнуться плюнула бы вслед. Нарядное платье — обман, голос вальяжный — обман, даже мужа в дом обманом заручила. Вся жизнь — обман, все счастье на обмане держится. Надолго ль такая жизнь? Надежно ль такое счастье? От самой к себе уважения нет: не настоящая ты, Настя, фальшивый камушек в дорогой сережке.
«Знакомьтесь. Критикуйте»… Настя ходила по просторному свинарнику вместе с Ольгой Карповой и ненавидела Ольгу. Простая баба, как и она, еще более дремучая, а повезло. Нет нужды ей обманывать да изворачиваться при такой справе. Разве Настя хочет обманывать, почему у нее счастье, что жеребец в сапу — на вид здоров, шея дугой, а внутри-то гниль, пристрелить не жалко. Почему? Кто в том виноват? Настя ненавидела Ольгу.
Вечером было собрание всех животноводов колхоза имени XX партсъезда, Насте пришлось выступать, попросили из-за красного стола пройти к трибуне, похлопали в ладоши. «Критикуйте». И Настя смекнула — умнее будет не критиковать, начала расхваливать и Ольгу, и ее свинарник, и ее породистое стадо:
— Великая наука для меня лично, товарищи. Много хорошего у вас насмотрелась. Прямо скажу: далеко нам до вас… Спасибо вам всем…
И все сидели довольные, и Ольга Карпова румянилась спеченными морщинками, и сам Афанасий Парфеныч Чуев, мужик суровый и, видать, дошлый, из тех, кто в землю на аршин узреть может, сидел именинником. Лесть душу вынимает, кто перед ней устоит. Это Настя поняла нутром, с усердием хвалила Ольгу Карпову.
Ее проводили с почетом.
16
Она проехала по нескольким районам, кружным путем вернулась на родину.
У поезда ее встретил Костя. Увидел, вздрогнул и странно присмирел, поглядывая исподлобья.
— Ты чего? Случилось что? — спросила Настя.
— Да нет, ничего… Ты какая-то… Не та…
То же платье, та же жакетка, пальто через руку, но круглое лицо стало угловатым, сильней выпирают скулы, от глаз заметней морщинки и сами глаза неспокойные, бегающие, в складках полных губ — горчинка. Не та…
Костя же ничуть не изменился — густой щетинистый бобрик над чистым лбом, возбужденно краснеют большие уши, в зеленых глазах растерянность и ожидание.
Не та… Настя это и сама чувствовала. Что ни день — то новая ступенька вверх, что ни день — то на шаг выше, а когда-то будет и конец… Притворялась спокойной, уверенной, а по ночам не могла уснуть. Никогда не бывало, чтоб не спала по ночам, обычно едва положит голову на подушку — как кричат уже утренние петухи, пора вставать.
А Костя разве поймет. Прост слишком, и как только такой сидит в председателях сельсовета, да и что — за него все дела устраивает Артемий Богданович.
Обняла Костю, прижалась к его щеке скулой, сорвалась, провыла по-бабьи:
— Золото ты мое непутевое!.. Ой, здравствуй, бедолажный! Как ты без меня?
У Кости повлажнели глаза — гляди ж ты, любит, гляди ж ты, рад, ждал небось.
— Едем скореича. Домой хочу.
— Домой сразу нельзя. Просили заехать в район. Там актив собрали выступишь, отчитаешься.
— Ох-ох!
В загоне перед свинарником лежали разморенные на солнце свиньи. И одна вдруг забилась, встала, кинулась навстречу, тугая, розовая, налитая пружинящей силой. Кешка чуть не сбил с ног Настю. Задирая рыло, повизгивая, поплясал вокруг и вдруг припал к юбке, притих, устало и сладко смежил веки.
У Насти даже слезы навернулись на глаза:
— Гляди ты, признал. Голубь мой сизый, кровинушка моя. Ох, ласковый, ох, дурачок непутевый…
Скребла жесткую, шелушащуюся кожу. Кешка млел.
И Павла шумно высморкалась в конец платка:
— Пропади ты пропадом! Вот уж любовь зла… Ко мне небось так не подкатывал.
Палило солнце, знойный, застывший воздух был густо пропитан знакомыми запахами — перебродившим, пьяным навоза, острым, плотским от распаренных свиных туш. Над полями, над упрятанной в ивняк речкой, над плавящимися в зное лесами и над безлюдной деревней — дремотный покой. В привычном Настином мире все по-старому, нет перемен.
Ничего Настя теперь так не хотела, как вставать рано по утрам, шагать короткую дорогу от избы к свинарнику, шагать лицом к ясной утренней заре, засучив рукава приниматься за работу, с любовью, с лаской обхаживать скотину, знать, что ни один из дней не пропадет даром, каждый приносит пользу сало, мясо, деньги колхозу, знать, что у тебя за спиной твой дом, семья, ждут детишки (рано ли, поздно они появятся), у этих детишек судьба краше, чем у тебя, — не узнают лепешек из круглины и крапивы, тяжелых, как камни, черных, как сопревший навоз, и отца им не придется провожать на войну, и не услышат они отцовское с горьким наигрышем: «Иль грудь в крестах, иль голова в кустах…» И будут в семье маленькие праздники, маленькие радости, такие, как сегодня…
А сегодня Костя возится с новым мотоциклом. Вчера в районе купила Настя. Мотоцикл с коляской, такую вещь не сразу достанешь, если и появляются в магазинах, то нарасхват. Выручил Тужиков: он помнил хлеб-соль да крепкую бражку на свадьбе, едва Настя проговорилась: «Хотелось бы…» — как по щучьему велению… Прими, Костя, в подарок машину. Тоже, поди, мечтал…
Никакой другой жизни не хочет Настя, только такую — без шума, без славы, в мире, в радостях, с ломотцой в костях к вечеру, с крепким сном, с чистой совестью. И начать бы эту жизнь сейчас, не откладывая, но нет…
К вечеру снова придется надеть праздничное платье и ехать в другой конец района, в колхоз имени Второй пятилетки, там запланировано выступление. Ей, знатной свинарке, некогда заниматься сейчас своими свиньями. Павла, о которой не пишут в газетах, кого не посылают в командировки, не встречают с почестями, должна кормить и холить ее свиней. А ей, Насте, нужно славить свои животноводческие подвиги. И скоро начнется долгожданное совещание в области…
А пока оттолкни жмущегося к тебе Кешку, спеши в село — там тебя ждет Артемий Богданович, ему нетерпится потолковать с глазу на глаз: что видела, что узнала, как принимали колхозного посла? Услышишь, ей есть что сказать.
Артемий Богданович при параде, потеет в темном костюме. Встречая, сиял распаренным лицом, жал руку, похлопывал по плечу, придвигая стул, заглядывал в глаза. Но когда начался разговор, притих, посерьезнел, шевелил короткими пальцами на столе.
Настя рассказывала о механизированном свинарнике Ольги Карповой. Артемий Богданович не перебивал.
— Хошь не хошь, — говорила Настя, — рано ли поздно придется строить такой. А коли нет, то пошумим, побурлим, пыль в глаза пустим, а потом скиснем. На ура-то долго не продержишься, Артемий Богданович. Они при механизации — хоть лопни от натуги — нас быстро обскачут. Вижу, считаешь да прикидываешь. А ты не прикидывай — дорогонько стоит такой свинарник, узнавала, но за год, за два, ручаюсь, оправдает себя с лихвой…
Артемий Богданович не перебивал, слушал и соображал.
— А коли решаться, то надо решаться теперь, чтоб к весне, в крайнем случае к лету стояло новое помещение. Только тогда марку выдержим…
— К весне иль к лету?.. — подал голос Артемий Богданович. — А что ты, Настя, скажешь, ежели я тебе этот свинарник спроворю к зиме, к самому началу?..
— Ежели б к зиме, то куда лучше. С таким-то свинарником я бы, пожалуй, снова на зимний опорос рискнула.
— А почему бы и нет, — Артемий Богданович оживился, начал жмуриться. Мы, сама знаешь, наметили строить новый скотный, уже фундамент заложили. Тоже с водопроводом, с колодцами, с навозохранилищами внизу… Но вот поставили не умно, скот на выпасы придется гонять через поля — значит, устраивай прогон специальный или посевы топчи… Не перекроить ли нам этот скотный в показательный свинарник, пока не поздно?
— И окупится быстрей. Свиньи-то у нас породистые, а коровы местные корма на навоз переводят.
— И окупится… Добро. Покумекаем. Только тебе на работу-то ходить придется за семь километров. Как тут?
— А я дом свой перевезу поближе к свинарнику. Поможете, чай?
— Как не поможем… Ладно, буду ставить вопрос на правлении.
«Буду ставить вопрос», а это почти значило — вопрос решен. Раз Артемий Богданович поставит, правление не возразит.
17
Областной театр драмы и комедии сияет огнями. 0бластной театр — здание с колоннами, ставленное еще в прошлом веке, с тех пор несколько раз перестраивавшееся. Архитекторы и строители сделали все возможное, чтобы человек здесь чувствовал себя празднично. Ковры на полах, искрящиеся люстры под потолком, мрамор стен, обширные зеркала…
И сейчас празднично в фойе, толкотня, суета, раскинуты пестрые лотки с книгами и брошюрами, в толпе мечутся как угорелые газетные репортеры. Празднично, но собрались не на праздник — на деловое совещание. Да и оснований для празднования нет.
Когда-то эти места на всю Россию славились заливными лугами, особой породой коров; на масле, мясе, кожах местные купцы наживали миллионы. Одно время область повернули на зерно: стране нужен хлеб, распахивай, что можно. И заливные луга распахали. Потом спохватились, да поздно — луга заболотились, зарастали кустарником, породистые стада захирели, в колхозах появилась мелкая непривередливая скотинка, которая обходилась жестким сеном с лесных покосов. Но и эти лесные покосы год от году затягивало мелколесьем. Пора бить тревогу, — совещание собралось не для торжества, многие на нем получат крутые нагоняи.
Но Настя-то прибыла сюда не для нагоняев и проработки, нет, еще до начала совещания ее нарасхват: «Просим зайти в областной отдел сельского хозяйства»… «Просим побывать на курсах зооветтехников»… В обкоме партии с ней разговаривал сам первый секретарь, корреспонденты газет, радио с утра дежурили у дверей номера гостиницы. И номер ей дали особый, с ванной, с телефоном, с солидным письменным столом и с видом из окна на центральную городскую площадь. Артемий Богданович жил в номере по соседству вместе с секретарем райкома Пухначевьм. Артемий Богданович очень заботился о Насте, даже вместо нее принимал газетных репортеров, чтоб не надоедали лишка.
А на совещании Настю выбрали в президиум. Шла через весь зал на сцену, а на нее смотрели: Неспанова-Сыроегина из Загарья, не шути.
Стол под красным сукном. Рядом с Настей бок о бок седой человек в очках, профессор, руководит кафедрой в институте, даже Настя — образованна, что скрывать, не шибко, — даже она читала брошюрки по кормовым рационам, написанные этим профессором. И вот она рядом с ним за почетным столом. Из темного зала — сотни лиц, среди них где-то затерялся и Артемий Богданович, и секретарь их райкома Пухначев, и много других председателей колхозов, секретарей райкомов, все они там ниже, Настя над всеми. И докладчик несколько раз назвал с уважением фамилию Насти. И когда объявили перерыв, все стали расходиться, на лесенке, ведущей со сцены, седой профессор вежливо придержал ее за локоть:
— Осторожно, не упадите.
А потом заговорил:
— Много о вас слышал. Рад познакомиться.
Они вместе вышли в фойе, под горящие люстры, а там на них набросились фоторепортеры:
— Одну минуточку! Всего минуточку! Не задержим!
А утром Артемий Богданович принес ей свежую газету:
— Союз науки с практикой, так сказать.
Под руку — две знаменитости.
А на следующий день ее попросили непременно выступить. «Нет, нет, никаких отговорок, без вашего выступления невозможно…»
И она пробиралась по сцене под ярким светом к трибуне, потная рука сжимала бумажку с написанной речью. И на нее смотрел из загадочной, страшной полутьмы многоголовый, многолицый, многоглазый зал. Не перед своим братом колхозником выступать, от страха подгибались, коленки. Но выступила:
«Мы, животноводы колхоза «Богатырь» Загарьевского района, даем обязательство и впредь…» Ей аплодировали. Настя почувствовала — она нужна, очень нужна. Ни Артемий Богданович, ни Пухначев, никто другой так не нужен, как она. Даже Ольга Карпова… Ольга примелькалась, ее давно все знают, повторять имя Ольги — значит признаваться себе: никто из новых не выдвинулся, топчемся на месте. А тут новая, не так уж и плохи дела в области, выходит — растет новое, хорошее, обнадеживающее, вот доказательство.
«Мы, животноводы колхоза «Богатырь» Загарьевского района, даем обязательство и впредь…»
Простая свинарка, которую недавно видели в газете, стоящая рука об руку с известным профессором. Союз науки с практикой — раз так, то дела наладятся в области.
До сих пор Настя со страхом и подозрением глядела на людей: а вдруг раскусят, что тогда? Ненастоящая, случайная, фальшивый камушек в сережке. И вот сейчас не умом, а нутром уловила — люди х о т я т верить в нее, людям это н у ж н о. И фальшивые камушки вставляют в оправу, когда нет под рукой настоящего. Великое дело поддержать бодрость, а все сидящие в зале нуждаются в бодрости. Нуждаются! Настя нужна! И уж Артемий Богданович изо всех сил станет стараться, чтобы она не свалилась с высоты. Считала — одна, кругом враги. Нет же, не одна, а раз так — ничего не страшно. Вот построят новый свинарник, такой, как у Ольги Карповой, еще, быть может, даже лучше. В нем-то Настя развернется, добьется больших приплодов, рано ли поздно покроет мертвые души, очистит совесть, переродится наново, не будет на свете честнее человека, чем Настя Неспанова!
«Умный гору обойдет…» С такой высоты, на какую сейчас взобралась, разве страшны горы, даже самые крутые?
«Мы, животноводы колхоза «Богатырь» Загарьевского района, даем обязательство и впредь…»
Аплодисменты в ответ. Ей верят. Она и сама в себя верит — выдержит все обязательства, не подведет. Верит — все силы отдаст на пользу людям, от нее ждут этого!
И слезы на глазах, и благодарность к тем, кто в ней нуждается. Счастливые слезы.
18
Над поясом черных лесов, как всегда по утрам, сочится сквозь неплотные облака зыбкая зорька. Ее ловят темные оконца спящих изб. Настя по-прежнему встает раньше всех в деревне Утицы.
Все хорошо в меру — блины на масленой и пост за веру. Настя от торжеств, от заседаний устала, с охотой скинула туфли на высоких каблуках, влезла в резиновые сапоги, в потрепанный ватник.
Зыбкая зорька над лесом, протоптанная тропинка, печь под котлом, барабан картофелемойки… Как всегда, стучат колеса телеги, голос деда Исая окликает:
— Эй, пустынница, жива аль нет?
Теперь Насте возят корм, какой попросит и сколько попросит, попробуй-ка отказать — зоб вырвет.
Свиньи под доглядом Павлы — все-таки не свои руки — поосунулись. Настя раскармливает, старается.
Любимец Кешка растет и пухнет, по-прежнему бойкий и ласковый. Он первым подает голос, когда Настя открывает дверь, будоражит весь свинарник, научился рылом выбивать задвижку, сам выскакивает из клетки, крутится под ногами, тычется, мешает.
А под селом на окраине полным ходом идет строительство нового, образцового свинарника. Погребные ямы для навозохранилища выложены кирпичом, возведены уже стены под крышу, кладутся стропила. Артемий Богданович крутится — все дни в хлопотах, срывается то в райцентр, то в область, со всех концов ему звонят, телефон в конторе надрывается. Подняты на ноги доставалы такие, как Тужиков, — их в приятелях у Артемия Богдановича не один десяток. Не так-то просто найти водопроводные трубы, чугунные крышки для сточных колодцев, электромоторы, запарники. Но Артемий Богданович, как меч-кладенец держит наготове громкое имя Насти, кто заупрямится, начнет крутить волокиту — того рубит сплеча:
— Для знатной свинарки возводим! Гордость нашей области! Стыдитесь!
И свинарник растет как на дрожжах, — водопроводные трубы в земле, кабель проложен, начали класть стропила…
Похоже, с первыми морозами Насте сниматься с места, отбить поклон родным Утицам, праздновать новоселье. Старую избу перенесут, подправят, расширят, крышу, верно, покроют железом, стены обошьют тесом… Но тут Настя сторона, неудобно для своей корысти давить авторитетом, улаживает все с Артемием Богдановичем Костя.
Костя завел кожаный шлем с большими очками, по утрам на работу пешком не бегает — гоняет на мотоцикле. Каждое воскресенье возится с машиной, разбирает, собирает, смазывает, заводит. Грохочет и воняет мотор, а Костя слушает его, как музыку, удовлетворенно сообщает:
— Великое дело — двадцатый век. Сплошная техника.
В последнее время Костя говорит на басовых нотах, держится солидно, как и Артемий Богданович — заводит знакомства в райцентре. Он не выносит Женьку Кручинина за то, что тот пустил по деревням частушку:
Эх, чистый верняк
Свиночки с навозиком!
Получил от вас за так
Женку с паровозиком!
А кругом все шло своим чередом. Хлеба убрали рано, осень стояла погожая, чем дальше к зиме, тем суше, солнечней, золотистей. На полях по стерне индевела паутина. По вечерам над крышами деревень, над верхушками елей летели густые грачиные стаи…
В солнечный и ветреный полдень Настя нацепила на колья изгороди только что вымытые бидоны из-под обрата, поглядывала в поле, на дорогу — не затарахтит ли там мотоцикл Кости, время-то обеденное. И не углядела, как из ложка вынырнул плотный мужчина, пошевеливая плечами, двинулся к свинарнику. По этой раскачке в плечах, по крутому наклону головы узнала — он, Кешка! Наверно, от неожиданности чуть-чуть екнуло сердце, подобрала волосы под платоу, повернулась, стала ждать.
— Здорово, Настя,- издалека, еще не доходя.
— Здравствуй.
Подошел, остановился, расставив тяжелые сапоги, морща лоб под козырьком кепки, покусывая золотым зубом травинку. Повытертый какой-то — кепочка блином, кожанка старая, лицо одубело, складки на щеках врезались глубже чужая сторона не родная мать, в прошлый раз пофорсистей приезжал. Но по-прежнему кряжист, по-прежнему от него тянет медвежачьей силенкой, той, какой не хватает Косте.
— А я думал: высоко взлетела, тут законно и не признать.
— Где там высоко, все вот в свином навозе копаюсь.
Видать, вспомнил прощальные слова, хмыкнул невесело, промолчал.
— Надолго ль сюда? — спросила Настя.
— На ночку. Мимо ехал, как не заглянуть. Да и чего задерживаться, коль приголубить некому.
— Поищи, может, кто и согласится приголубить. И здесь, как всюду, свет не без добрых людей.
Снова хмыкнул с угрюминкой:
— Ты хоть вспоминала?
— Тебя? А как же. — Настя обернулась к распахнутым дверям свинарника, крикнула: — Эй, Кешка!
За дверями раздался шум, зазвенело порожнее ведро, выскочил Кешка, другой, привычный, тяжело налитый розовым салом, ринулся к ногам Насти вот-вот собьет.
— Сдурел, вражина… Вишь, был у меня человек, стала свинья — не часто случается. Помню.
В это время затарахтел мотор, встряхиваясь на выбоинах, подкатил Костя в шлеме, в очках, с лицом, исхлестанным ветром. Застопорил, поднял очки, открыл зеленые настороженные глаза.
Кешка, покусывая травинку, с покойным вниманием оглядел Костю, мотоцикл, спросил:
— «Уралец»? Много прошел?
И Костя смутился:
— Нет. И трех тысяч не успел нагонять.
— Хорошая машина. Все целился купить, да куда бездомной собаке ремешок с бляшкой? Ну, бывайте покуда…
Повернулся, шагнул, раскачивая покатыми плечами, покосился на мотоцикл, еще раз похвалил без зависти:
— Хорошая машина.
— Кешка! Иди домой, паршивец! Иди! Иди! Вот я тебя! — погнала Настя тыкавшегося ей в колени поросенка.
Другой Кешка оглянулся, тряхнул головой.
— Что ему? — спросил Костя. В зелени глаз под вздрагивающими, вымоченно-белесыми ресницами — плавящаяся ревность.
Настя ответила грустно и задумчиво:
— Так… Блукает по свету, ищет, кто бы приголубил… Пошли обедать, Костя.
Неприкаянный Кешка напомнил Насте, что она согрета не только славой. Все есть, все, о чем только может мечтать человек.
19
Артемий Богданович, упрятанный по-зимнему в дубленый полушубок, старший среди плотников Егор Помелов, приезжий техник, долговязый парень в городской шапке пирожком, занимающийся монтажом механизмов, электромонтер Сеня Славин и Настя вошли в новый свинарник.
В щирокие и невысокие оконца сквозь двойные рамы с только что вставленным ясненьким стеклом вливался свет голубеющего дня. Со стен попахивало еще не просохшей штукатуркой, дощатые настилы медово желты, на цементной дорожке и в лотках — курчавая стружка. Длинные загородки с решетчатыми переборками уходят вдаль. Почти все кончено — установить транспортер, подключить электромоторы, покрасить, даже вода подана в водопроводные трубы.
— Магарыч с тебя, Настасья. Старались ребята, — подмигивал красным глазом плотник Егор.
Настя молчала.
— Вот дом ей перебросишь, тогда и магарыч, — отвечал Артемий Богданович.
— Если всю артель снарядишь — за недельку. Долго ли умеючи-то.
Артемий Богданович жмурится, как сытый кот, походя похватывает стойки переборки, трогает ногтем влажную штукатурку на стенах, не хвалит, только жмурится — доволен.
— Разворачивайся, Настя. В твоем старом свинарнике Павла осядет. От тебя, так сказать, почечка.
А Настя разглядывала пустое, гулкое помещение и молчала. Знакомый, давний, полузабытый страх подпирал к горлу.
Артемий Богданович направо и налево помахивал ручкой:
— Здесь, значит, — откормочные, здесь — родилка, а здесь, так сказать, — комнаты матери и ребенка, опоросные матки лягут… Тут зелененькие, самые молоднячок, тот, что от титек оторван… Расписано, как на почте. Чуть стадо увеличишь — и стоп! Больше не надо. Устраивай круговорот, чтоб одни рожались, другие под нож — фабрика, цех-автомат с управлением одного человека. Выгоняй мясо центнерами. Расписано, учтено… Иль не нравится? Чего молчишь?
Нет, Насте нравится свинарник, но — расписано, учтено, то-то и оно. Она только теперь поняла… А ведь сама настаивала, сама торопила, чтоб строили быстрей… Только теперь поняла — тут-то ее и погибель. Матки, молодняк, откормочные, фабрика-круговорот, где все, как на полочках. А в старом свинарнике — теснота, суета, давка, попробуй разглядеть — сколько голов налицо. Фабрика-круговорот с полочками… Часть клетей окажется пустыми. Тут уж не только Артемию Богдановичу, не только членам ревизионной комиссии, не только председателю сельсовета Косте Неспанову, а любому и каждому, кто ни заглянет, хотя бы плотнику Егору, станет видно — у знатной свинарки знатная прореха. Фабрика, рассчитано, как на почте, на столько-то голов. А где эти головы, куда девалась часть стада? По дороге потерялась? Отчитайся, красавица! И начнут подсчитывать: столько-то голов не хватает, столько-то центнеров мяса — воровство, обман, надувательство. И не покроешь, и не спрячешь концы, пойдет новая слава, погромче прежней.
Сама настаивала… Думалось, только крышу сменит, а под новой крышей старые порядки. Сама настаивала, сама под собой яму копала.
Цементная дорожка из конца в конец замусоренная стружкой, колодцы в навозохранилище с открытыми крышками — слов нет, отменный свинарник, не только в районе лучший, по области поискать. Артемий Богданович жмурится, как кот на сливки.
— Ай и вправду чем-то недовольна? — спрашивает плотник Егор. — Критикуй. Наша братва критики не боится, потому что — фирма!
— Нет, все хорошо… Очень.
— То-то. И не печалься, избушку твою перебросим быстренько, подновим, игрушечка будет, залюбуешься, У родни нагоститься не успеешь, как мы с шапкой у порога: гони магарыч!
Долговязый техник и электромонтер Сенька лазали вдоль стен, рассуждали о дополнительной проводке. У стойки из неплотно закрученного водопроводного крана капала вода.
— На будущей недельке кочуй сюда со всем племенем, — сказал Артемий Богданович.
«На будущей недельке…»
20
За окном ночь, полная луна висит над окоченевшими, бесснежными полями. Голова Кости лежит на ее руке. Костя посапывает над ухом. Глаза Насти широко открыты. Ночь и луна за окном. Настя вспоминает другую ночь, наверно, самую счастливую в жизни.
Та ночь могла бы быть такой, как все ночи августа, теплая и душистая, — пахнет осокой от берегов, пресно пахнет речной водой. Сама река, обморочно опрокинувшаяся под небом, смолисто-черная, вязкая, неподвижная, — не сморщится, не шелохнет прибрежную былинку. И где-то за лесами низко над землей лежат тяжелые, набрякшие от влаги тучи, но небо над головой чисто, точеная луна обливает онемевший мир. И в тишине разносится скрип весел в сухих уключинах, скрип весел, как крик раненой птицы.
Эта ночь могла быть такой, как все ночи августа. За веслами сидел Венька Прохорёнок, ворот распахнут на груди, под спутанными волосами загадочно и тревожно блестят его глаза. Настя в новом штапельном платье горошком, косынка с блеклыми розочками лежит на плечах, Настя чувствует себя красивой. Ее волнуют глаза Веньки, волнуют и немного пугают. Надрывным птичьим криком кричат весла, лодка режет маслянистую гладь воды…
Ночь как ночь, как все ночи начала августа. Но нет… Спит река, а над сонной рекой в застывшем воздухе под луной бешено кружится снежная метель. Да, метель! Лодка движется сквозь белые хлопья, они порой затягивают даже близкий берег. И только луна, холодная и яростная, пробивает белую кипень, освещая пушистые хлопья.
Венька подымает весла и застывает на минуту, и тогда в тишине слышен сухой шелест, еле-еле уловимый, но в нем что-то судорожное, потаенно грозовое. Сухой шелест — это бьются в воздухе легкие-легкие крылышки. Над сонной рекой в застывшем воздухе под луной пляшут прозрачно-белые мотыльки. Их несчетная тьма, над просторной рекой им тесно, они вылетели на свадьбу, вылетели, чтоб порадоваться минуту и… умереть.
В теплую августовскую ночь — снежная метель немая и бешеная. Тьма несчетная, облака мотыльков. Одни кружатся в радостном угаре, другие уже откружились, падают в лодку, липнут к лицу в предсмертной усталости, запутываются в волосах, вся река припорошена ими. Этих мотыльков зовут подёнками, потому что все они живут по одному дню, не более.
По расплавленно смолистой реке скользит сквозь метель лодка, вскрикивают весла, блестят глаза Веньки, сыплются подёнки, чей минутный век кончился. И луна над головой, луна точеная, яркая…
Настя радуется сказочной метели. Близко от Насти Венька. Осыпаются мертвые подёнки, а Настя верит в свою долгую жизнь, верит, что эта жизнь будет счастлива, — до этой ночи ее, Настю, никто никогда еще не обманывал. Что может быть лучше той лунной ночи?..
Сейчас тоже ночь, лунная, яркая. Глаза Насти широко открыты. Свет луны сперва лежал на лоскутном половичке перед дверью, потом перебрался на дощатый пол, осветив узловатые сучки, поднялся вверх, просиял на никелированных шишках кровати, и наконец луна плоской мордой из угла окна уперлась в лицо Насти, осветила затылок спящего Кости. Костя уютно посапывал на Настиной руке.
У него на шее курчавится нежный детский пушок, сама шея белая, твердая, ребячьи упрямая. Настя кусает губы, чтобы не застонать. Вот он рядом, теплый, жарко дышащий, доверчивый, вот он на ее руке! И курчавится пушок, и плавится душа от нежности, от непоправимого горя…
Скоро он все узнает… Ох, Костя, Костя!.. Пусть бы весь мир знал, пусть бы смеялись, тыкали пальцами, сочиняли дурные частушки. Пусть бы весь мир знал, но лишь бы чудом не дошло до Кости… Чудес нынче не бывает, вымерли чудеса вместе со святыми угодниками. Ох, Костя, Костя! Пушок на шее, посапывание над ухом — не будет этого. Неделька — срок отмерен. Настя кусает губы, чувствует на них соленый привкус слез.
И ночь перед глазами, та счастливая ночь со сказочной метелью! Ночь, какая бывает одна на всю жизнь!.. Одна?.. А, наверно, могла бы повториться. Пройдет зима, появятся опять летние ночи, теплые, с луной, и будут летать подёнки… Все может повториться, если б… Неделька — срок отмерен.
И от этого приговора, от щемящего душу Костиного затылка мысли Насти начинают слепо метаться в голове, искать выхода.
А что, если предложить правлению: беру несколько маток на расплод, в новом свинарнике начинаю все сначала, начинала же когда-то с десяти сосунков. Пусть старый свинарник останется как был…
Обжигает минутная надежда, обжигает и гаснет. Свинарник-то сдавать придется той же Павле, кто ж примет без счету, без проверки — все выплывает наружу…
А что, если просто уступить новый свинарник другой свинарке?.. Настаивала, подгоняла, ждала, а теперь — отказ. Сразу спохватятся — что-то тут не чисто. Выплывает…
А что, если сбежать вместе с Костей, все кинуть — пропади пропадом! Бежать?.. Куда, глупая? Кого уговорить собираешься?.. Костю? Глаза ему на себя открыть?.. И мать больная. И что делать на стороне?.. И куда скроешься? Как бы через милицию искать не принялись…
Мечутся мысли — нет выхода.
Курчавится детский пушок в лунном свете, кровоточит сердце от нежности. Влезла в заговоренный круг — выхода нет. Пока еще Костя рядом, пока еще прижался к ее боку. Неделька — срок отмерен.
Эх, новый свинарник, надежда колхоза, добротно построенный, размеренный, рассчитанный… Новый свинарник для лучшей свинарки, для той, что «гордое знамя»…
Пальцы свободной руки тянутся к пушку на шее луна освещает крупную, раздавленную работой руку. «Родной ты мой, срослась, не могу без тебя. Знал бы ты, как мучаюсь, знал бы — простил. Душа-то в тебе добрая…» Разбудить бы его, рассказать начистоту: «Прости, если можешь, ради своего счастья, ведь срослись. А уж простишь — на руках буду носить всю жизнь, нянчить и голубить до последнего вздоха…»
И опускается рука: простить-то он, пожалуй, с ходу и простит, да потом опомнится. Ему тоже придется хлебнуть горького от людей, не меньше, чем ей, Насте.
Тугая петелька — не вырвешься.
Тугая петелька, сама на себя накинула…
Не вырвешься?.. Нет, можно вырваться, и очень просто…
Для чего жить, коли все рушится? С работы скинут, муж бросит… Жить, корчиться от позора?..
Выход есть, и очень простой.
Слезы высохли на глазах, в грудь словно положили холодный кирпич.
Высвободить сейчас осторожненько, с бережностью руку из-под Костиной головы, встать, выйти в сени, там на колышке висит веревка — летом траву носила… Выйти в сени и — на поветь… Можно и не сразу, можно и на крыльцо выглянуть, на небо полюбоваться. Над крышами — луна в полную рожу, кольца вокруг нее, морозец жжет… В последний раз на луну, на землю, где ей нет места. В последний раз вспомнить ту ночь, метельную, теплую, самую что ни на есть счастливую. Пушистые завитки на шее. В последний раз…
Нет слез, зреет решимость. Но уж очень тесно прижался Костя, очень жарко дышит, боязно разбудить его… И что торопиться, с этим всегда можно успеть….
А утром вместе с небом слиняла луна. Из-за леса, из глубин, перло вверх солнце, брызгало лучами. И старая изба покрякивала от мороза.
Нет, она еще обождет.
Костя так и не проснулся, лежит сейчас, укрытый ее руками. Скоро встанет, свежий, с ясными конопушками по щекам…
Нет, она еще обождет. Впереди неделя, хоть этой неделькой попользуется.
Без платка, с голыми икрами по морозку — к поленнице. Нахватала охапку охолодавших, свинцово тяжелых поленьев, понесла в дом.
А мать уже сползла с печи:
— Беги, чадушко, по своим делам, управлюсь тут… Нынче сон видела: рыбу с твоим отцом, царство ему небесное, на Климовском перекате бродим. Все окуни, все окуни… Золотая рыбка — к добру это.
Умылась, обулась, не утерпела — прямо в сапогах и ватнике прошла к кровати, чтоб одним глазком глянуть, как Костя зорюет. И разбудила неуклюжая — половицы заскрипели. Поднял всклокоченную голову с заспанным очумелым лицом. Жесткой ладонью пригладила ему волосы, сказала скупо, чтоб не выдать боль:
— Утро на дворе, сокол.
Вышла.
С полпути заметила — по дороге торопится к деревне полуторка Женьки Кручинина. Не к ней ли такую рань?
Оказалось — к ней.
Женька высунул из кабины нахальную физиономию, спросил:
— Пожар устраиваешь, знаменитость?
— Какой пожар?
— Вишь, меня ни свет ни заря выгнали. Артемий Богданович вчера втолковывал: перевези барахлишко нашей славной знаменитости да не заставляй ее ждать. Подтвердишь потом мою исполнительность. Эхма! — Зевнул сладко. — И плотники уже к тебе собираются. Ну, прямо пожар.
— Вольно же Богданычу… Костя мой только глаза протер.
— Может, обождать у порога прикажешь, начальница?
— Езжай, коли приехал, тряси Костю. У меня своя справа.
Настя направилась к свинарнику: нет, не дадут спокойно дожить эту куцо отмеренную неделю.
Как всегда, первым ее учуял Кешка, вышиб рылом задвижку, как всегда, кинулся навстречу, взахлеб негромко и радостно повизгивая, колыхаясь от нетерпения, ожидая ласки. Так было каждое утро. Кешка подавал голос, просыпался весь свинарник, стены заполнял требовательный визг проголодавшихся за ночь свиней.
Обычно гнала от себя назойливого Кешку:
— Кыш, дурак! Не липни! Погибели на тебя нет…
А сейчас преданная поросячья радость ударила в сердце, потрясла, словно гром над головой.
Слава да уважение, купалась в нем, как в хмельном меду, а что осталось? Одна живая душа на свете ее любит, не отвернется, не шарахнется в сторону. Даже мать осудит, даже родная мать! Одна живая душа на всем свете и та поросячья. Ластится Кешка, лишь ему можно верить, лишь он надежен — не продаст.
И от лютой жалости к себе подкосились ноги. Осела на пол, обхватила Кешкину морду, уткнулась лбом в жесткое поросячье ухо:
— Ве-ер-ны-ый ты мо-ой!
Затравленный звериный вопль — жалоба на людей.
Егор Помелов со своими плотниками поработал на совесть. К вечеру избы не было, лежали кучи бревен, стояла раздетая печь, к ней прислонены входные двери со знакомой скобой и устало упавшей задвижкой…
Падал реденький сухой снежок, печь уставилась трубой в небо. Разрушено старое гнездо, мать и Костя выехали в село, в бывший Костин дом, где живет Костина мать и его замужняя сестра. Разрушены стены — это начало, остальное будет рушиться завтра… Стоишь, как на пожарище.
После того как Настя выплакалась возле Кешки, весь день зло думала о людях: они станут ее врагами, все до единого. Сейчас пока эти враги желают ей добра, потому и разгромили дом, негде преклонить головы. Кучи бревен и голая, зябнущая печь, взметнувшая трубу в небо, — вот оно, начало конца.
Разрушенная изба напоминает пожарище… Настя стояла, разглядывала ее, и морозец продрал по спине…
Как вырваться из петли?.. Оказывается, можно, дух захватывает. Но ей-то теперь терять нечего…
21
Ночь провела в доме Павлы, одна, без Кости и без матери. Так уговорились: те пока будут жить в селе, Настя эти дни перебедует в Утицах, не бегать же ей по утрам за семь километров к свинарнику.
Снова ночь провела без сна, снова думала…
Спозаранку, как всегда, была на свинарнике: растопляла плиту, чистила, скребла, разносила ведра с месивом. В углу под дощатым столиком стояла четверть с керосином — дрова порой были сырые, не сразу занимались — плескала на них. Четверть пыльная, давно не троганная, почти полная… Настя поставила ее под печь, поближе, чтоб была под рукой…
Перед обедом сказала Павле:
— В Загарье мне надо. Беда, дел полно. С Пухначевым нужда потолковать, в банк загляну — матери обещала пенсию пересмотреть. Поди, к ночи не управлюсь, придется у Маруськи переночевать. Ты подбрось моей прорве корму — вечерком и утром, ежели рано не поспею.
— Езжай, езжай, не впервой, сделаю, — согласилась Павла.
По свежему снежку прикатил на мотоцикле Костя — как тут без него Настя? Настя и ему сообщила:
— В Загарье еду…
Все вещи были увезены, все вещи, в том числе и Настино пальто с мерлушковым воротником. Не ехать же в райцентр в грязном ватнике, в каком щеголяла по свинарнику. Настя взяла у Павлы ее полушубок, шерстяную шаль, Костя свез ее на заднем сиденье до автобусной остановки.
— Чего тебе валяться по чужим людям, управляйся там — да прямо к нам в село, с нами и переночуешь, утром в Утицы махнешь, — попросил Костя.
— Коль не запозднюсь, так и сделаю, — согласилась Настя.
В полушубке с чужого плеча, в чесанках с галошами она для Кости выглядела непривычно, словно бы и не своя, не родная.
Маруська в Загарье обрадовалась Насте. Старая дружба не вянет, помнит Маруська, как Настя к ней с бедой прибежала: поросята дохнут, выручай… Тогда Настя была простая свинарка, теперь — знатней по району человека нет, а вот ведь заходит, не забывает.
— Марусенька, любушка, тут у меня дел невпроворот — и в банке и в райкоме, до ночи задержусь, придется, видать, у тебя переночевать.
— Да господи! Место не заказано. Всегда рады…
Маруська — добрая душа, и дом у нее свой, и в каждой комнате кровать никелированная с периною…
— Только я могу и за полночь прийти. Знаешь, как у нас — толки-перетолки, заседания, конца не видно.
— Хоть к третьим петухам. Стучи в окно — открою. Постель тебе с вечера приготовлю, чистое постелю.
— Право, хлопот-то тебе со мной…
— Какие хлопоты? Полно-ко! Не чужие, чай.
Дни в начале зимы коротки, пока ехала да пока болтала с Маруськой темно, напротив райисполкома и почты зажглись фонари.
Настя забежала в банк, стукнула в кабинет к самому Сивцову, тот был рад ее видеть, рад помочь Настиной матери с пенсией, но нужны справки из райсобеса, справки из военкомата. Сивцов загибал пальцы на сухонькой руке, ласково посматривал сквозь толстые очки, а в голосе суровенькая вежливость — понимай: ты хоть и знаменитость, но и знаменитым законы писаны.
— Придется заночевать здесь, — со вздохом мирно сказала Настя. — Сегодня-то не успею достать…
В банке не задержалась, бросилась в райком. В райкоме не было ни Пухначева, ни Кучина — оба в разъезде: часть колхозов тянут с вывозкой хлеба. Говорила Настя с инструктором Лапшевым и ему сообщила:
— Здесь нынче заночую. Завтра утречком заскочу.
Из райкома направилась не к Маруське, а прямо к автобусной остановке, на ходу закуталась в шаль, подняла овчинный воротник, так что нос не виден, одни глаза. И неудивительно — морозец, чуть-чуть сыплет сухонький снежок.
Удачно рассчитала, автобус еще не ушел, иначе ждать бы часа два, не меньше.
Так и сидела укутанная до глаз в автобусе, делала вид, что дремлет. Почти все в районе ее знали в лицо, а тут еще впереди через два ряда торчал долговязый парень, техник-монтажник, что ставил механизмы в новом свинарнике. Он тоже не узнал Настю — попробуй-ка разглядеть, кто такая, когда полушубок чужой, а лицо укутано в шаль. Техник-монтажник сидел нахохлившись и читал книжку.
Он сошел в селе. Настя проехала еще три остановки, отсюда до Утиц прямая дорога через поля.
Дорога пустынная, кому придет охота в такую темень вылезать на холод из теплой избы. Настя, кутаясь в шаль, бежала почти бегом…
В Утицах избы теплились редкими огоньками — добрые люди сидели за самоварами, на сон грядущий гоняли чаи. Светилось и окно в доме Павлы — не ждет Настю, было сказано, что заночует в Загарье. А окна Настиного дома не светят — нет окон, нет самого дома, лежат кучей бревна да коченеет на морозе широкая печь.
Исхоженная тропинка, знакомая до последней выбоины, до последней вмятины — вслепую пробежишь, не споткнешься. Скорей, скорей… А за спиной вразброс — огоньки деревни, родной деревни, в которой уже больше не жить Насте — изба-то разобрана по бревнышку.
На дверях тяжелый амбарный замок, ключ от него из рук в руки днем передала Павле. Из рук в руки ключ с веревочкой… Скинула варежку, в варежке, в кулаке, давно уже грелся ключ, точно такой же… Кому знать, что их былл два, один запасной все время лежал на полочке в кормокухне над дощатым столом.
Тяжелый замок послушно распался, толкнула дверь. Сквозь шаль ударило в лицо тепло и густой запах, привычный запах, с него у Насти всегда начинался рабочий день.
Поплотней прикрыла за собой дверь, свет не зажгла. На минуту представила себе: во сне за стенкой вздыхает хряк Одуванчик, в густом воздухе сопение, шевеление — жизнь, скрытая от белого света, жизнь — сон да еда, тяжелеющие сутки за сутками туши сала и мяса. Сейчас обрушится на них беда, оборвется эта сонная жизнь…
И екнуло сердце — вспомнила Кешку. Самый верный, самый любящий…
Достала коробок спичек, рванула с лица душившую шаль. Пальцы тряслись, спички ломались.
— Ох ты, господи! Пропади все пропадом!
Вспыхнул огонек, испуганно закрыла его ладонью — вдруг да в окно увидят, — оглянулась… Под топкой охапка сухих дров, рядом охапка соломы, скамьи, шаткий столик, пустые ведра, лопата. А где же бутыль с керосином?.. Ах, вот она.
Спичка погасла. Темнота, тишина, жизнь за стеной, та жизнь, которую она, Настя, изо дня в день поддерживала своими руками. Матки Роза, Рябина, Канитель — ныне каждая гора горой, — их когда-то за пазухой носила, из бутылочек прикармливала. Не ели, тощали — горе; стали есть, резвиться — радость. Любой из поросят был ее ребенком, оглаживала, обхаживала, ласковые слова находила. И теперь надо чиркнуть спичку. Одна спичка — и обрушится беда. Одна спичка — и смерть Розе, Рябине, Канители, Кешке. И Кешке. И Кешке тоже…
Коробок спичек в руках. Может, не чиркать эту спичку? Добро бы только судили, не суд страшен, поди, много не дадут, помилуют, но позор на веки вечные, всяк плюнет в ее сторону, от опозоренной жены муж уйдет, мать с горя в гроб ляжет, и даже дома нет, кучей бревна лежат… Пожалей свиней, они дороги, спаси их, а сама гибни. Что дороже — они или жизнь?
И дрожащими руками Настя нащупала впотьмах бутыль, вытащила тряпичную затычку. Веселенько забулькал под ноги керосин, его резкий запах заполнил кормокухню…
Помещение давнее, выстоявшееся. Стены бревенчатые, а крыша тесовая. Между тесом — пласты бересты, «скала». Если тес погниет, то скала-то останется целой, не пустит дождь. Такие «заскаленные» крыши стоят десятки лет… Керосиновый запах, одна спичка в солому…
«Пожар устраиваешь, знаменитость?..» А что еще?.. На чужой повети в петлю голову сунуть? Она в Загарье, ее видела и Маруська, ее видел в банке Сивцов, видел в райкоме инструктор Лапшев, каждый от нее слышал, что остается ночевать. И это правда, ночевать-таки она будет в Загарье, через какой-нибудь час с небольшим подойдет автобус, она сядет — шаль до бровей, полущубок с чужого плеча…
«Марусенька, ох, закрутилась я…»
У Маруськи для нее разобрана кровать, перина застлана чистыми простынями.
А утром:
— Батюшки! Настя! Беда у тебя!
Беда!! Всполошится, бросится опрометью, забудет про справки для матери, не дождется Пухначева, кого хотела непременно видеть. Беда! Скорей! На одну ночь только отлучилась! Что за растяпа Павла!..
Свиней жаль — нянчила, выкармливала. Не изверг же она, душа кровью обливается. Но или они, или ты, задави жалость, Настя. За мужа, за дом родной, за всю жизнь свою, если не хочешь потерять, — одна спичка…
Но рано… Не зря же Настя не спала всю ночь — продумала. Свинарник наглухо закупорен, огонь может и задохнуться. Настя ощупью добралась до окна, локтем в полушубке выдавила одно стекло, второе, легкий морозный воздух ворвался в керосиновую вонь кормокухни.
Одна спичка… Но Настя медлила, переминалась, наконец решилась. Толкнула внутреннюю дверь в свинарник, позвала сдавленно:
— Эй, Кешка!
Даже он, дурачок, спит, даже он не учуял, что пришла…
Кешка завозился в глубине.
Все свиньи заперты за загородками, один Кешка умеет рылом сбивать задвижку. Это каждому известно в колхозе. Кешка знаменит, как и Настя. Никто не подивится, что один Кешка вырвался из огня.
— Эй, Кешка!
И он выскочил, ткнулся, повизгивая, в колени — счастлив негаданной встрече. Настя приоткрыла дверь на волю, вытолкнула Кешку.
— Гуляй, лапушка, живее…
Теперь все. Одна спичка!
И спичка вспыхнула, плеснуло пламя, лихорадочно зарумянились бревенчатые стены, в глубине свинарника стариковски вздохнул не ведающий о беде хряк Одуванчик. Настя шарахнулась к двери, распахнула ее, еще раз оглянулась назад на освещенные в веселой трясучке бревенчатые стены, выскочила, непослушными руками навесила замок, повернула ключ…
Пуста дорога, сыплет снежок. Пуста дорога, темна ночь, за спиной спокойно теплятся окна родной деревни, соседи Насти, знакомые Насти собираются спать. Пуста дорога, кто в такую ночь покинет перед сном теплую избу?
Можно бы и не спешить, не скоро подойдет автобус, но ноги несут.
Подойдет автобус, Настя сядет в него — чужой полушубок, закутано шалью лицо. Сядет и задремлет…
«Марусенька, ох, закрутилась я…»
У Маруськи приготовлена перина под чистой простынью. А утром:
— Батюшки! Настя! Беда у тебя!
Пуста дорога… И вдруг вздрогнула — тяжелое посапывание сзади, кто-то нагоняет. «Ой, дурень, совсем испугал — ноженьки подкосились». Кешка бежит следом, верный Кешка, спасенный от огня. Все будут считать — ловкач, вырвался…
Кешка привычно ткнулся в колени.
— Кыш! Иди-ко, любый, иди. Покуда сам живи. Авось завтра встретимся…
Отогнала Кешку, снова побежала — счастье великое, что пуста дорога, навел бы дурень тень на плетень, долго ли…
Кешка — ни на шаг, бежит, повизгивает от страха. И до Насти дошло: ведь не отстанет, так и проводит до автобуса. Дорога-то пуста, а на тракте — люди, того же автобуса ждут. Даже если и нет никого по позднему часу, то из автобуса наверняка увидят — свинья на дороге, это ночью-то, за бабой увязалась, почему бы это? И узнают Настю, и все пропало!
— Кыш! Погибель моя! Кыш, дьявол! А он врезался с разгона в подол.
— Кыш!! — мягким кулаком в варежке — между глаз, коротко взвизгнул, отскочил, Настя кинулась от него.
Сопение сзади, нет, не отстанет. И зябкий мороз охватил под полушубком — беда негаданная, как смерть по пятам. Сама выпустила, пожалела, расплачивайся опять за жалость-то.
— Ах ты, злыдень! Ах ты, отродье дикое! — Руки трясутся, под полушубком по потной спине гуляют морозные мурашки.
Увернулась от Кешки, бросилась с дороги, упала на колени, стала судорожно шарить варежками: «Камень бы покрупней… Отвадить бы сатану, ни дна ему, ни покрышки…»
Но под слоем снега руки нащупывали лишь комья мерзлой земли. Бросалась ими:
— Провались ты, треклятый! Сгинь!
Кешка вился вокруг большой тенью, повизгивал. Настя ползла на коленях, глотала слезы:
— Знать бы… Эх, знать бы… Да я б тебя, поганого!..
Наконец-то подвернулась булыга, крупная, тяжелая, в коросте снега, смерзшейся земли. Сжала ее варежками, поднялась. Кешка маячил в стороне, уже пуганный, уже не доверяющий.
— Кешенька, иди, голубчик. Подь сюда, глупый… — Голос елейный, со слезой. — Да иди, сатана, поближе, иди!
И он бочком придвинулся. И грузный камень опустился на морду, и по темному полю пронесся морозящий кровь визг. Кешка исчез в темноте, а визг рвался в ночи, надрывный, оскорбленный, горестный.
И тут произошло невероятное. Настя словно проснулась от визга, вдруг увидела себя со стороны, отчетливо и безжалостно — среди серого заснеженного поля, накрытая глухой тьмою, преступница, прячущаяся от людей, прячущаяся, потому что перестала быть похожей на них. Все на ласку отвечают лаской — она подымает камень, за почет, за уважение бросает спичку — нет ничего святого, гори ясным пламенем. И вопят сейчас в смертельном ужасе свиньи. Гори все, ее труд, ее прошлые радости и беды, гори все живое, поднятое ее руками! Вопят там сейчас свиньи. И перед лицом падает снежок, падают вялые хлопья, напоминающие умерших подёнок, августовскую счастливую ночь, реку, лодку, Веньку Прохорёнка, свою молодость. Сама себе страшна, сама себе противна — одинокий выродок среди ночного поля. Вопят свиньи…
Настя стояла так минуту, не больше, ровно столько, чтоб успел замолкнуть побитый Кешка. Сорвалась, бросилась обратно к деревне, туда, где люди, где пожар, где вопят свиньи. Туда, к своим!
Пот заливал глаза, сорвала на бегу шерстяную шаль, бросила. Дыхание спирает, ноги путаются, с остервенением рвала пуговицы на полушубке, скинула его. Бежала дальше, простоволосая, в одном платье, с хрипом дыша, не чувствуя мороза, спотыкаясь, падая, вновь подымаясь.
В деревне теплится чье-то одинокое полуночное окно. И не видно пока зарева. Мимо своей печи, своей усадьбы, кучи бревен, по тропе, пробитой своимм ногами, — поспеет, должна поспеть! Свинарник издалека — сонный и темный, с одного конца снежком припорошена крыша. Нет беды, не померещилось ли?
Но, еще не добежав, услышала истошный визг, приглушенный стенами. И этот визг подхлестнул…
Дверь в кормокухню. На ней замок. И похолодела — ключа-то нет, ключ-то остался в брошенном полушубке. И визг свиней, и через дверь слышен какой-то блудливый, трескучий перепляс… Замок — ключа нет. Вторые ворота заложены изнутри.
И заметалась вдоль по стене от окна к окну. Но окна узки, рамы крепкие, без топора не выломаешь. Добежала до угла, завернула и ахнула… Со стороны деревни свинарник сонный и темный, но он собой закрывает розовый снег. Из окна кормокухни выплескивает кипящее, жадное, в темных чадных завитках пламя. Оно облизывает стену. И часть стены — золотая, яркая, выедающая глаза. А на крыше вдруг на пустом месте вырос сияющий чертик, пошел отплясывать. И осипший рев одичавших свиней. И ничего нельзя сделать.
Настя заломила руки и завопила:
— Спасите! Спаси-те!!
Не переставая голосить, кинулась к деревне. К первой избе, к первому окну, кулаками изо всей мочи:
— Спасите! Спаси-те!!
Ко второй избе:
— Спаси-и-те!!
Хлопнула дверь, другая, хриплые мужские выкрики, бабье аханье. В стороне над свинарником крепло зарево, тускловатое, с багрянцем, как освещенный под гаснущей печи.
Хлопали двери, и над деревней разносился надрывно зовущий, плачущий голос:
— Спаси-те!! Спаси-те!!
Люди добрые, спасите Настю.
1965