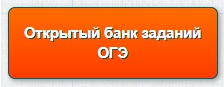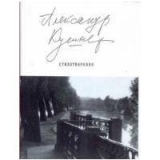Расставьте недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложениях должна(-ы) стоять запятая(-ые).
— Поверишь ли (1) вся Троя — с этот скверик, —
Сказал (2) приятель, — с детский этот садик,
Поэтому, когда (3) Ахилл-истерик (4)
Три раза обежал её, затратил
Не так уж много сил он, догоняя
Обидчика… — Я маленькую Трою
Представил, как пылится, зарастая
Кустарничком, — и я притих, не скрою.
Поверишь ли (5) вся Троя — с этот дворик,
Вся Троя — с эту детскую площадку…
Не знаю, что сказал бы нам историк,
Но (6) весело мне высказать догадку
О том, что всё великое скорее
Соизмеримо с сердцем, чем громадно, —
При Гекторе так было, Одиссее,
И нынче точно так же (7) вероятно.
(A. C. Кушнер)
Спрятать пояснение
Пояснение.
Расставим знаки препинания.
— Поверишь ли, (1) вся Троя — с этот скверик, —
Сказал (2) приятель, — с детский этот садик,
Поэтому, когда (3) Ахилл-истерик (4)
Три раза обежал её, затратил
Не так уж много сил он, догоняя
Обидчика… — Я маленькую Трою
Представил, как пылится, зарастая
Кустарничком, — и я притих, не скрою.
Поверишь ли, (5) вся Троя — с этот дворик,
Вся Троя — с эту детскую площадку…
Не знаю, что сказал бы нам историк,
Но (6) весело мне высказать догадку
О том, что всё великое скорее
Соизмеримо с сердцем, чем громадно, —
При Гекторе так было, Одиссее,
И нынче точно так же, (7) вероятно.
(A. C. Кушнер)
1) 5) 7) запятые при вводных словах и предложениях
Ответ: 157.
Возможна любая другая комбинация цифр.
Троя
— Поверишь ли, вся Троя — с этот скверик, —
Сказал приятель, — с детский этот садик,
Поэтому когда Ахилл-истерик
Три раза обежал её, затратил
Не так уж много сил он, догоняя
Обидчика… — Я маленькую Трою
Представил, как пылится, зарастая
Кустарничком, — и я притих, не скрою.
Поверишь ли, вся Троя — с этот дворик,
Вся Троя — с эту детскую площадку…
Не знаю, что сказал бы нам историк,
Но весело мне высказать догадку
О том, что всё великое скорее
Соизмеримо с сердцем, чем громадно, —
При Гекторе так было, Одиссее,
И нынче точно так же, вероятно.
Похожие цитаты
Ну прощай, прощай до завтра,
Послезавтра, до зимы.
Ну прощай, прощай до марта.
Зиму порознь встретим мы.
Порознь встретим и проводим.
Ну прощай до лучших дней.
До весны. Глаза отводим.
До весны. Ещё поздней.
Ну прощай, прощай до лета.
Что ж перчатку теребить?
Ну прощай до как-то, где-то,
До когда-то, может быть.
Опубликовала 
Уходит лето. Ветер дует так,
Что кажется, не лето — жизнь уходит,
И ежится, и ускоряет шаг,
И плечиком от холода поводит.
По пням, по кочкам, прямо по воде.
Ей зимние не по душе заботы.
Где дом ее? Ах, боже мой, везде!
Особенно, где синь и пароходы.
Уходит свет. Уходит жизнь сама.
Прислушайся в ночи: любовь уходит,
Оставив осень в качестве письма,
Где доводы последние приводит.
Уходит муза. С кленов, с тополей
Летит листва, летят ей вслед стрекозы.
Опубликовала 
Душа — таинственный предмет.
И если есть душа, то все же
Она не с крылышками, нет!
Она на колбочку похожа…
Сжимаясь ночью от обид,
Она весь день в огне проводит.
В ней вечно что-нибудь кипит,
И булькает, и происходит:
Взрывается и гаснет вновь,
Откладывается на стенки.
И получается любовь,
И боль, и радость, и оттенки.
Опубликовала 
Сказал (2) приятель, — с детский этот садик,
Поэтому, когда (3) Ахилл-истерик (4)
Три раза обежал её, затратил
Не так уж много сил он, догоняя
Обидчика… — Я маленькую Трою
Представил, как пылится, зарастая
Кустарничком, — и я притих, не скрою.
Поверишь ли (5) вся Троя — с этот дворик,
Вся Троя — с эту детскую площадку…
Не знаю, что сказал бы нам историк,
Но (6) весело мне высказать догадку
О том, что всё великое скорее
Соизмеримо с сердцем, чем громадно, —
При Гекторе так было, Одиссее,
И нынче точно так же (7) вероятно.»
Основной Государственный Экзамен 2019-2020 учебный год. Официальный сайт. Открытый банк заданий ФИПИ. Ответы на Тесты. Русский язык. ФИПИ. ВПР. ЕГЭ. ФГОС. ОРКСЭ. СТАТГРАД. ГИА. Школа России. 21 век. ГДЗ и Решебник для помощи ученикам и учителям.
Вот и наступает жаркая пора, когда пришло время сдавать в школе ОГЭ / ГИА. Здесь, на страничке для школьников 9 класса, мы предлагаем вам прочитать или бесплатно скачать оригинальный текст и задания с ответами по Русскому языку из Открытого банка заданий ФИПИ ГИА. 1 вариант, 2 вариант. С помощью этих заданий с решением и ответами вы можете в спокойной обстановке пройти тесты, написать эссэ, приготовиться реальному экзамену ОГЭ в школе и решить все задачи на 5-ку! После прохождения данных тестов, вы сами себе скажите, что я решу ОГЭ! Воспользуйтесь бесплатной возможностью улучшить свои знания по предмету с помощью данных тестов и кимов по ОГЭ / ГИА

Задание ОГЭ по Русскому Языку. 9 класс. Лексика и фразеология. Грамматика. Синтаксис.
Задание 18 № 19038
Расставьте недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложениях должна(-ы) стоять запятая(-ые).
— Поверишь ли (1) вся Троя — с этот скверик, —
Сказал (2) приятель, — с детский этот садик,
Поэтому, когда (3) Ахилл-истерик (4)
Три раза обежал её, затратил
Не так уж много сил он, догоняя
Обидчика… — Я маленькую Трою
Представил, как пылится, зарастая
Кустарничком, — и я притих, не скрою.
Поверишь ли (5) вся Троя — с этот дворик,
Вся Троя — с эту детскую площадку…
Не знаю, что сказал бы нам историк,
Но (6) весело мне высказать догадку
О том, что всё великое скорее
Соизмеримо с сердцем, чем громадно, —
При Гекторе так было, Одиссее,
И нынче точно так же (7) вероятно.
(A. C. Кушнер)


.
Задание 18
Расставьте недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложениях должна(-ы) стоять запятая(-ые).
— Поверишь ли (1) вся Троя— с этот скверик,—
Сказал (2) приятель,— с детский этот садик,
Поэтому, когда (3) Ахилл-истерик (4)
Три раза обежал её, затратил
Не так уж много сил он, догоняя
Обидчика…— Я маленькую Трою
Представил, как пылится, зарастая
Кустарничком,— и я притих, не скрою.
Поверишь ли (5) вся Троя— с этот дворик,
Вся Троя— с эту детскую площадку…
Не знаю, что сказал бы нам историк,
Но (6) весело мне высказать догадку
О том, что всё великое скорее
Соизмеримо с сердцем, чем громадно,—
При Гекторе так было, Одиссее,
И нынче точно так же (7) вероятно.
(A.C. Кушнер)
Пояснение.
Расставим знаки препинания.
— Поверишь ли, (1) вся Троя— с этот скверик,—
Сказал (2) приятель,— с детский этот садик,
Поэтому, когда (3) Ахилл-истерик (4)
Три раза обежал её, затратил
Не так уж много сил он, догоняя
Обидчика…— Я маленькую Трою
Представил, как пылится, зарастая
Кустарничком,— и я притих, не скрою.
Поверишь ли, (5) вся Троя— с этот дворик,
Вся Троя— с эту детскую площадку…
Не знаю, что сказал бы нам историк,
Но (6) весело мне высказать догадку
О том, что всё великое скорее
Соизмеримо с сердцем, чем громадно,—
При Гекторе так было, Одиссее,
И нынче точно так же, (7) вероятно.
(A.C. Кушнер)
1) 5) 7) запятые при вводных словах и предложениях
Ответ:157.
Возможна любая другая комбинация цифр.

Внимание!
Данная страница содержит ненормативную лексику или материал,
не рекомендованный к прочтению лицам до 18 лет
ДевяностыеКушнер
ТРОЯ
— Поверишь ли, вся Троя — с этот скверик, —
Сказал приятель, — с детский этот садик,
Поэтому когда Ахилл-истерик
Три раза обежал ее, затратил
Не так уж много сил он, догоняя
Обидчика… — Я маленькую Трою
Представил, как пылится, зарастая
Кустарничком, — и я притих, не скрою.
Поверишь ли, вся Троя — с этот дворик,
Вся Троя — с эту детскую площадку…
Не знаю, что сказал бы нам историк,
Но весело мне высказать догадку
О том, что всё великое скорее
Соизмеримо с сердцем, чем громадно, —
При Гекторе так было, Одиссее,
И нынче точно так же, вероятно.
Текст книги «Стихотворения. Четыре десятилетия»
Автор книги: Александр Кушнер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 8 страниц)
Лучше всего оно знаешь, когда, когда…
Лучше всего оно знаешь, когда, когда?
Знаешь, когда оно лучше всего, всего?
В послеобеденный час, когда спит орда
Отпускников, – и нет на море никого!
В самый горячий, расплавленный, сонный час,
Самый пустынный и знойный, глаза слепя.
Было бы лучше еще, если б также нас
Не было, плещется лишь для себя, для себя.
Только себя оно принадлежит светло
Глядя на спящий, себя позабывший мир,
Столь абсолютное, словно добро и зло,
Столь драгоценное, словно брильянт, сапфир.
Словно идея платонова наяву,
Овеществленная силой его ума…
Спросят, что делаю? Точный ответ: живу.
Яркие вспышки и пенная бахрома.
И обнаружив среди золотистых сот
Голову прочно увязшего в них пловца,
Видишь: есть кто-то всегда, кто полней живет
И углубленней, решительно, до конца.
Нечто вроде прустовского романа…
Нечто вроде прустовского романа,
Только на языке другом и не в прозе,
А в стихах, – вот чем я занят был, Ориана,
Албертина, Одетта, и на морозе,
А не в благословенном Комбре, Бальбеке,
Не в Париже, с сиренью его, бензином,
И хотя в том же самом железном веке,
Но железа прибавилось в нем, интимном,
Но с поправкой на общие беды, плане,
То есть после Освенцима и на фоне
Стариков, засыпанных в Магадане
Снегом, звездами, тучами… «встали кони».
Нечто вроде прустовского романа
По количеству мыслей в одеждах ярких,
Только пил из граненого я стакана
Чаще, чем из бокала, и та, с кем в парке
На скамье целовался, носила платье
От советской портнихи по два-три года,
И готовились загодя мероприятия
Юбилейные, громкие, в честь Нимрода,
И не поощрялся любовный шепот,
Потому что ценился гражданский пафос,
Но я знал тогда: это опыт, опыт,
А не просто ошибка и скверный ляпсус.
ТРОЯ
– Поверишь ли, вся Троя – с этот скверик, –
Сказал приятель, – с детский этот садик,
Поэтому когда Ахилл-истерик
Три раза обежал ее, затратил
Не так уж много сил он, догоняя
Обидчика… – Я маленькую Трою
Представил, как пылится, зарастая
Кустарничком, – и я притих, не скрою.
Поверишь ли, вся Троя – с этот дворик,
Вся Троя – с эту детскую площадку…
Не знаю, что сказал бы нам историк,
Но весело мне высказать догадку
О том, что все великое скорее
Соизмеримо с сердцем, чем громадно, –
Пи Гекторе так было, Одиссее,
И нынче точно так же, вероятно.
Нету сил у меня на листву эту мелкую…
Нету сил у меня на листву эту мелкую,
Эту майскую, детскую, липкую, клейкую,
Умозрительно воспринимаю ее,
Соблазнившись укромной садовой скамейкою,
Подозрительный и как бы сквозь забытье.
О, бесчувственность! Сумрачная необщительность!
Мне мерещится в радости обременительность
И насильственность: я не просил зеленеть,
Расцветать, так сказать, заслоняя действительность,
Утешать, расставлять для меня эту сеть!
Это склочный старик с бородой клочковатою
Пел любую весну, даже семидесятую,
Упивался, как первой весной на земле,
Не считаясь в душе ни с какою затратою
И сочувствуя каждой пролетной пчеле.
Даже как-то обидно, что стерпится – слюбится:
Оплетет, обовьет, обезволит причудница
И еще подрастет – и поверю опять,
Не смешно ли? что все состоится и сбудется,
Что? не знаю, и в точности трудно сказать.
Он поймал себя, пылкий, на том ощущенье…
Он поймал себя, пылкий, на том ощущенье,
Обнимая ее, что опять – в лабиринте,
Правда, в этот раз – в маленьком, и восхищенье
Испытал: с этим делом у них тут на Крите
Хорошо, как нигде. И, смутясь, свою рыбку
Прижимал, словно птичку, к себе что есть силы.
В полумраке она разглядела улыбку
У него на лице и подумала: милый!
Хорошо, что не все наши мысли и тени
Мыслей, проблески, молнии, вспышки, догадки
Для сторонних, – чужих и родных – наблюдений
Абсолютно открыты, – смешны они, сладки,
Прихотливы, сомнительны, непроизвольны,
Безответственны, жутки, Бог знает откуда
К нам приходят, темны их пути и окольны.
Он сказал ей, опомнившись: ты мое чудо!
Лишайничек серый, пушистый, на дачном заборе…
Лишайничек серый, пушистый, на дачном заборе,
Такой бархатистый, – свидетелем будь в нашем споре.
Жизнь – чудо, по-моему, чудо. Нет, горечь и горе.
Да, горечь и горе, а вовсе не счастье и чудо.
На дачном заборе, слоистый, не знаю откуда.
Такой неказистый, пусть видит, какой ты зануда!
Какие лишенья на мненье твое повлияли,
Что вот утешенья не хочешь, – кружки и спирали
Под пальцами мелкие, пуговки, скобки, детали.
Всего лишь лишайничек, мягкою сыпью, и то лишь
Забывшись, руке потрепать его быстро позволишь,
И вымолишь вдруг то, о чем столько времени молишь.
Затем что и сверху, и снизу, и сбоку – Всевышний,
Поэтому дальний от нас, выясняется, – ближний,
Спешащий на помощь, как этот лишайничек лишний.
Человек узнает о себе, что маньяк он и вор…
Человек узнает о себе, что маньяк он и вор.
Что в автографе гения он преднамеренно строчку
Исказил, – как он жить будет с этих, подумаешь, пор?
А никак. То есть так, как и прежде, с грехом в одиночку.
Потому что в эпоху разомкнутых связей и скреп
Никому ничего объяснить не дано – и не надо.
Кислой правды назавтра черствеет подмоченный хлеб.
Если правду сказать, и строка та была сыровата.
И не трогал ее, а дотронулся только слегка.
Совершенного вида стесняется несовершенный.
Спи, не плачь. Ты старик. Ну, стихи, ну, строфа, ну, строка.
Твой поступок – пустяк в равнодушной, как старость, Вселенной.
Ай! Не слышат. Ой-ой! Ни одна ни сойдет, не кричи,
С ненавистной орбиты ревущая зверем громада,
Серный газ волоча. О, возить бы на ней кирпичи,
Как на грузовике, что несется в пыли мимо сада.
– Ах, вы вот как, вы так? Обещая полнейшую тьму,
Беспросветную ночь, безразличную мглу, переплавку…
Он сказал бы, зачем это сделал, певцу одному,
Если б очную им вдруг устроили личную ставку!
Разве можно после Пастернака…
Разве можно после Пастернака
Написать о елке новогодней?
Можно, можно! – звезды мне из мрака
Говорят, – вот именно сегодня.
Он писал при Ироде: верблюды
Из картона, – клей и позолота –
В тех стихах евангельское чудо
Превращали в комнатное что-то.
И волхвы, возможные напасти
Обманув, на валенки сапожки
Обменяв, как бы советской власти
Противостояли на порожке.
А сегодня елка – это елка,
И ее нам, маленькую, жалко.
Веточка колючая, как челка,
Лезет в глаз, – шалунья ты, нахалка!
Нет ли Бога, есть ли Он – узнаем,
Умерев, у Гоголя, у Канта,
У любого встречного, – за краем.
Нас устроят оба варианта.
КОНЬКОБЕЖЕЦ
1
Зимней ласточкой с визгом железным,
Семимильной походкой стальной
Он проносится небом беззвездным,
Как сказал бы поэт ледяной,
Но растаял одический холод,
И летит конькобежец, воспет
Кое-как, на десятки расколот
Положений, углов и примет.
2
Геометрии в полном объеме
Им прочитанный курс для зевак
Не уложится в маленьком томе,
Как бы мы ни старались, – никак!
Посмотри: вылезают колени
И выбрасывается рука,
Как ненужная вещь на арене
Золотого, как небо, катка.
3
Реже, реже ступай, конькобежец…
Век прошел – и чужую строку,
Как перчатку, под шорох и скрежет
Поднимаю на скользком бегу:
Вызов брошен – и должен же кто-то
Постоять за бесславный конец:
Вся набрякла от снега и пота
И, смотри, тяжела, как свинец.
4
Что касается чоканья с твердой
Голубою поверхностью льда, –
Это слово в стихах о проворной
Смерти нас впечатлило, туда,
Между прочим – и это открытье
Веселит, из чужого стиха
Забежав с конькобежною прытью:
Все в родстве-воровстве, нет греха!
5
Не споткнись! Если что и задержит,
То неловкость, – и сам виноват.
Реже, реже ступай, конькобежец,
Твой размашистый почерк крылат,
Рифмы острые искрами брызжут,
Приглядимся к тебе и поймем
То, что ласточки в воздухе пишут
Или ветви рисуют на нем.
6
Не расстаться с тобой мне, – пари же,
Вековые бодая снега.
И живи он в Москве – не в Париже,
Жизнь тебе посвятил бы Дега,
Он своих балерин и лошадок
Променял бы, в тулупчик одет,
На стремительный этот припадок
Длинноногого бега от бед.
Там, где весна, весна, всегда, где склон…
Там, где весна, весна, всегда весна, где склон
Покат, и ласков куст, и черных нет наветов,
Какую премию мне Аполлон
Присудит, вымышленный бог поэтов!
А ствол у тополя густой листвой оброс,
Весь, снизу доверху, – клубится, львиногривый.
За то, что ракурс свой я в этот мир принес
И не похожие ни на кого мотивы.
За то, что в век идей, гулявших по земле,
Как хищники во мраке,
Я скатерть белую прославил на столе
С узором призрачным, как водяные знаки.
Поэт для критиков что мальчик для битья.
Но не плясал под их я дудку.
За то, что этих строк в душе стесняюсь я,
И откажусь от них, и превращу их в шутку.
За то, что музыку, как воду в решето,
Я набирал для тех, кто так же на отшибе
Жил, за уступчивость и так, за низачто,
За je vous aime, ich liebe.
Мне приснилось, что все мы сидим за столом…
Мне приснилось, что все мы сидим за столом,
В полублеск облачась, в полумрак,
И накрыт он в саду, и бутыли с вином,
И цветы, и прохлада в обнимку с теплом,
И читает стихи Пастернак.
С выраженьем, по-детски, старательней, чем
Это принято, чуть захмелев,
И смеемся, и так это нравится всем,
Только Лермонтов: «Чур, – говорит, – без поэм!
Без поэм и вступления в Леф!»
А туда, где сидит Председатель, взглянуть…
Но, свалившись на стол с лепестка,
Жук пускается в долгий по скатерти путь…
Кто-то встал, кто-то голову клонит на грудь,
Кто-то бедного ловит жука.
И так хочется мне посмотреть хоть разок
На того, кто… Но тень всякий раз
Заслоняет его или чей-то висок,
И последняя ласточка наискосок
Пронеслась, чуть не врезавшись в нас.
Ох, я открыл окно, открыл окно, открыл…
Ох, я открыл окно, открыл окно, открыл
На даче, белое, и палочки подставил,
Чтоб не захлопнулось, и воздух заходил,
Как Петр, наверное, по комнате и Павел
В своем на радости настоянном краю
И сладкой вечности, вздымая занавеску,
Как бы запахнуты в нее, как бы свою
Припомнив молодость и получив повестку.
Ох, я открыл окно, открыл окно, открыл
И, что вы думаете, лег лицом в подушку!
Такое смутное томленье, – нету сил
Перенести его, и сну попал в ловушку,
Дождем расставленную, и дневным теплом,
И слабым шелестом, и пасмурным дыханьем,
И спал, и счастлив был, как бы в саду ином,
С невнятным, вкрадчивым и неземным названьем.
ВЕНЕЦИЯ
Знаешь, лучшая в мире дорога –
Это, может быть, скользкая та,
Что к чертогу ведет от чертога,
Под которыми плещет вода
И торчат деревянные сваи,
И на привязи, черные, в ряд
Катафалкоподобные стаи
Так нарядно и праздно стоят.
Мы по ней, златокудрой, проплыли
Мимо скалоподобных руин,
В мавританском построенных стиле,
Но с подсказкою Альп, Апеннин,
И казалось, что эти ступени,
Бархатистый зеленый подбой
Наш мурановский сумрачный гений
Афродитой назвал гробовой.
Разрушайся! Тони! Увяданье –
Это правда. В веках холодей!
Этот путь тем и дорог, что зданья
Повторяют страданья людей,
А иначе бы разве пылали
Ипомеи с геранями так
В каждой нише и в каждом портале,
На балконах, приветствуя мрак?
И последнее. (Я сокращаю
Восхищенье.) Проплывшим вдвоем
Этот путь, как прошедшим по краю
Жизни, жизнь предстает не огнем,
Залетевшим во тьму, но водою,
Ослепленной огнями, обид
Нет, – волненьем, счастливой бедою.
Все течет. И при этом горит.
Когда б я родился в Германии в том же году…
…тише воды, ниже травы…
А. Блок
Когда б я родился в Германии в том же году,
Когда я родился, в любой европейской стране:
Во Франции, в Австрии, в Польше, – давно бы в аду
Я газовом сгинул, сгорел бы, как щепка в огне.
Но мне повезло – я родился в России, такой,
Сякой, возмутительной, сладко не жившей ни дня,
Бесстыдной, бесправной, замученной, полунагой,
Кромешной – и выжить был все-таки шанс у меня.
И я арифметики этой стесняюсь чуть-чуть,
Как выгоды всякой на фоне бесчисленных бед.
Плачь, сердце! Счастливый такой почему б не вернуть
С гербом и печатью районного загса билет
На вход в этот ужас? Но сказано: ниже травы
И тише воды. Средь безумного вихря планет!
И смотрит бесслезно, ответа не зная, увы,
Не самый любимый, но самый бесстрашный поэт.
Все нам Байрон, Гете, мы, как дети…
Все нам Байрон, Гете, мы, как дети,
Знать хотим, что думал Теккерей.
Плачет Бог, читая на том свете
Жизнь незамечательных людей.
У него в небесном кабинете
Пахнет мятой с сиверских полей.
Он встает, подавлен и взволнован,
Отложив очки, из-за стола.
Лесосклад он видит, груду бревен
И осколки битого стекла.
К дяде Пете взгляд его прикован
Средь добра вселенского и зла.
Он читает в сердце дяди Пети,
С удивленьем смотрит на него.
Стружки с пылью поднимает ветер.
Шепчет дядя: этого… того…
Сколько бед на горьком этом свете!
Загляденье, радость, волшебство!
САХАРНИЦА
Памяти Л. Я. Гинзбург
Как вещь живет без вас, скучает ли? Нисколько!
Среди иных людей, во времени ином,
Я видел, что она, как пушкинская Ольга,
Умершим не верна, родной забыла дом.
Иначе было б жаль ее невыносимо.
На ножках четырех подогнутых, с брюшком
Серебряным, – но нет, она и здесь ценима,
Не хочет ничего, не помнит ни о ком.
И украшает стол, и если разговоры
Не те, что были там, – попроще, победней, –
Все так же вензеля сверкают и узоры,
И как бы ангелок припаян сбоку к ней.
Я все-таки ее взял в руки на мгновенье,
Тяжелую, как сон. Вернул – и взгляд отвел.
А что бы я хотел? Чтоб выдала волненье?
Заплакала? Песок просыпала на стол?
Когда страна из наших рук…
М. Петрову
Когда страна из наших рук
Большая выскользнула вдруг
И разлетелась на куски,
Рыдал державинский басок
И проходил наискосок
Шрам через пушкинский висок
И вниз, вдоль тютчевской щеки.
Я понял, что произошло:
За весь обман ее и зло,
За слезы, капавшие в суп,
За все, что мучило и жгло…
Но был же заячий тулуп,
Тулупчик, тайное тепло!
Но то была моя страна,
То был мой дом, то был мой сон,
Возлюбленная тишина,
Глагол времен, металла звон,
Святая ночь и небосклон,
И ты, в Элизиум вагон
Летящий в злые времена,
И в огороде бузина,
И дядька в Киеве, и он!
Как нравился Хемингуэй…
Как нравился Хемингуэй
На фоне ленинских идей, –
Другая жизнь и берег дальний…
И спились несколько друзей
Из подражанья, что похвальней,
Чем спиться грубо, без затей.
Высокорослые (кто мал,
Тот, видимо, не подражал
Хемингуэю, – только Кафке)
С утра – в любой полуподвал,
По полстакана – для затравки –
И день дымился и сверкал!
Зато в их прозе дорогой
Был юмор, кто-нибудь другой
Напишет лучше, но скучнее.
Не соблазниться нам тоской!
О, праздник, что всегда с тобой,
Хемингуэя – Холидея…
Зато когда на свете том
Сойдетесь как-нибудь потом,
Когда все, все умрем, умрете,
Да не останусь за бортом,
Меня, непьющего, возьмете
В свой круг, в свой рай, в свой гастроном!
Эти травинки, которые в дом…
Эти травинки, которые в дом
Мы на подошвах приносим из сада,
В зеленоватом, потом золотом
Блеске их – радость для нашего взгляда.
Вымести их удается с трудом.
Сад наш запущен, другого – не надо!
Раньше косили, куда-то коса
Делась, быть может, забрали соседи?
Что ж, если есть на земле чудеса,
К ним приплюсуем соломинки эти.
Рай, – нам хватает его за глаза,
Кротким, попавшим в силки его, сети.
Я рай представляю себе, как подъезд к Судаку…
Я рай представляю себе, как подъезд к Судаку,
Когда виноградник сползает с горы на боку
И воткнуты сотни подпорок, куда ни взгляни,
Татарское кладбище напоминают они.
Лоза виноградная кажется каменной, так
Тверда, перекручена, кое-где сжата в кулак,
Распята и, крылья полураспахнув, как орел,
Вином обернувшись, взлетает с размаха на стол.
Не жалуйся, о, не мрачней, ни о чем не грусти!
Претензии жизнь принимает от двух до пяти,
Когда, разморенная послеобеденным сном,
Она вам внимает, мерцая морским ободком.
Пить вино в таком порядке…
Пить вино в таком порядке:
Рислинг кисленький и гладкий,
Херес чуть шероховат,
И портвейн, как столик, шаткий,
И мускат как бы покат.
«Черный доктор» за мускатом
Кажется продолговатым,
И коньяк не пропустить
С лошадиным ароматом.
А шампанским все запить.
Ну, какой я дегустатор!
Жизнь прекрасна, так и быть.
Я смотрел на поэта и думал: счастье…
Памяти И. Бродского
Я смотрел на поэта и думал: счастье,
Что он пишет стихи, а не правит Римом.
Потому что и то и другое властью
Называется. И под его нажимом
Мы б и года не прожили – всех бы в строфы
Заключил он железные, с анжамбманом
Жизни в сторону славы и катастрофы,
И, тиранам грозя, он и был тираном,
А уж мне б головы не сносить подавно
За лирический дар и любовь к предметам,
Безразличным успехам его державным
И согретым решительно-мягким светом.
А в стихах его власть, с ястребиным криком
И презреньем к двуногим, ревнуя к звездам,
Забиралась мне в сердце счастливым мигом,
Недоступным Калигулам или Грозным,
Ослепляла меня, поднимая выше
Облаков, до которых и сам охотник,
Я просил его все-таки: тише! тише!
Мою комнату, кресло и подлокотник
Отдавай, – и любил меня, и тиранил:
Мне-то нравятся ласточки с голубою
Тканью в ножницах, быстро стригущих дальний
Край небес. Целовал меня: Бог с тобою!
Все знанье о стихах – в руках пяти-шести…
Все знанье о стихах – в руках пяти-шести,
Быть может, десяти людей на этом свете:
В ладонях берегут, несут его в горсти.
Вот мафия, и я в подпольном комитете
Как будто состою, а кто бы знал без нас,
Что Батюшков, уйдя под воду, вроде Байи,
Жемчужиной блестит, мерцает, как алмаз,
Живей, чем все льстецы, певцы и краснобаи.
И памятник, глядишь, поставят гордецу,
Ушедшему в себя угрюмцу и страдальцу,
Не зная ни строки, как с бабочки, пыльцу
Стереть с него грозя: прижаты палец к пальцу –
И пестрое крыло, зажатое меж них,
Трепещет, обнажив бесцветные прожилки,
Тверди, но про себя, его лазурный стих,
Не отмыкай ларцы, не раскрывай копилки.
Фету кто бы сказал, что он всем навязал…
Фету кто бы сказал, что он всем навязал
Это счастье, которое нам не по силам?
Фету кто бы сказал, что цветок его ал
Вызывающе, к прядкам приколотый милым?
Фету кто бы шепнул, что он всех обманул,
А завзятых певцов, так сказать, переплюнул?
Посмотреть бы на письменный стол его, стул,
Прикоснуться бы пальцем к умолкнувшим струнам!
И когда на ветру молодые кусты
Оживут, заслоняя тенями тропинку,
Кто б пылинку смахнул у него с бороды,
С рукава его преданно сдунул соринку?
Стихи – архаика. И скоро их не будет…
Стихи – архаика. И скоро их не будет.
Смешно настаивать на том, что Архилох
Еще нас по утру, как птичий хохот, будит,
Еще цепляется, как зверь-чертополох.
Прощай, речь мерная! Тебе на смену проза
Пришла, и Музы-то у опоздавшей нет,
И жар лирический трактуется как поза
На фоне пристальных журналов и газет.
Я пил с прозаиком. Пока мы с ним сидели,
Он мне рассказывал. Сюжет – особый склад
Мировоззрения, а стих живет без цели,
Летит, как ласточка, свободно, наугад.
И третье, видимо, нельзя тысячелетье
Представить с ямбами, зачем они ему?
Все так. И мало ли, о чем могу жалеть я?
Жалей, не жалуйся, гори, сходя во тьму.
Текущая страница: 8 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Аполлон в траве
В траве лежи. Чем гуще травы,
Тем незаметней белый торс,
Тем дальнобойный взгляд державы
Беспомощней; тем меньше славы,
Чем больше бабочек и ос.
Тем слово жарче и чудесней,
Чем тише произнесено.
Чем меньше стать мечтает песней,
Тем ближе к музыке оно;
Тем горячей, чем бесполезней.
Чем реже мрачно напоказ,
Тем безупречней, тем печальней,
Не поощряя громких фраз
О той давильне, наковальне,
Где задыхалось столько раз.
Любовь трагична, жизнь страшна.
Тем ярче белый на зеленом.
Не знаю, в чем моя вина.
Тем крепче дружба с Аполлоном,
Чем безотрадней времена.
Тем больше места для души,
Чем меньше мыслей об удаче.
Пронзи меня, вооружи
Пчелиной радостью горячей!
Как крупный град в траве лежи.
«Две маленьких толпы, две свиты можно встретить…»
Две маленьких толпы, две свиты можно встретить,
В тумане различить, за дымкой разглядеть,
Пусть стерты на две трети,
Задымлены, увы… Спасибо и за треть!
Отбиты кое-где рука, одежды складка,
И трещина прошла, и свиток поврежден,
И все-таки томит веселая догадка,
Счастливый снится сон.
В одной толпе – строги и сдержаны движенья,
И струнный инструмент поет, как золотой
Луч, боже мой, хоть раз кто слышал это пенье,
Тот преданно строке внимает стиховой.
В другой толпе – не лавр, а плющ и виноградный
Топорщится листок,
Там флейта и свирель, и смех, и длится жадный
Там прямо на ходу большой, как жизнь, глоток.
Ты знаешь, за какой из них, не рассуждая,
Пошел я, но – клянусь! – свидетель был не раз
Тому, как две толпы сходились, золотая
Дрожала пыль у глаз.
И знаю, за какой из них пошел ты, бедный
Приятель давних дней, растаял вдалеке,
Пленительный, бесследный
Проделав шумный путь в помятом пиджаке…
«Дорогой Александр! Здесь, откуда пишу тебе, нет…»
Дорогой Александр! Здесь, откуда пишу тебе, нет
Ни сирен, – ах, сирены с безумными их голосами! –
Ни циклопов, – привет
От меня им, сидящим в своих кабинетах, с глазами
Всё в порядке у них, и над каждым – дежурный портрет.
Нет разбойников, нимф,
Это всё – на земле, как ни грустно, квартиры и гроты;
Что касается рифм,
То, как видишь, освоил я детские эти заботы
На чужом языке, вспоминая прилив и отлив.
Шелестенье волны,
Выносящей к ногам в крутобедрой бутылке записку
Из любимой страны…
Здесь, откуда пишу тебе, море к закатному диску
Льнет, но диск не заходит, томят незакатные сны.
Дорогой Александр,
Почему тебя выбрал, сейчас объясню; много ближе,
Скажешь, буйный ко мне Архилох, семиструнный Терпандр,
Но и пальме сосна снится в снежной красе своей рыжей,
А не дрок, олеандр.
А еще потому
Выбор пал на тебя, нелюдим, что, живя домоседом,
Огибал острова, чуть ли не в залетейскую тьму
Заходил, всё сказал, что хотел, не солгал никому, –
И остался неведом.
В благосклонной тени. Но когда ты умрешь, разберут
Всё, что сказано: так придвигают к глазам изумруд,
Огонек бриллианта.
Скольких чудищ обвел вокруг пальца, статей их, причуд
Не боясь: ты обманута, литературная банда!
Вы обмануты, стадом гуляющие женихи.
И предательский лотос
Не надкушен, с тобой – твоя родина, беды, грехи.
Человек умирает – зато выживают стихи.
Здравствуй, ласковый ум и мужская, упрямая кротость!
Помогал тебе Бог или смуглые боги, как мне,
Выходя, как из ниши, из ямы воздушной во сне,
Обнимала прохлада,
Навевая любовь к заметенной снегами стране…
Обнимаю тебя. Одиссей. Отвечать мне не надо.
«В наших северных рощах, ты помнишь, и летом клубятся…»
В наших северных рощах, ты помнишь, и летом клубятся
Прошлогодние листья, трещат и шуршат под ногой,
И рогатые корни южанина и иностранца
Забавляют: не ждал он высокой преграды такой,
Как домашний порог, так же буднично стоптанный нами;
Вообще он не думал, что могут быть так хороши
Наши ели и мхи, вековые стволы с галунами
Голубого лишайника, юркие в дебрях ужи.
Мы не скажем ему, как вздыхаем по югу, по глянцу
Средиземной листвы, мы поддакивать станем ему:
Да, еловая тень… Мы южанину и иностранцу
Незабудочек нежных покажем в лесу бахрому,
Переспросим его: не забудет он их? Не забудет.
Никогда! ни за что! голубые такие… их нет
Там, где жизнь он проводит так грустно… Увидим:
не шутит,
И вздохнем, и простимся… помашем рукою вослед.
«Боже мой, среди Рима, над Форумом, в пыльных кустах…»
Боже мой, среди Рима, над Форумом, в пыльных кустах
Ты легла на скамью, от Траяновых стен – в двух шагах
В трикотажном костюмчике, – там, где кипела вражда,
Где Катулл проходил, бормоча: – Что за дрянь, сволота!
Как усталостью был огорчен я твоей, уязвлен
Тем, что не до камней тебе этих, побитых колонн,
Как стремился я к ним, как я рвался, не чаял узреть.
Ты мне можешь испортить всё, всё, даже Рим, даже смерть!
Где мы? В Риме! Мы в Риме. Мы в нем. Как он желт, кареглаз!
Мы в пылающем Риме вдвоем. Повтори еще раз.
Как слова о любви, повтори, чтоб поверить я мог
В это солнце, в крови растворенное, в ласковый рок.
Ты лежала ничком в двух шагах от теней дорогих.
Эта пыль, этот прах мне дороже всех близких, родных.
Как усталость умеет любовь с раздраженьем связать
В чудный узел один: вот я счастлив, несчастен опять!
Вот я должен сидеть, ждать, пока ты вздохнешь, оживешь.
Я хотел бы один любоваться руинами… Ложь.
Я не мог бы по прихоти долго скитаться своей
Без тебя, без любви, без родимых лесов и полей.
«На сумрачной звезде» (1994)
«Если кто-то Италию любит…»
Если кто-то Италию любит,
Мы его понимаем, хотя
Сон полуденный мысль ее губит,
Солнце нежит и море голубит,
Впала в детство она без дождя.
Если Англию – тоже понятно.
И тем более – Францию, что ж,
Я впивался и сам в нее жадно,
Как пчела… Ах, на ней даже пятна,
Как на солнце: увидишь – поймешь.
Но Россию со всей ее кровью…
Я не знаю, как это назвать, –
Стыдно, страшно, – неужто любовью?
Эту рыхлую ямку кротовью,
Серой ивы бесцветную прядь.
«Запиши на всякий случай…»
Запиши на всякий случай
Телефонный номер Блока:
Шесть – двенадцать – два нуля.
Тьма ль подступит грозной тучей,
Сердцу ль станет одиноко,
Злой покажется земля.
Хорошо – и слава богу,
И хватает утешений
Дружеских и стиховых,
И стареем понемногу
Мы, ценители мгновений
Чудных, странных, никаких.
Пусть мелькают страны, лица,
Нас и Фет вполне устроить
Может, лиственная тень,
Но… кто знает, что случится?
Зря не будем беспокоить.
Так сказать, на черный день.
«Мы останавливали с тобой…»
Я список кораблей прочел до середины…
О. Мандельштам
Мы останавливали с тобой
Каретоподобный кэб
И мчались по Лондону, хвост трубой,
Здравствуй, здравствуй, чужой вертеп!
И сорили такими словами, как
Оксфорд-стрит и Трафальгар-сквер,
Нашей юности, канувшей в снег и мрак,
Подавая плохой пример.
Твой английский слаб, мой французский плох.
За кого принимал шофер
Нас? Как если бы вырицкий чертополох
На домашний ступил ковер.
Или розовый сиверский иван-чай
Вброд лесной перешел ручей.
Но сверх счетчика фунт я давал на чай –
И шофер говорил: «О’кей!»
Потому что, наверное, сорок лет
Нам внушали средь наших бед,
Что бессмертия нет, утешенья нет,
А уж Англии, точно, нет.
Но сверкнули мне волны чужих морей,
И другой разговор пошел…
Не за то ли, что список я кораблей,
Мальчик, вслух до конца прочел?
Троя
– Поверишь ли, вся Троя – с этот скверик, –
Сказал приятель, – с детский этот садик,
Поэтому когда Ахилл-истерик
Три раза обежал ее, затратил
Не так уж много сил он, догоняя
Обидчика… – Я маленькую Трою
Представил, как пылится, зарастая
Кустарничком, – и я притих, не скрою.
Поверишь ли, вся Троя – с этот дворик,
Вся Троя – с эту детскую площадку…
Не знаю, что сказал бы нам историк,
Но весело мне высказать догадку
О том, что всё великое скорее
Соизмеримо с сердцем, чем громадно, –
При Гекторе так было, Одиссее,
И нынче точно так же, вероятно.
«В отчаянье или в беде, беде…»
В отчаянье или в беде, беде,
Кто б ни был ты, когда ты будешь в горе,
Знай: до тебя уже на сумрачной звезде
Я побывал, я стыл, я плакал в коридоре.
Чтоб не увидели, я отводил глаза.
Я признаюсь тебе в своих слезах, несчастный
Друг, кто бы ни был ты, чтоб знал ты: небеса
Уже испытаны на хриплый крик безгласный
Не отзываются. Но видишь давний след?
Не первый ты прошел во мраке над обрывом.
Тропа проложена. Что, легче стало, нет?
Вожусь с тобой, самолюбивым…
Названья хочешь знать несчастий? Утаю
Их; куст клубится толстокожий.
Как там, у Пушкина: «всё на главу мою…»
Что всё? Не спрашивай: у всех одно и то же.
О кто бы ни был ты, тебе уже не так
Мучительно и одиноко.
Пройдись по комнате иль на диван приляг.
Жизнь оправдается, нежна и синеока.
«Мне, видевшему Гефсиманский сад…»
Мне, видевшему Гефсиманский сад,
Мне, гладившему ту листву рукою,
Мне, прятавшему в этой жизни взгляд
От истины, взирающей с тоскою
На нас, – за что такой подарок мне,
Евангельских стихов у Пастернака
Не любящему, как бы не вполне
Им верящему, как бы сделать шага
Не смеющему в направленье слез,
Струившихся в ту ночь, – иллюстративны
Все, все стихи на эту тему, – гроз
Ночных спонтанны вспышки и наивны!
Мне, видевшему в том саду цветы:
Тюльпаны, маки, розы, маргаритки,
Мне, может быть, ступавшему в следы
Те самые при входе у калитки,
Влекомому толпой туристской, – мне,
Про Мастера роман и Маргариту
Не ценящему: ведь о сатане
Слишком легко писать, в его защиту
И к славе, упрощается сюжет,
Разбитый изначально на два плана, –
За что мне эта зелень, этот свет?
А ни за что! Как ты сказал: спонтанно?
«Разве можно после Пастернака…»
Разве можно после Пастернака
Написать о елке новогодней?
Можно, можно! – звезды мне из мрака
Говорят, – вот именно сегодня.
Он писал при Ироде: верблюды
Из картона, – клей и позолота, –
В тех стихах евангельское чудо
Превращали в комнатное что-то.
И волхвы, возможные напасти
Обманув, на валенки сапожки
Обменяв, как бы советской власти
Противостояли на порожке.
А сегодня елка – это елка,
И ее нам, маленькую, жалко.
Веточка, колючая, как челка,
Лезет в глаз, – шалунья ты, нахалка!
Нет ли Бога, есть ли Он, – узнаем,
Умерев, у Гоголя, у Канта,
У любого встречного, – за краем.
Нас устроят оба варианта.
Конькобежец
Зимней ласточкой с визгом железным
Семимильной походкой стальной
Он проносится небом беззвездным,
Как сказал бы поэт ледяной,
Но растаял одический холод,
И летит конькобежец, воспет
Кое-как, на десятки расколот
Положений, углов и примет.
Геометрии в полном объеме
Им прочитанный курс для зевак
Не уложится в маленьком томе,
Как бы мы ни старались, – никак!
Посмотри: вылезают колени
И выбрасывается рука,
Как ненужная вещь на арене
Золотого, как небо, катка.
Реже, реже ступай, конькобежец…
Век прошел – и чужую строку,
Как перчатку, под шорох и скрежет
Поднимаю на скользком бегу:
Вызов брошен – и должен же кто-то
Постоять за бесславный конец:
Вся набрякла от снега и пота
И, смотри, тяжела, как свинец.
Что касается чоканья с твердой
Голубою поверхностью льда, –
Это слово в стихах о проворной
Смерти нас впечатлило, туда,
Между прочим, – и это открытье
Веселит, – из чужого стиха
Забежав с конькобежною прытью:
Все в родстве-воровстве, нет греха!
Не споткнись! Если что и задержит,
То неловкость – и сам виноват.
Реже, реже ступай, конькобежец,
Твой размашистый почерк крылат,
Рифмы острые искрами брызжут,
Приглядимся ж тебе и поймем
То, что ласточки в воздухе пишут
Или ветви рисуют на нем.
Не расстаться с тобой мне, – пари же,
Вековые бодая снега.
И живи он в Москве, – не в Париже,
Жизнь тебе посвятил бы Дега,
Он своих балерин и лошадок
Променял бы, в тулупчик одет,
На стремительный этот припадок
Длинноногого бега от бед.
«Там, где весна, весна, всегда весна, где склон…»
Там, где весна, весна, всегда весна, где склон
Покат, и ласков куст, и черных нет наветов,
Какую премию мне Аполлон
Присудит, вымышленный бог поэтов!
А ствол у тополя густой листвой оброс,
Весь, снизу доверху, – клубится, львиногривый.
За то, что ракурс свой я в этот мир принес
И не похожие ни на кого мотивы.
За то, что в век идей, гулявших по земле,
Как хищники во мраке,
Я скатерть белую прославил на столе
С узором призрачным, как водяные знаки.
Поэт для критиков что мальчик для битья.
Но не плясал под их я дудку.
За то, что этих строк в душе стесняюсь я,
И откажусь от них, и превращу их в шутку.
За то, что музыку, как воду в решето,
Я набирал для тех, кто так же на отшибе
Жил, за уступчивость и так, за ни за что,
За je vous aime, ich liebe.
«Мне приснилось, что все мы сидим за столом…»
Мне приснилось, что все мы сидим за столом,
В полублеск облачась, в полумрак,
И накрыт он в саду, и бутыли с вином,
И цветы, и прохлада в обнимку с теплом,
И читает стихи Пастернак.
С выраженьем, по-детски, старательней, чем
Это принято, чуть захмелев,
И смеемся, и так это нравится всем,
Только Лермонтов: «Чур, – говорит, – без поэм!
Без поэм и вступления в Леф!»
А туда, где сидит Председатель, взглянуть…
Но, свалившись на стол с лепестка,
Жук пускается в долгий по скатерти путь…
Кто-то встал, кто-то голову клонит на грудь,
Кто-то бедного ловит жука.
И так хочется мне посмотреть хоть разок
На того, кто… Но тень всякий раз
Заслоняет его или чей-то висок,
И последняя ласточка наискосок
Пронеслась, чуть не врезавшись в нас…
Последний поэт
Оно шумит перед скалой Левкада…
Е. Баратынский
Что ни поэт – то последний. Потом
Вдруг выясняется, что предпоследний,
Что поднимается на волнолом
Вал, как бы прятавшийся за соседний,
С выгнутым гребнем и пенным хвостом.
Стой! Не бросайся с Левкадской скалы.
Взгляд задержи на какой-нибудь вещи:
Стулья есть гнутые, книги, столы,
Буря дохнет – и листочек трепещет,
Нашей ища на ветру похвалы.
Больше в присыпанной снегом стране
Нечего делать певцу с инструментом
Струнным. Сбылось, что приснилось во сне
Сумрачном: будем с партнером, с агентом
Курс обсуждать, говорить о зерне.
Я не гожусь для железных забот.
Он не годится. Мы все не подходим.
То-то ни с места наш парусный флот
В век, обнаруживший смысл в пароходе:
Крым за полдня, закипев, обогнет.
На конференции по мировой
Лирике, к Темзе припавшей и Тибру,
Я, вспоминая огни над Невой
Парные, сопротивлялся верлибру.
О, со скалы не бросайся, постой!
Кроме живой, что змеится, клубясь,
В бедном отечестве, стыд многолетний,
Есть еще очередь – прочная связь:
«Я», – говорю на вопрос: кто последний?
Друг, не печалься, за мной становясь.
«Тысячелистник» (1998)
«Я посетил приют холодный твой вблизи…»
Я посетил тебя, пленительная сень…
Е. Баратынский
Я посетил приют холодный твой вблизи
Могил товарищей твоих по русской музе,
Вне дат каких-либо, так просто, не в связи
Ни с чем, – задумчивый, ты не питал иллюзий
И не одобрил бы меня,
Сказать спешащего, что камень твой надгробный
Мне мнится мыслящим в холодном блеске дня,
Многоступенчатый, как ямб твой разностопный.
Да, грузный, сумрачный, пирамидальный, да!
Из блоков финского гранита.
И что начертано на нем, не без труда
Прочел, – стихи твои, в них борется обида
И принуждение, они не для резца,
И здешней мерою их горечь не измерить:
«В смиренье сердца надо верить
И терпеливо ждать конца».
Пусть простодушие их первый смысл возьмет
Себе на память, мне-то внятен
Душемутительный и двухголосый тот
Спор, двуединый, он, так скажем, деликатен,
И сам я столько раз ловил себя, томясь,
На раздвоении и верил, что Незримый
Представит доводы нам, грешным, устыдясь
Освенцима и Хиросимы.
Лети, листок
Понурый, тлением покрытый, пятипалый.
На скорбный памятник, сперва задев висок
Мой, – мысль тяжелая – и бедный жест усталый,
Жгут листья, вьющийся обходит белый дым
Тупые холмики, как бы за грядкой грядку.
И разве мы не говорим
С умершим, разве он не поправляет прядку?
И, примирение к себе примерив, я
Твержу, что твердости достанет мне и силы
Не в незакатные края,
А в мысль бессмертную вблизи твоей могилы
Поверить, – вот она, живет, растворена
В ручье кладбищенском, и дышит в каждой строчке,
И в толще дерева, и в сердце валуна,
И там, меж звездами, вне всякой оболочки.
«Смерть и есть привилегия, если хотите знать…»
Смерть и есть привилегия, если хотите знать.
Ею пользуется только дышащий и живущий.
Лучше камнем быть, камнем… быть камнем нельзя,
лишь стать
Можно камнем: он твердый, себя не осознающий,
Как в саду этот Мечников в каменном сюртуке,
Простоквашей спасавшийся, – не помогла, как видно.
Нам оказана честь: мы умрем. О времен реке
Твердо сказано в старых стихах и чуть-чуть обидно.
Вот и вся метафизика. Словно речной песок,
Полустертые царства, поэты, цари, народы,
Лиры, скипетры… Камешек, меченый мой стишок!
У тебя нету шансов… Кусочек сухой породы,
Твердой (то-то чуждался последних вопросов я,
обходил стороной) растворится в веках, пожрется.
Не питая надежд, не унизившись до вранья…
Привилегия, да, и, как всякая льгота, жжется.
Сахарница
Памяти Л. Я. Гинзбург
Как вещь живет без вас, скучает ли? Нисколько!
Среди иных людей, во времени ином,
Я видел, что она, как пушкинская Ольга,
Умершим не верна, родной забыла дом.
Иначе было б жаль ее невыносимо.
На ножках четырех подогнутых, с брюшком
Серебряным, – но нет, она и здесь ценима,
Не хочет ничего, не помнит ни о ком.
И украшает стол, и если разговоры
Не те, что были там, – попроще, победней, –
Все так же вензеля сверкают и узоры,
И как бы ангелок припаян сбоку к ней.
Я все-таки ее взял в руки на мгновенье,
Тяжелую, как сон. Вернул, и взгляд отвел.
А что бы я хотел? Чтоб выдала волненье?
Заплакала? Песок просыпала на стол?
Венеция
Знаешь, лучшая в мире дорога –
Это, может быть, скользкая та,
Что к чертогу ведет от чертога,
Под которыми плещет вода
И торчат деревянные сваи,
И на привязи, черные, в ряд
Катафалкоподобные стаи
Так нарядно и праздно стоят.
Мы по ней, златокудрой, проплыли
Мимо скалоподобных руин,
В мавританском построенных стиле,
Но с подсказкою Альп, Апеннин,
И казалось, что эти ступени,
Бархатистый зеленый подбой
Наш мурановский сумрачный гений
Афродитой назвал гробовой.
Разрушайся! Тони! Увяданье –
Это правда. В веках холодей!
Этот путь тем и дорог, что зданья
Повторяют страданья людей,
А иначе бы разве пылали
Ипомеи с геранями так
В каждой нише, и каждом портале,
На балконах, приветствуя мрак?
И последнее. (Я сокращаю
восхищенье.) Проплывшим вдвоем
Этот путь, как прошедшим по краю
Жизни, жизнь предстает не огнем,
Залетевшим во тьму, но водою,
Ослепленной огнями, обид
Нет, – волненьем, счастливой бедою.
Все течет. И при этом горит.
«Я смотрел на поэта и думал: счастье…»
Памяти И. Бродского
Я смотрел на поэта и думал: счастье,
Что он пишет стихи, а не правит Римом,
Потому что и то и другое властью
Называется, и под его нажимом
Мы б и года не прожили – всех бы в строфы
Заключил он железные, с анжамбманом
Жизни в сторону славы и катастрофы,
И, тиранам грозя, он и был тираном,
А уж мне б головы не сносить подавно
За лирический дар и любовь к предметам,
Безразличным успехам его державным
И согретым решительно-мягким светом.
А в стихах его власть, с ястребиным криком
И презреньем к двуногим, ревнуя к звездам,
Забиралась мне в сердце счастливым мигом,
Недоступным Калигулам или Грозным,
Ослепляла меня, поднимая выше
Облаков, до которых и сам охотник,
Я просил его все-таки: тише! тише!
Мою комнату, кресло и подлокотник
Отдавай, – и любил меня, и тиранил:
Мне-то нравятся ласточки с голубою
Тканью в ножницах, быстро стригущих дальний
Край небес. Целовал меня: Бог с тобою!
«Как нравился Хемингуэй…»
Как нравился Хемингуэй
На фоне ленинских идей, –
Другая жизнь и берег дальний…
И спились несколько друзей
Из подражанья, что похвальней,
Чем спиться просто, без затей.
Высокорослые (кто мал,
Тот, видимо, не подражал
Хемингуэю, – только Кафке),
С утра – в любой полуподвал
По полстакана – для затравки –
И день дымился и сверкал!
Зато в их прозе дорогой
Был юмор; кто-нибудь другой
Напишет лучше, но скучнее.
Не соблазниться нам тоской!
О, праздник, что всегда с тобой,
Хемингуэя – Холидея…
Зато когда на свете том
Сойдетесь как-нибудь потом,
Когда все, все умрем, умрете,
Да не останусь за бортом, –
Меня, непьющего, возьмете
В свой круг, в свой рай, в свой гастроном.
«Всё нам Байрон, Гете, мы, как дети…»
Всё нам Байрон, Гете, мы, как дети,
Знать хотим, что думал Теккерей.
Плачет Бог, читая на том свете
Жизнь незамечательных людей.
У него в небесном кабинете
Пахнет мятой с сиверских полей.
Он встает, подавлен и взволнован,
Отложив очки, из-за стола.
Лесосклад он видит, груду бревен
И осколки битого стекла.
К дяде Пете взгляд его прикован
Средь добра вселенского и зла.
Он читает в сердце дяди Пети,
С удивленьем смотрит на него.
Стружки с пылью поднимает ветер.
Шепчет дядя: этого… того…
Сколько бед на горьком этот свете!
Загляденье, радость, волшебство!
«Когда страна из наших рук…»
М. Петрову
Когда страна из наших рук
Большая выскользнула вдруг
И разлетелась на куски,
Рыдал державинский басок
И проходил наискосок
Шрам через пушкинский висок
И вниз, вдоль тютчевской щеки.
Я понял, что произошло:
За весь обман ее и зло,
За слезы, капавшие в суп,
За всё, что мучило и жгло…
Но был же заячий тулуп,
Тулупчик, тайное тепло!
Но то была моя страна,
То был мой дом, то был мой сон,
Возлюбленная тишина,
Глагол времен, металла звон,
Святая ночь и небосклон,
И ты, в Элизиум вагон
Летящий в злые времена,
И в огороде бузина,
И дядька в Киеве, и он!