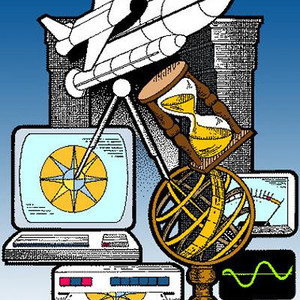ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ
УДК 821.161.1.0+821.133.1.0 DOI: 10/31249/litzhur/2021.51.04
К.В. Душенко*
«СЛУЧАЙ, МГНОВЕННОЕ ОРУДИЕ ПРОВИДЕНИЯ»: КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОН ПУШКИНСКОГО АФОРИЗМА
Аннотация. Сближение случая и Провидения было обычным в литературе XVIII — первых десятилетий XIX вв., однако у Пушкина эта проблема ставится в историософском контексте. Пушкинский афоризм «Случай — мощное, мгновенное орудие Провидения» имел ряд параллелей во французской литературе, в том числе в работах консервативных публицистов 1800-1820-х годов. Мнение, что Пушкин полемизирует здесь с французскими историками эпохи Реставрации, недостаточно обоснованно. Выражение «формула истории», играющее важную роль в заметках Пушкина, принадлежит философу-традиционалисту П.С. Балланшу, но понятие «провиденциального случая», введенное Балланшем, Пушкину, по-видимому, не было известно. В статье рассматриваются также наиболее известные афоризмы из близкого смыслового ряда: «Случай — ходячее прозвище Провидения» (Н. Шамфор), «Случай — псевдоним Бога» (Т. Готье) и т.д.
Ключевые слова: историософия; афоризмы; А. С. Пушкин; Боэций; Джованни Паоло Марана; Н. Шамфор; Т. Готье; Т. де Квинси; Ж. де Местр; П.С. Балланш.
Получено: 05.02.2021 Принято к печати: 06.03.2021
* Душенко Константин Васильевич — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН, Нахимовский проспект, д. 51/21, 117997, Москва, Россия. E-mail: kdushenko@nln.ru
Konstantin V. Dushenko — PhD in History, Senior Researcher, Institute of Scientific Information for Social Sciences of the Russian Academy of Sciences, Nakhimovsky Prospekt 51/21, 117997, Moscow, Russia. E-mail: kdushenko@nln.ru
Для цитирования: Душенко К.В. «Случай, мгновенное орудие Провидения»: культурно-исторический фон пушкинского афоризма // Литературоведческий журнал. 2021. №1(51). С. 38-54. DOI: 10/31249/litzhur/ 2021.51.04
Konstantin V. Dushenko «Chance, an instant instrument of Providence»: about the cultural and historical background and parallels of Pushkin’s aphorism
Abstract. The convergence of chance and Providence was common in the literature of the eighteenth and first decades of the nineteenth centuries, however, Pushkin poses this problem in a historiosophical context. Pushkin’s aphorism «Chance, the mighty, instant instrument of Providence» had a number of parallels in French literature, including the works of conservative publicists of the 1800-1820 s. The opinion that Pushkin is polemicizing here with French historians of the Restoration era is not sufficiently substantiated. The expression «formula of history», which plays an important role in Pushkin’s notes, belongs to french traditionalist P.S. Ballanche, but the concept of «providential hasard», introduced by Ballanche, to Pushkin, apparently, was not known. The article also considers the most famous aphorisms from the close semantic series: «Chance is a nickname for Providence» (N. Chamfort), «Chance is the pseudonym of God» (T. Gautier) etc.
Keywords: historiosophy; aphorisms; A.S. Pushkin; Boethius; Giovanni Paolo Marana; N. Chamfort; T. Gautier; T. de Quincey; J. de Maistre; P.-S. Ballanche.
Received: 05.02.2021 Accepted: 06.03.2021
For citation: Dushenko K. V. «Chance, an instant instrument of Providence»: about the cultural and historical background and parallels of Pushkin’s aphorism. Literaturovedcheskii zhurnal, no.1(51), 2021, pp. 38-54. (In Russ.) DOI: 10/31249/litzhur/2021.51.04
Случай и Провидение
В наброске рецензии на второй том «Истории русского народа» Н. Полевого (1830) Пушкин писал: «Не говорите: иначе нельзя было быть. Коли было бы это правда, то историк был бы астроном и события жизни человечества были бы предсказаны в календарях, как и затмения солнечные. Но Провидение не алгебра.
Ум человеческий, по простонародному выражению, не пророк, а угадчик, он видит общий ход вещей и может выводить из оного глубокие предположения, часто оправданные временем, но невозможно ему предвидеть случая — мощного, мгновенного орудия Провидения» [13, с. 1271].
Может показаться, что (цитируем современного автора) «Пушкин парадоксально объединяет случай и предопределение» [8, с. 33]. Однако тут мы имеем дело с аберрацией восприятия текста, отдаленного от нас во времени. Само по себе сближение двух этих понятий было тогда общим местом.
Во французской литературе XVIII-XIX вв. вполне обычны формулы «случай, или Провидение», «случай, или, скорее, Провидение». Нередко они используются как языковые клише, вне какого-либо философского контекста, напр.: «… Случай, или, лучше сказать, провидение хотело, чтобы она была в очень плохих отношениях с герцогиней Бургундской» (Луи де Сен-Симон, «Мемуары», 1694-1723) [43, p.243].
Проблема соотношения случая и провидения (пока еще не с прописной буквы!) была поставлена стоиками. Важное место она занимает у Боэция. Согласно Боэцию, «. божественный порядок все так располагает, что даже представляющееся отклонившимся от этого порядка, хотя и кажется чем-то иным, но все же остается порядком, чтобы не было места случайности в царстве провидения»; «.Кто осмелится утверждать, что в этом упорядоченном мире остается место для случайности, если Бог все располагает?» («Утешение философией» (ок. 524 г.), IV, 6; V, 1).
В христианской философии это воззрение стало аксиомой. Антуан Равель в трактате «О Провидении Божием» (1650), гл. 12, писал: «Если случай, говоря языком Боэция, всего лишь слово, лишенное смысла, тогда то, что мы называем случаем, будучи обманчивым по отношению к нам, тем не менее строго следует Законам Провидения» [41, p. 182].
Лафонтен идет в русле той же традиции: «.то, что у древних Случай, / А у нас Провидение» («.que le Hasard parmi l’antiquité, / Et parmi nous la Providence») («Астролог, упавший в колодец»; «Басни» II, 13, 1668) [33, p. 84].
1 В академическом собрании «провидение» напечатано со строчной, хотя в рукописи — с прописной [см.: 1, с. 219].
Редкий пример использования оборота «орудие Провидения» в связи с темой «случайность и Провидение» встречается в письме Хораса Уолпола (1717-1797), английского писателя и политика: «… Я держусь того странного мнения, что то, что именуют случайностью (chance), есть орудие Провидения (the instrument of Providence) и тайный агент, который противодействует тому, что люди называют мудростью, и поддерживает порядок, непрерывность и преемственность целого <…>» (письмо к графине Анне Оссори от 19 января 1777 г., опубл. в 1848 г.) [47, p. 262].
«Странное мнение» Уолпола не слишком разнилось от традиционных представлений о совершенстве мироздания: «.Несмотря на все наши жалобы, — продолжает он, — почти каждый человек на земле в целом испытывает больше счастья, чем страданий; а потому, если бы мы могли исправить мир по мерке наших фантазий и с самыми лучшими намерениями, какие только можно вообразить, мы, вероятно, только произвели бы на свет еще больше страданий и беспорядка» [47, p.262-263].
В пушкинском наброске тема «случай и Провидение» выступает не в «житейском» и не в общефилософском контексте, но как проблема историософии. Понятие случая здесь конкретизируется: «.Никто не предсказал ни Нап.<олеона>, ни Полиньяка» [13, с. 127]. (Герцог де Полиньяк, ультрароялист, был инициатором ордонансов 25 июля 1830 г., ставших непосредственной причиной Июльской революции.)
Наименование Наполеона «орудием Провидения» было обычным в эпоху Империи, как в эмигрантской среде, так и в самой Франции. Крайний консерватор Жозеф де Местр называл Наполеона «великим и страшным орудием в руках Провидения, которое использует его, чтобы ниспровергнуть то или иное» (дипломатическое донесение из Петербурга от 7/19 января 1809 г.) [36, p. 155].
Пушкинские определения «мощное, мгновенное» по отношению к «орудию провидения» имеют близкие параллели в одном из центральных сочинений де Местра — «Рассуждения о Франции» (1797). Неожиданность, необычайная скорость и всесокрушающая сила происходящего всячески здесь подчеркиваются: «. Первым условием объявленной революции является то, что не существует ничего, способного ее предупредить <…>. Самое поразительное во
французской Революции — увлекающая за собой ее мощь (cette force entraînante), которая устраняет все препятствия» (гл. 1); «Если Провидение повелело быстрее образовать политическую конституцию, то появляется человек, наделенный непостижимой мощью (une puissance indéfinissable)» (гл. 6) [9, с. 14, 84; 35, p. 5, 96].
Политические и религиозные взгляды автора «Рассуждений.» были чужды Пушкину, но де Местр интересовал его как оригинальный мыслитель. В библиотеке Пушкина имелось 2-е издание (1831) книги де Местра «Санкт-Петербургские вечера, или Беседы о мирском правлении Провидения»; по предположению Н.В. Измайлова, Пушкин познакомился с «Вечерами» вскоре по выходе 1-го издания (1821) [6, с. 126]. Учитывая огромный интерес поэта к Французской революции и широкую известность «Рассуждений о Франции», можно предположить, что и это сочинение было знакомо Пушкину.
Пушкин и французские историки-романтики
В научной литературе указывалось на близость пушкинской формулы «Случай — орудие Провидения» к концепции «провиденциального случая» («le hasard providentiel») Пьера Симона Бал-ланша (1776-1847).
Эта концепция изложена в приложении ко 2-му изданию первого тома историософского сочинения Балланша «Опыты социальной палингенезии», озаглавленному «Размышления о различных предметах» (1830). Автор рассматривает вопрос о «согласии Божественного Провидения, правящего посредством вечного закона, с человеческой свободой» [23, p. 382]. С одной стороны, «человеческая свобода всегда ограничена неким общим законом». С другой стороны, существует «явление, которое не имеет названия и которое я бы дерзнул назвать провиденциальным случаем, -т.е. такое, которое, ввиду ограниченности нашего разума, выглядит как случайность, но подчиняется законам некой особой статики, подобно колебанию маятника и равновесия жидкостей. <… > То, что случайно, что невозможно предвидеть <…>, [тем не менее] должно приниматься в расчет». «. Непредвиденное обстоятельство (contingence), единственное реализованное среди миллионов возможных непредвиденных обстоятельств, в свою очередь, изменит
ближайшие или отдаленные непредвиденные обстоятельства, каждое из которых окажет различное влияние на другие миллионы непредвиденных обстоятельств». Так выглядит дело с точки зрения человека, но не для «божественного предвидения» [23, p. 382-383].
Фактор «встроенной» в план Провидения случайности как раз и гарантирует свободу воли, а следовательно, и совести, без чего человек не был бы нравственным существом.
А. Долинин, по-видимому, предполагает знакомство Пушкина с этой концепцией [27, p. 297]. С. А. Кибальник утверждает более определенно: в своей рецензии Пушкин «очевидным образом сосредоточен на «провиденциальном случае» (термин Баланша2)» [7, с. 71].
Пушкинские наброски писались в октябре-ноябре того же 1830 г., в котором были опубликованы «Разышления…» Балланша. Вероятность знакомства с ними Пушкина до написания рецензии крайне невелика: собрание сочинений Балланша было труднодоступно в России, к тому же метафизические системы подобного рода мало занимали русского поэта. Заметим также, что «провиденциальный случай» появляется у Балланша не в связи с проблемой законов истории, но в связи с проблемой морали, т. е. на микро-, а не макроуровне.
Эта концепция, сколько можно судить, не получила заметного отклика у современников, и философский термин «hasard providentiel» не вошел в обиход. Между тем в обыденном языке это выражение существовало уже в 1810-е годы. Так говорили о неожиданности, обычно приятной; «par un hasard providentiel» означало «по счастливой случайности». В вариантах к третьему тому «Войны и мира» читаем: «Je vois un hasard providentiel de vous avoir rencontre» [18, с. 433]; возможный перевод: «В нашей встрече я вижу случай, ниспосланный провидением».
При всей стертости выражения его парадоксальная внутренняя форма давала повод для иронических замечаний:
«Разве случайность и Провидение не две взаимоисключающие антитезы? Ведь если вас спасает случайность, то это не Провидение; а если Провидение снизошло до присмотра за вашей
2 Имя Ballanche передается в русской научной литературе двояко: Баланш и Балланш.
судьбой, случай тут совершенно не при чем. Все ли, кроме репортеров, с этим согласны?» [44];
«Француз выпал из кареты, не сломав себе кости; он встает и, отряхиваясь, восклицает: «Это поистине провиденциальный случай, что я не лишился жизни». Ясно, что, если спасение было провиденциальным, оно не могло быть случайным; но, несмотря на очевидную антиномичность этого выражения, в выборе эпитета выказывается благочестие» [32, р. 227].
Единственное значимое упоминание Пушкина о Балланше содержится в его речи «Мнение Лобанова о духе словесности» (1836): «Народ, который произвел Фенелона, Расина, Боссюэта, Паскаля и Монтескьё, — который и ныне гордится Шатобрианом и Балланшем; <…> который Нибуру и Галламу противопоставил Ба-ранта, обоих Тьерри и Гизо <…>» [12, с. 69]. Балланш здесь объединен с Шатобрианом, в отличие от историков по-преимуществу. Упоминание о Балланше, по предположению В.А. Мильчиной, восходит к рассказам А.И. Тургенева, который был дружен с Балланшем [3, с. 149].
Нередко в пушкинском наброске усматривают полемику с историками эпохи Реставрации. «Пушкинский исторический провиденциализм» противопоставляется «фатализму новой школы французских историков»: «Пушкин хочет видеть историю гибким взглядом и спорит с логическим детерминизмом Гизо» [17, с. 62].
Многие историки «новой школы» действительно были склонны рассматривать все значимые события как исторически неизбежные. Тем не менее представление о «фатализме новой школы», по-видимому, преувеличено. Жесткий детерминизм характерен скорее для просветительского мировоззрения, согласно которому «мир устроен в соответствии с математическими законами» [2, с. 686]. При этом в своих исторических работах просветители как раз были склонны преувеличивать значение случая.
В последние десятилетия XVIII в. во Франции получил хождение оборот «великие следствия малых (мелких) причин». Последователь Вольтера Ж.Ф. Лагарп говорил о «своего рода удовольствии, которое мы находим в сведении великих следствий к мелким причинам. Мы, например, сто раз повторяли, что чашка с водой, пролитая герцогиней Мальборо на платье госпожи Мэшем, оказалась спасением Франции, потому что она привела к ссоре между
фавориткой и королевой Анной, закончившейся отставкой герцогини Мальборо <…>. Хорошо, что история замечает такие мелочи, естественным образом связанные с более крупными событиями, и если сохранять осторожность, в этой связи нет ничего необычного» [34, р. 74].
Однако в то же самое время Луи де Бональд, предшественник французских традиционалистов, осуждал Монтескье-историка за то, что тот «всегда объясняет великие следствия малыми причинами» («Теория политической и религиозной власти в гражданском обществе», кн. V, гл. 5) [25, р. 384].
Эту критику продолжили историки эпохи Реставрации. Анонимный рецензент перевода трактата Гердера о философии истории писал: «.Кажется, что случай управляет событиями; человек склонен видеть причину этого в самых случайных прихотях или происшествиях и, подобно Вольтеру, пытается объяснить великие следствия малыми причинами» [32 а]. Год спустя Балланш по поводу «Опыта о нравах» Вольтера замечает: «Эта излюбленная система характеризуется распространенной поговоркой: великие следствия малых причин» [цит. по: 16, с. 518].
Воззрения «новой школы» Б.Г. Реизов в своей монографии характеризует так: «»Сила вещей» не предуказывает всей суммы событий и действий; это лишь общее направление развития [в пушкинском наброске — «общий ход вещей». — К. Д.], которое может осуществляться в самых неожиданных формах и комбинациях. Другое отличие [от фатализма] заключается в том, что фатум -сила слепая и неразумная, но провидение, о котором толкуют доктринеры, т.е. попросту законы исторического развития, ведет человечество к разумной и благой цели. Провидение — это и есть разум, мировой и «исторический»» [16, с. 139].
Стремление к установлению исторических закономерностей Пушкин приветствовал. В речи «Мнение Лобанова.» он, имея в виду прежде всего философию и историю, с одобрением говорит о том, что «теория наук освободилась от эмпиризма, возымела вид более общий, оказала более стремления к единству» [12, с. 72].
В наброске о Полевом та же мысль проводится применительно к «новой школе»: «Гизо объяснил одно из событий христианской истории: европейское просвещение. Он обретает его зародыш, описывает постепенное развитие, и отклоняя все отдаленное,
все постороннее, случайное, доводит его до нас сквозь темные, кровавые, мятежные и наконец <?> рассветающие века. Вы поняли великое достоинство фр.<анцузского> историка» [13, с. 127].
Замечание «Провидение не алгебра» адресовано Полевому, который пытается «приноровить систему новейших историков и к России» [13, с. 126]: «Поймите же и то, что Россия никогда ничего не имела общего с остальною Европою; что история ее требует другой мысли, другой формулы, как мысли и формулы, выведенных Гизотом из истории християнского Запада» [13, с. 127]3.
В сочинениях Гизо понятие «формула истории» не встречается. Понятие «общая формула истории» появилось в т. 1 «Опытов социальной палингенезии» Балланша [21, p. 17]. Позднее, в 1829 г., журнал «Revue de Paris» опубликовал эссе Балланша под заглавием «Общая формула истории всех народов, примененная к истории римского народа» [22].
Пушкин (что представляется нам несомненным) заимствовал это понятие из анонимной французской рецензии на т. 1 «Опытов социальной палингенезии» . Ее перевод М. Погодин поместил в своем «Московском вестнике» в 1828 г. с собственными примечаниями. Рецензент так излагает мысли Балланша: «События составляют одну вещественную часть Истории; в событиях же сих сокрываются идеи, которым покорствует ум человеческий, следовательно, и само тело; сим-то доказывается возможность всеобщей формулы Истории всех народов» [10, с. 497-498]. В примечании к этому месту Погодин восклицает: «Каков переворот в исторических мыслях у французов! Думали ли Миллоты5, что их внуки станут толковать об общих формулах Истории?» [10, с. 498; указано в работе: 3, с. 149]. Собственно «формула» в ее самом общем
3 Попутно заметим, что и сам Полевой, принимая идею закономерности исторического процесса («созерцание народов и государств как необходимых явлений каждого периода, каждого века»), далек от того, чтобы сводить Провидение к алгебре: «Историк не есть учитель логики»; «Когда и как окончится история России? Для чего сей исполин воздвигнут рукою промысла в ряду других царств? Вот вопросы, для нас нерешимые!» (предисловие к т. 1 «Истории русского народа») [11, с. 21-22, 26].
4 О «французском рецензенте» сказано в примечаниях Погодина. В том же номере журнала была напечатана «Зимняя дорога» Пушкина.
5 Клод Франсуа Клавье Милло (1726-1785) был автором многотомных исторических сочинений.
виде заключалась, согласно рецензенту, в прохождении через три стадии: века баснословные (мифологические), исторические, «века законов, века дальнейшего усовершенствования рода человеческого» [10, с. 498].
Свою «общую формулу» Балланш не случайно применил прежде всего к римской истории. История Франции, да и всей Европы, была для него продолжением истории Рима: «Римская история <…> вошла в состав нашей общественной жизни, наших нравов, наших мнений, наших законов; в другой своей форме она является, чтобы выстраивать наши новые мысли, те, что должны войти в состав нашей будущей общественной жизни» [22, р. 142].
Такие воззрения были вообще характерны для французских историков. «Рим, этот мир права, должен был занять большое место в формуле истории человечества», — писал Жюль Мишле [38, р. 8]. Эта «формула», однако, оказывалась неприменимой к странам, оставшимся вне влияния римского права и римской церкви, что и подчеркивает Пушкин в своем наброске.
Александр Долинин, анализируя «Историю Пугачева», приходит к выводу о коренном различии исторических взглядов Пушкина и французских историков-романтиков. «Вопреки догматам новых историков, Пушкин изображает социальные потрясения как нагромождение непредвиденных обстоятельств, вторжение хаоса и непредсказуемости в установленный порядок»; «опека Провидения над Россией проявляется лишь в непредсказуемых, случайных происшествиях, в нарушении исторических законов, а не следовании им» [27, р. 298, 307].
Первый из этих выводов, относящийся непосредственно к «русскому бунту» в «Истории Пугачева», доказывается в работе Долинина как нельзя более убедительно. Однако второй вывод кажется нам неоправданным обобщением; в частности, он не согласуется с набросками по поводу «Истории.» Полевого. Пушкин отнюдь не отказывается от поисков «формулы» русской истории на вполне рациональных основаниях — социально-политических и культурно-религиозных. В знаменитом письме к Чаадаеву, в котором речь идет об «особом предназначении» России, новая русская история рассматривается как движение со вполне определенным вектором — как все более тесное вхождение России в круг европей-
ских стран; «будущий историк», по мнению Пушкина, едва ли «поставит нас вне Европы» [14, с. 172, 393].
Немецкая исследовательница Криста Эберт задается вопросом: «Является ли случай для Пушкина символом непредсказуемости истории или же орудием Провидения, <…> и тем самым приобретает все-таки определенную функцию в ходе исторического процесса?» Однозначного ответа тут нет — «вопрос остается открытым» [20, с. 324]. Аргументы в пользу второго толкования можно усматривать в творчестве Пушкина, который выбирает «переломные моменты русской истории <…> (т.е., по Лотману, взрывные моменты, когда открывается целый спектр вероятных возможностей перехода из одного состояния в другое)» [20, с. 324].
Афористические параллели
Если искать во французской литературе переклички с пушкинским афоризмом, то прежде всего приходит на мысль афоризм Никола Шамфора, включенный в его «Максимы и мысли» (опубликовано посмертно в 1795 г.). Указано немало случаев сходства пушкинских высказываний с «Максимами и мыслями», но эта параллель, насколько нам известно, не привлекала внимания.
У Шамфора читаем: «Quelqu’un disait que la Providence était le nom de baptême du Hasard, quelque dévot dira que le Hasard est un sobriquet de la Providence» [26, p. 34]. — «Кто-то заметил, что Провидение — имя, данное Случаю при крещении; человек набожный скажет, что случай — ходячее прозвище Провидения». В переводе Ю. Корнеева и Э. Линецкой подчеркнуто антиклерикальное звучание мысли Шамфора: «Кто-то заметил, что Провидение — христианское имя случая; святоша, пожалуй, сказал бы, что случай -уличная кличка Провидения» [15, с. 376].
«Le nom de baptême» — букв. «крестное (крестильное) имя». У Шамфора подразумевается, что языческий Случай (Фортуна римлян) в христианстве получил имя Провидения. Шамфор отвергает христианский провиденциализм, согласно которому все происходящее в мире есть часть благого Божьего промысла. В его афоризме хронологически — если можно так выразиться — на первом месте должна бы стоять вторая часть, которая «опрокидывается» скептической первой частью: Провидения не существует,
случай не есть часть какого-то высшего замысла. Пушкин, казалось бы, приходит к прямо противоположному выводу; однако не следует забывать, что в его рассуждениях Провидение означает не то же самое, что у Шамфора.
Вторая часть афоризма Шамфора имела вполне конкретный источник: эпистолярный роман генуэзца Джованни Паоло Марана (1642-1693), обычно именуемый «Турецкий шпион». Два первых тома вышли одновременно на итальянском и французском языках в Париже в 1784 г. Итальянское издание называлось «Турецкий шпион и его секретные донесения, посылавшиеся в Оттоманскую Порту, обнаруженные в Париже в царствование Людовика Великого» («L’Esploratore turco e le di lui relazioni segrete…»); французское — «Шпион султана и его секретные донесения константинопольскому дивану.» («L’Espion du Grand-Seigneur.»). В 16871694 гг. в Лондоне вышло уже 8-томное, расширенное издание под заглавием «Письма, написанные турецким шпионом.» («Letters Written by a Turkish Spy.»). За ним последовали 8-томные французские издания под заглавием «Шпион при дворах христианских государей.», а также немецкий перевод [42].
«Турецкий шпион» обладал чертами одновременно философского и авантюрного романа. Он положил начало особому жанру эпистолярных романов о Европе, написанных от лица чужеземца, включая «Персидские письма» Монтескье. Между прочим, именно Марана ввел в оборот сентенцию «Ничто не ново под луной» [см.: 5, с. 195].
Нумерация писем в различных изданиях менялась. Интересующее нас письмо в первых французских изданиях носило № 53, в позднейших — № 101, а в т. 2 английского перевода — № 15. По содержанию это философское эссе о случае и судьбе. Цитирую французский перевод: «Язычники, изображая Фортуну слепой, тем самым показали лишь, что сами ничего не видят. Ошибкой вдвойне было приносить жертвы богине, которая не могла распознать своих почитателей. И все же, я полагаю, еще более достойны осуждения христиане, называющие ее непостоянной, пристрастной, распутной и т.д. Это профанация Провидения и нечестивые сетования на предназначенную нам участь. Удача и случай -всего лишь ходячие прозвища, которые даются судьбе (La fortune et le hasard ne sont que des sobriquets qu’on a donné à la destinée),
ибо в мире, конечно, нет ничего случайного» (курсив наш. — К. Д.) [37, p. 162, Lettre LIII].
В XX в. свою версию предложил испанский писатель Мигель де Унамуно (1864-1936): «.Случай и Провидение — это одно и то же. Случай провиденциален, а провидение — случайно (El azar es providente o la Providencia es azorosa)» (роман «Туман» (1914), «Приложение») [19, с. 203; 46, p. 342]6.
В большинстве сентенций подобного рода, появившихся после афоризма Шамфора, место Провидения занял Бог. Наиболее известен афоризм Теофиля Готье из романа в письмах «Берний-ский крест». Роман принадлежал перу четырех авторов; письмо III, написанное Готье, появилось в парижской «La Presse» 11 июля 1845 г. Здесь говорилось: «Вы напрасно желали бы подчинить себе случай; просто не мешайте ему — он куда лучше Вас знает, что Вам нужно. — Случай — это, возможно, псевдоним Бога, когда он не хочет подписаться собственным именем (quand il ne veut pas signer)» [30, p. 1; 31, p. 28].
Имена авторов книги и ее отдельных частей были указаны лишь в издании 1855 г., но афоризм Готье был замечен сразу. Уже 13 июля Пьер Готье, отец Теофиля, процитировав его афоризм, спрашивал: «Кто, кроме тебя, думает так же?» [29, p. 265].
Наибольшую известность изречение Готье получило в Англии в версии Томаса Де Квинси: «.Как с изысканным красноречием заметил один француз7 <…>, «Случай — всего лишь псевдоним Бога для тех особых оказий, когда он не подписывается открыто своим собственным именем (does not to subscribe openly with his own sign-manual)»» (повесть «Испанская монахиня-воительница», 1847) [40, p. 17]. «Sign-manual» — юридический термин «собственноручное подписание»; в XIX в. обычно имелась в виду подпись правящего монарха.
В английских антологиях цитат второй половины XIX в. изречение Готье в версии Де Квинси было приписано Сэмюэлу Коль-риджу; так же поступила Елена Блаватская: «В Природе не существует «случайности», в каждой ее части все математически точно согласовано и взаимосвязано. «Случай, — говорит Кольридж, — всего
6 Публиковалась и другая версия: «.. .Он верит в случай, т.е. в Провидение, потому что случай и Провидение случайны» [45, р. 181].
7 Де Квинси не знал имени автора.
лишь псевдоним Бога (или Природы) для тех особых оказий, когда он не подписывается открыто своим собственным именем». Замените слово «Бог» словом «Карма», и вы получите восточную аксиому» («Тайная доктрина» (1888), т. 1, гл. 17) [24, p. 653; указано в работе: 39].
В XX в. в ряде англоязычных справочников, включая весьма авторитетные, этот афоризм был приписан Анатолю Франсу, у которого встречается нечто похожее: «В жизни следует помнить о роли случая. В конечном счете случай есть Бог» («Сад Эпикура», 1897) [39; 28, p. 132].
В последние десятилетия XX в. появился еще один вариант: «Случайность — это когда Бог желает сохранить анонимность» («Coincidence is God’s way of remaining anonymous»). Ныне этот афоризм обычно приписывается Эйнштейну — надо полагать, потому, что он говорил «Господь Бог не играет в кости», оспаривая вероятностную интерпретацию квантовой механики [см.: 4, с. 849].
Список литературы
1. Бонди С. Черновики Пушкина: статьи 1930-1970 гг. М.: Просвещение, 1978. 230 с.
2. Вольтер. Философия: [Статья из «Философского словаря»] / пер. С.Я. Шейнман-Топштейн // Вольтер. Философские сочинения. М.: Наука, 1988. С. 682-689.
3. ГиллельсонМ.И., МильчинаВ.А. Комментарии // Современник: Литературный журнал, издаваемый Александром Пушкиным. Приложение к факсимильному изданию. М.: Книга, 1987. С. 41-248.
4. Душенко К.В. Большой словарь цитат и крылатых выражений. М.: Эксмо, 2011. 1216 с.
5. Душенко К.В. Цитаты из русской литературы: 5500 цитат от «Слова о полку…» до Пелевина. М.: Колибри, Азбука-Аттикус, 2018. 671 с.
6. Измайлов Н.В. Литературный фон поэмы «Медный всадник»: вступит. заметка // ПушкинА.С. Медный всадник / изд. подгот. Н.В. Измайлов. Л.: Наука, 1978. С. 125-127.
7. Кибальник С.А. Тема случая в творчестве Пушкина // Пушкин: Исследования и материалы / РАН. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом). СПб.: Наука, 1995. Т. 15. С. 60-75.
8. ЛарионоваЕ. «Всадник, Папою венчанный…»: Пушкин и наполеоновский миф // Пинакотека. М., 2001. № 1/2. С. 31-34.
9. Местр Ж. де. Рассуждения о Франции / пер. с фр. Г. Абрамова и Т. Шмачкова. М.: РОССПЭН, 1997. 215 с.
10. Опыты о палингенезии обществ (Essai de palingénésie sociale). Соч. Балланша. 1828 // Московский вестник. М., 1828. Ч. 7, № 4. С. 496-500. (Подпись: Л.)
11. Полевой Н.А. История русского народа. Собрание сочинений: в 3 т., 6 кн. М.: Вече, 1997. Т. 1, кн. 1-2. 632 с.
12. ПушкинА.С. Мнение М.Е. Лобанова о духе словесности, как иностранной, так и отечественной: (Читано им 18 января 1836 г. в Императорской Российской Академии.) // Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: в 16 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. Т. 12. С. 67-74.
13. Пушкин А.С. <О втором томе «Истории русского народа» Полевого> // Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: в 16 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. Т. 11. С. 125-127.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
14. Пушкин А.С. Письмо к П.Я. Чаадаеву. 19 октября 1836 г. // Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: в 16 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. Т. 16. С. 171-173, 392-394.
15. Размышления и афоризмы французских моралистов XVI-XVIII веков. СПб.: Terra fantastica; Корвус; РоссКо, 1995. 544 с.
16. РеизовБ.Г. Французская романтическая историография (1815-1830). Л.: Изд-во Ленингр. ун-та. 533 с.
17. Сурат И.З., Бочаров С. Пушкин: краткий очерк жизни и творчества. М.: Языки славянской культуры, 2002. 236 с.
18. Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: в 90 т. М.: Худож. лит., 1953. Т. 14. 447 с.
19. УнамуноМ. де. Туман / пер. А. Грибанова // Унамуно М. де. Туман; Авель Санчес; Валье-Инклан Р. дель. Тиран Бандерас; Бароха П. Салакаин Отважный; Вечера в Буэн-Ретиро. М.: Худож. лит., 1973. С. 37-206.
20. Эберт К. Случай и случайность в исторической прозе и историографии А.С. Пушкина // Случайность и непредсказуемость в истории культуры: Материалы Вторых Лотмановских дней в Таллинск. ун-те (4-6 июня 2010 г.). Таллин, Изд-во ТЛУ, 2013. С. 316-332.
21. Ballanche P.-S. Essais de palingénésie sociale. Paris: Didot, 1827. T. 1: Prolégomènes. 406 p.
22. Ballanche P.-S. Formule générale de l’histoire de tous les peuples, appliquée à l’histoire du peuple romain // Revue de Paris. Paris, 1829. T. 2. P. 138-155.
23. Ballanche P.-S. Réflexions diverses // Ballanche P.-S. Oeuvres. Paris; Genève: J. Barbeza, 1830. T. 3. P. 345-414.
24. Blavatsky H.P. The Secret Doctrine: The Synthesis of Science, Religion and Philosophy. London: Theosophical Publishing Company, 1888. Vol. 1: Cosmogenesis. 676 p.
25. [Bonald L.-G.-A. de]. Théorie du pouvoir politique et religieux dans la societé civile / Par M. de B***. [Constance: Éditeur inconnu], 1796. T. 1. 574 p.
26. ChamfortN. Oeuvres / Recueillies et publiees par un de ses amis. Paris: Directeur de l’Imprimerie des Sciences et Arts, 1795. T. 4. 344 p.
27. Dolinin A. Historicism or Providentialism? Pushkin’s History of Pugachev in the Context of French Romantic Historiography // Slavic Review. Cambridge, 1999. Vol. 58, № 2. P. 291-308.
28. France A. Le jardin d’Épicure. Paris: Calmann-Lévy, 1893. 238 p.
29. Gautier T. Correspondance générale. Genève; Paris: Droz, 1986. T. 2: 1843-1845. 392 p.
30. [Gautier T.] La Croix de Berny: Lettre III // La Presse. Paris, 1845. 11 juillet. P. 1-2.
31. Girardin D. de, Gautier T., Sandeau J., Méry J. La croix de Berny: Roman SteepleChase. Paris: Librairie Nouvelle, 1855. 320 p. (1-е изд.: 1845.)
32. Hamerton P.G. How we are really becoming less religious // Hamerton P.G. Human Intercourse. Boston: Little, Brown, and Co, 1898. P. 215-231.
32 a. Idées sur la philosophie de l’histoire de l’humanité, Par Herder, Ouvrage traduit de l’allemand par Edgar Quinet // Le pandore: journal des spectacles, des lettres, des arts… Paris, 1828. N 1787, 12 Avril. P. 2.
33. La Fontaine J. de. Fables choisies mises en vers. Paris: Association pour la diffusion de la pensée française, 1946. 463 p.
34. La Harpe J.-F. de. Réfutation du livre De l’esprit: prononcée au Lycée Républicain, dans les Séances des a6 et 29 Mars et des 3 et g Avril. Liege: J.A. Latour, 1797. 168 p.
35. Maistre J.-M. de. Considérations sur la France / Seconde édition revue par l’Auteur. — Londres [i.e. Basel: Unknown publisher], 1797. 256 p.
36. Maistre J.-M. de. Lettres et opuscules inédits. Paris: A. Vaton, 1851. T. 1. 590 p.
37. Marana G.P. L’Espion dans les cours des princes chrétiens, ou lettres et memoires d’un envoyé secret de la Porte dans les cours de l’Europe. Cologne: E. Kinkius, 1700. T. 2. 382 p.
38. Michelet J. Histoire romaine: République. Première partie. Paris: Hachette, 1833. T. 1. 411 p.
39. O’Toole G. Chance, Coincidence, Miracles, Pseudonyms, and God // Quote Investigator: Exploring the Origins of Quotations [Авторский сайт]. URL: https:// quoteinvestigator.com/2015/04/20/coincidence/#return-note-11023-24 (дата обращения: 07.06.2019).
40. Quincey T. de. The Spanish Military Nun // Quincey T. de. Selections Grave and Gay: From Writings Published and Unpublished. Edinburgh: J. Hogg; London: R. Groombridge, 1854. Vol. 3. P. 1-98. (Журн. публ. под загл. «Catalina de Erauso, the Nautico-Military Nun of Spain»: «Tait’s Edinburgh Magazine», 1847.)
41. Ravel A. De la providence de Dieu. Tolose: J. Boude, 1650. 510 p.
42. Rotta S. Gian Paolo Marana // La letteratura ligure: La Repubblica aristocratica (1528-1797). Genova: Costa & Nolan, 1992. Vol. 2. P. 153-187.
43. Saint-Simon L. de. Mémoires complets et authentiques du duc de Saint-Simon sur le siècle de Louis XIV et la régence. Paris: A. Sautelet, 1829. T. 8. 441 p.
44. Un hasard providentiel // L’intermédiaire des chercheurs et curieux. Paris, 1867. № 74, 25 janvier. Col. 36. Подпись: A.D.
45. UnamunoM. de. Mi vida y otros recuerdos personales: 1889-1916. Buenos Aires: Editorial Losada, 1959. T. 1: 1889-1916. 203 p.
46. Unamuno M. de. Obras completas. Madrid: A. Aguado, 1958. T. 8: Autobiografia y recuerdos personales. 1270 p.
47. Walpole H. Letters Addressed to the Countess of Ossory from the Year 1769 to 1797. London: Richard Bentley, 1848. Vol. 1. 473 p.
“— Случай! — сказал один из гостей.
— Сказка! — заметил Германн”.
Если рассказ Томского – это завязка интриги «Пиковой Дамы», то эти две реакции на него как две оценки анекдота — это завязка её философской интриги. Обо всём, что случится дальше, кончая чудесным выигрышем и непостижимой ошибкой героя, можно сказать — “случай” или “сказка”. Но в устах говорящих эти слова означают не то, что они означают в пушкинском тексте. Случай – это просто случай, слепой хаотический случай, сказка – это выдумка, небылица. Реплики отрицают друг друга и отрицают чудо. У Пушкина случай не слеп и сказка не выдумка. У Пушкина обе силы действуют в тайном единстве и подтверждают чудо. Чудо как тайнодействие, решающее судьбу героев как они сами её для себя неведомо выбрали, — как Германн неведомо для себя выбрал пиковую даму вместо туза — “обдёрнулся”.
У Пушкина как в поэтических, так и в теоретических текстах развита целая философия случая как остроумной жизненной силы. “Случай — бог изобретатель” — бог наподобие малых античных божеств. Но случай связан у Пушкина не только с античным Роком, но и с христианским Провидением. Случай — “мощное, мгновенное орудие Провидения”. Это определение отчеканено как один из пунктов пушкинской философии истории. “Маленькую философию истории” (по выражению Вольфа Шмида, немецкого исследователя «Пиковой Дамы») находят и в светской повести Пушкина. И не такую уж маленькую: дважды имя Наполеона в тексте — это недаром. Провидение — категория исторической мысли Пушкина; Провидение действует у него в истории, как и в частной жизни обыкновенных людей; в ней, по Пушкину, те же законы, что и в большой истории; и они же, кстати, действуют в творческой работе поэта, в воображении художника. Рок, судьба и Провидение для Пушкина — не одно и то же, как и случай на службе рока (А.Синявский) и случай как мгновенное орудие Провидения: он уже не такой слепой — не только остроумная, но умная сила.
Есть статья Ю.М. Лотмана, в которой он тему карточной игры в «Пиковой Даме» связал с философией истории Пушкина. Лотман цитирует из «Маскарада» Лермонтова: “Что ни толкуй Вольтер или Декарт — // Мир для меня — колода карт. // Жизнь — банк; рок мечет, я играю, // И правила игры я к людям применяю”. Вольтер или Декарт — это рациональное объяснение мира. Оно уже не работает для объяснения новой картины истории, начиная с французской революции; Пушкин в ряде стихотворений описывал европейский процесс как большую “таинственную игру”: “Игралища таинственной игры, // Металися смущённые народы…” А Наполеона — фантастическим игроком на этом поле. С Наполеоном встаёт вопрос о возможностях, прежде неслыханных, воли одного человека по своему произволу подчинять себе жизнь и историю — но также и о пределах, какие ставят этой железной воле жизнь и история.
Молодые люди, сказано в повести, предпочитали “соблазны фараона обольщениям волокитства”. Есть слово Белинского, сказанное примерно тогда же (несколько позже), о том, что бывают идеи времени и формы времени. Фараон в литературе тех лет предстаёт как игра времени. Модель жизни как авантюрного предприятия, в котором я играю с неизвестностью и в максимальной мере во власти случая. “Рок мечет, я играю”. Играю с Роком, но играю, то есть ставлю на самого себя как на личность против безличного механизма игры. Заявляю Року своё “презренье”, по стихотворной формуле Пушкина, родившейся в рискованной ситуации, когда “Рок завистливый” угрожал ему бедою во время следствия по делу о «Гавриилиаде»:
Сохраню ль к судьбе презренье,
Понесу ль навстречу ей
Нужна помощь в написании сочинение?

Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.
Заказать сочинение
Непреклонность и терпенье
Гордой юности моей?
Мои человеческие силы навстречу силе судьбы. В ситуации фараона их возможности предельно ограничены, но концентрация человеческой силы в этом предельном её испытании тем повышается. Всё же известная тактика, означаемая всеми этими специальными терминами, так для нас звучащими экзотически, — всё же известная тактика в руках игрока.
“Непреклонность и терпенье” — это личная ставка и Германна. “Непреклонность его желаний” — сказано тем же словом о нём, что и Пушкиным о себе. Германн тоже фантастический игрок, как Наполеон на поле большой истории. Но Германн — шулер: он имитирует риск и борьбу с Роком, а на самом деле играет наверняка. В то время как в фараоне понтёр действует в условиях максимального дефицита информации, Германн имеет всю полноту информации. В конечном счёте парадоксальным образом это именно и приводит его к катастрофе. Отчего-то в прошедшем веке графиня с помощью Сен-Жермена и Чаплицкий с помощью графини могли успешно играть наверняка, а новому герою нового века, новому Сен-Жермену (потому что, как не раз уже было замечено, Сен-Жермен и Германн — тёзки, у них одно имя; “Сен-Жермен” — это “святой Герман”) — почему-то заказано. Почему — на это ответ вся повесть.
Впрочем, что значит — Германн играет наверняка? Откуда нам это известно? Из целиком и насквозь “миражной интриги” повести (такое определение, отнесённое Ю.В. Манном к «Ревизору» Гоголя, совершенно ложится на «Пиковую Даму» за два года до «Ревизора»). “ — Случай! — Сказка!” — в этом по-пушкински молниеносном обмене репликами — как ударами шпаги — Германн отверг случай и решил его исключить, и хотя в этой реплике “сказка” им отвергнута тоже, двойственная натура его — “непреклонность желаний и беспорядок необузданного воображения” — повела его по пути “сказки”. Воображение Германна как его характеристика постоянно упоминается; он — поэт, создатель фабулы. Воображение его зажигается от рассказа Томского и реализует сказку, строит целую фабулу из собственного материала, из анекдота, из ничего. В свою очередь, сам рассказ Томского внутри себя стоит на чужих рассказах и слухах; нить повествования ткётся “цепью чудесных рассказчиков” — от Сен-Жермена и Казановы к Томскому и Пушкину (В.Шмид). Достоверность истории в её истоках, но и во многом в дальнейшем течении непроверяема; проблема Dichtung und Wahrheit нерешаема. Одно слово графини при роковом свидании отменяет и снимает всю миражную интригу: “Это была шутка… клянусь вам! это была шутка!” Случай — сказка — шутка. Третье звено оценки истории, которое тоже нужно учесть. В стилизованной колоритной речи старой графини это единственная столь чистая реплика, и она звучит убедительно — в такую минуту. Самоё явление белого призрака может быть истолковано как сновидение Германна. “Он проснулся уже ночью: луна озаряла его комнату”. Припомним другое из Пушкина: “На дворе было ещё темно, как Адриана разбудили”. Сон гробовщика открывается необъявленный, как продолжающаяся действительность, в которой к нему являются православные мертвецы. Верхняя граница сна не отмечена, и только нижняя граница объявлена уже задним числом. В Германновом видении нет и нижней границы, но и в целом в «Пиковой Даме» границы воображения Германна и прозаической действительности проведены иначе, если не сказать, что в этой сцене они не проведены вовсе. Как говорил Достоевский в известном письме о «Пиковой Даме», вы не знаете, как решить. Вы не знаете, как решить и с чудесным выигрышем трёх карт: если это была шутка, то чудесный выигрыш — чистый случай, почти невероятный, но всё же возможный теоретически. Тройка, семёрка, туз могли ведь явиться из головы героя, поскольку были уже заложены в его просмакованном критиками размышлении о том, что “утроиТ УСемерит мой капитал”, в котором Сергей Давыдов высмотрел и анаграмматически запрятанного туза. Но — вы не знаете, как решить: случай или сказка? Твёрдый фабульный факт есть один: Германн против Чекалинского играл, как он верил, наверняка, знал последнюю карту и взял другую, “обдёрнулся”. Происхождение, внутренний механизм его ошибки и составляет главное в повести, её философский и нравственный смысл. Дело в том, что метафора “жизнь — банк”, я играю с миром — в истории Германна реализуется в точности. Он играет не только с Чекалинским как Роком, он играет с миром, в котором — оставшиеся за его спиной старуха графиня и Лизавета Ивановна, жизнь и смерть, любовь и законы “нравственной природы”, о которой сказано в заглавной фразе последней главы:
“Две неподвижные идеи не могут вместе существовать в нравственной природе, так же, как два тела не могут в физическом мире занимать одно и то же место. Тройка, семёрка, туз — скоро заслонили в воображении Германна образ мёртвой старухи”.
В этом месте я вижу ключ ко всей повести. Её исследователи бывают увлечены нумерологией и цифирью, извлекая из текста запрятанные в нём, как в загадочной картинке, тройку, семёрку и особенно сложно упрятанного туза. Эти числа открыто “играют” на верхнем уровне фабулы, однако есть “в семантическом фараоне текста” (Вольф Шмид) иная пара чисел, глубже соотносящаяся с нравственной осью действия. Это двойка и единица. В семантическом фараоне текста — да, именно так, поскольку соотношение их соответствует ситуации фараона: я — действующая единица — в ситуации выбора из двух значений — двух карт, ложащихся налево и направо. Но такова модель и всякого жизненного выбора, перед каким всегда стоит человек. Это структура жизни в аспекте азартной игры, какой всегда присутствует в жизни, но глубже — структура жизни как нравственного события. “Случай! — Сказка!” — это как две карты легли налево и направо. Первый такой семантический фараон в тексте повести: два контрастных решения, определяющих диапазон понимания (на более глубоком, чем реакции персонажей, уровне авторской реальности их контраст снимается). Первое раздвоение значений, какое затем воспроизводится во всех звеньях действия: двойственная натура Германна, русского немца, и двойственная мотивировка его поведения — прозаический “немецкий” расчёт, низкая жажда приобретения и “огненное воображение”, страсть игрока; левая и правая двери за ширмами, между которыми он выбирает в доме графини, и прочее. Сдвоенная реально-воображаемая, прозаически-фантастическая интрига, относительно разных звеньев которой и её в целом мы не знаем, как решить, по Достоевскому. На глубине же всё это сводится к поединку Германна с самою жизнью, в которой он преследует одну цель, и все его действия имеют однолинейное устремление — это и есть его неподвижная идея, а жизнь — подвижная — перед ним иронически и коварно двоится, его интрига двоится, и это раздвоение интриги несёт с собой поражение Германна. Неподвижная идея против подвижной жизни.
На этот путь раздвоения интриги встал он сам, когда увидел в окне черноволосую головку. “Эта минута решила его участь”. Любовная интрига и стала путём раздвоения (а если вспомнить оперу, то главным пунктом её уклонения от источника — повести Пушкина). Германн пишет любовные письма, “вдохновенный страстию”, но под этим общим именем “страсть” смешиваются достижение тайны обогащения и роман с воспитанницей графини. В отношениях Германна с Лизаветой Ивановной работают традиционные эмоциональные слова-шаблоны: оба всё время “трепещут”, “терзаются” и тому подобное. Эти слова создают впечатление общих чувств, но они покрывают чувства, направленные в разные стороны. Это разъединение внутри эмоционального общего стиля наконец открывается в ночной сцене свидания: “Лизавета Ивановна выслушала его с ужасом… сердце его также терзалось… Одно его ужасало: невозвратная потеря тайны…”
Нужна помощь в написании сочинение?

Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.
Заказать сочинение
В послепушкинской прозе эта поэтика эмоциональных слов, общих терминов чувства будет подвергнута аналитическому расщеплению и разрушению уже в романе Лермонтова, а наиболее последовательно у Толстого, который будет исходить из безусловного недоверия к подобным словам и противопоставит им дифференциальный, дробный метод “подробностей чувства”. В «Пиковой Даме» эти слова скрепляют единое действие и создают неразъятую анализом тайну события. Общезначимые “страсть”, “трепет” и “ужас” обозначают противоположно направленные чувства героев интриги. Они оказываются словами-масками для разного наполнения “трепета” его и её (“Германн трепетал, как тигр, ожидая назначенного времени”; “и с трепетом вошла к себе…”). Таковы они не только для девушки, обманывающейся насчёт характера страсти своего героя, но и для него самого, не замечающего двойственного направления, которое приняла его интрига и самая “страсть”. Но в «Пиковой Даме» важно, что эти разные направления чувств, желаний, стремлений соединяются в общности стиля и выражения, внутри которой уже развивается скрытое от героев и несущее крах их чувствам, стремлениям и надеждам раздвоение этих пластических образов чувства и единой интриги.
Перед графиней, в сцене выпытывания тайны, Германн также амбивалентно страстен: как алчный приобретатель, разбойник и вор — и как пылкий любовник и сын, наследник тайны.
Наконец, его видение: получение тайны от белого призрака. Речь покойной графини тоже двоится внутри себя: она говорит сначала не от себя (ей велено, она пришла против своей воли), но затем прощает его она уже, кажется, от себя, от себя же сопровождая открытие тайны побочным условием — с тем чтобы он женился на её воспитаннице. Этим побочным условием Германн пренебрегает совсем. Лизавета Ивановна забыта им, прямолинейно стремящимся к одной цели. Германн становится жертвой двойного хода вещей, который его всё больше сходящееся в точку “воображение” не может охватить и вместить. Тройка, семёрка, туз вытесняют образ мёртвой старухи и все с нею связанные условия: две неподвижные идеи не могут вместе существовать в нравственной природе.
Но эта другая сила, которую он не может учесть, ведёт свою линию в Германновой судьбе: старуха в самом же сознании Германна, устранившем её, скрыто ведёт свою контригру и является из его же сознания пиковой дамой, судьбой, которую сам он избрал. Ведь сам он выбрал последнюю карту. Когда-то Ходасевич в статье «Петербургские повести Пушкина» (1915) характерно ошибся, и ошибку его отметил потом В.В. Виноградов: Ходасевич несколько примитивно определил ситуацию «Пиковой Дамы», как и других “петербургских повестей Пушкина”, как вмешательство демонических сил в человеческие дела — и, соответственно, понял проигрыш Германна как насмешку и месть этих сил, на последней карте его обманувших. Насмешка и месть действительно состоялись, но в результате действия каких-то более сложных сил. Что за сила выслала покойницу к Германну, как назвать эту силу? Ему мерещатся за старухой “дьявольский договор”, страшный грех и “пагуба вечного блаженства”, которую он согласен в обмен на тайну взять на себя. Молодой архиерей говорит об успении праведницы в ожидании жениха полунощного, то есть евангельского Христа, которому соответствует в фабуле повести Германн-убийца. Обе эти контрастные версии тоже читаются в семантическом фараоне текста. Но иронией окрашены обе. Покойница не праведница, но и не страшная грешница. Зато её жених полунощный — именно в свете такого сравнения, такой параллели — великий грешник.
Но графиня вовсе не такова. И поэтому вряд ли, как представляется Мефистофелю — Наполеону и жениху полунощному — Германну (все эти проекции на его фигуру ложатся, создавая ей мифологический и исторический объём), — вряд ли можно думать, что её забрали силы ада и затем к нему выслали. Мы не знаем, как назвать эти силы, о которых она говорит: мне велено… Но это очень умные силы. Они приносят герою исполнение его желаний, а высланная ими покойница уже в дополнение от себя ставит условием исполнение желаний также её воспитанницы. В эту ловушку его и ловят, потому что это второе условие он не в силах будет учесть. И это знают играющие с ним — как и он играет с ними — силы. Это их ход в заранее проигранной игроком игре. Потому что ставка в этой игре — “нравственная природа” человека. Потусторонние силы — каковы бы ни были они и как бы их ни назвать — ставят именно на это, и это они испытывают в противостоящем им игроке. На это идёт игра, как во всех подобных вечных сюжетах, от Книги Иова до «Фауста» Гёте. О “нравственной природе” недаром упомянуто в завязке последней главы, но и раньше, по ходу действия, автор внимательно отмечает её движения и колебания в Германне. Так, отмечается “нечто похожее на угрызение совести”, когда он слышит шаги Лизаветы Ивановны, но которое тут же умолкло. “Он окаменел”. “Голос совести”, твердивший, что он убийца старухи, помянут позже ещё один раз. “Имея мало истинной веры, он имел множество предрассудков”. Для объяснения дальнейшего тоже фраза ключевая. Он явился на похороны испросить у мёртвой прощение — из суеверия. Он поклонился в землю и несколько минут лежал перед гробом на холодном полу. Это очень серьёзные действия, однако безблагодатные и безнадёжные. Ответ ему — усмешка мёртвой в гробу. Он оступился и грянулся оземь. От этого “оступился” прямой путь к заключительному “обдёрнулся”. Пушкин по-пушкински внешними знаками даёт картину внутреннего процесса. Всё дальнейшее есть ступени этого внутреннего процесса. Герой — не игрушка роковых сил, по Ходасевичу, а ответственный нравственный субъект, по Канту и по Пушкину. Пиковая дама в решающую минуту является из его оттеснённой совести как его заслуженная судьба. Фантастическое обещание Германну исполнено, но вместе с ним исполнилась его судьба. Он сам “обдёрнулся”, выбрав даму вместо туза как свою судьбу. Пиковая дама в его руках замещает не только мёртвую графиню, но и её воспитанницу, за которую та просила за гробом, весь оставленный и преступленный фантастическим игроком человеческий мир. Она обнаруживает в результате “тайную недоброжелательность” прямолинейному агрессивному вожделению, не желающему признать от него независимую неоднолинейную жизнь.
В недавней статье Л.Магазаник заметил интересную подробность, какую мы при чтении не замечаем. В сцене ожидания Германна у дома графини мы пропускаем фразу: “Швейцар запер двери” — после чего, через несколько строк, в половине двенадцатого он ступил на крыльцо и взошёл в освещённые сени. Получается, если связать все звенья рассказа, что он прошёл через запертую дверь — как потом и женщина в белом: “Дверь в сени была заперта”. Можно здесь допустить ошибку Пушкина, недоработавшего текст. Но если такие несогласованности не удивляют у Гоголя, то допустить такую оплошность у Пушкина трудно. Прав, видимо, автор статьи: если это ошибка, то обдуманная, говорящая. Говорящая о Германне как существе, проходящем через запертую дверь. Та пушкинская фантастика исподволь, что упрятана в незаметных деталях (никем до поры до времени и не замеченных). Незаметных деталях, говорящих о воле, напоре, насилии. Достоевский скажет потом о Германне, что это “лицо колоссальное”. Что колоссального в прозаической фигуре скромного малозаметного офицера? Разве только его игра перед Чекалинским: “Позвольте заметить вам… что игра ваша сильна…” Но он проиграл её, и механизм светской жизни, тут же восстановившись, вывел его за скобки: “…игра пошла своим чередом”. Но он недаром в тексте Пушкина окружён титаническими проекциями: Мефистофель, Наполеон и даже жених полунощный. Проекциями, подтверждающими его как “лицо колоссальное”. В бытовой фигуре — “идеи времени”, в историческом укрупнении и дающие такие параллели, как Наполеон или, по догадке одного исследователя (Виктора Есипова), Пестель, которого Пушкин близко наблюдал и о нём заинтересованно размышлял. (Исследователь приводит характеристику Пестеля, данную декабристом Якушкиным: “Он никогда и ничем не увлекался. Может быть, в этом и заключалась причина, почему из всех нас он один в течение почти 10 лет, не ослабевая ни на минуту, упорно трудился над делом тайного общества. Один раз доказав себе, что тайное общество — верный способ для достижения желаемой цели, он с ним слил всё своё существование”.)
Человек проходит сквозь запертые двери, но он проигрывает жизни — вот итог. “Роковые” интерпретации повести в литературе о «Пиковой Даме» преобладают. И в самом деле, в ней действует рок и свершается чудо. Но рок и чудо сосредоточены в одной точке действия — когда Германн взял из колоды другую карту. Рок и чудо — не внешние силы. Одновременно и роковая и чудесная сила, с которой он затеял игру и её проиграл, — это жизнь и “нравственная природа”. Роковая и чудесная сила повести — нравственная сила, и можно в центр понимания «Пиковой Дамы» поставить слово, сказанное Ахматовой о “Каменном Госте”: “грозные вопросы морали”. Грозные!м
Список литературы
Нужна помощь в написании сочинение?

Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.
Заказать сочинение
Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://www.repetitor.ru/
Душенко К. В. «Случай, мгновенное орудие провидения»: культурно-исторический фон пушкинского афоризма
Рубрика: История литературы
Аннотация
Сближение случая и Провидения было обычным в литературе XVIII — первых десятилетий XIX вв., однако у Пушкина эта проблема ставится в историософском контексте. Пушкинский афоризм «Случай — мощное, мгновенное орудие Провидения» имел ряд параллелей во французской литературе, в том числе в работах консервативных публицистов 1800-1820-х годов. Мнение, что Пушкин полемизирует здесь с французскими историками эпохи Реставрации, недостаточно обоснованно. Выражение «формула истории», играющее важную роль в заметках Пушкина, принадлежит философу-традиционалисту П.С. Балланшу, но понятие «провиденциального случая», введенное Балланшем, Пушкину, по-видимому, не было известно. В статье рассматриваются также наиболее известные афоризмы из близкого смыслового ряда: «Случай — ходячее прозвище Провидения» (Н. Шамфор), «Случай — псевдоним Бога» (Т. Готье) и т.д.
Abstract
The convergence of chance and Providence was common in the literature of the eighteenth and first decades of the nineteenth centuries, however, Pushkin poses this problem in a historiosophical context. Pushkin’s aphorism «Chance, the mighty, instant instrument of Providence» had a number of parallels in French literature, including the works of conservative publicists of the 1800-1820 s. The opinion that Pushkin is polemicizing here with French historians of the Restoration era is not sufficiently substantiated. The expression «formula of history», which plays an important role in Pushkin’s notes, belongs to french traditionalist P.S. Ballanche, but the concept of «providential hasard», introduced by Ballanche, to Pushkin, apparently, was not known. The article also considers the most famous aphorisms from the close semantic series: «Chance is a nickname for Providence» (N. Chamfort), «Chance is the pseudonym of God» (T. Gautier) etc
Ключевые слова
историософия; афоризмы; А.С. Пушкин; Боэций; Джованни Паоло Марана; Н. Шамфор; Т. Готье; Т. де Квинси; Ж. де Местр; П.С. Балланш
Keywords
historiosophy; aphorisms; A.S. Pushkin; Boethius; Giovanni Paolo Marana; N. Chamfort; T. Gautier; T. de Quincey; J. de Maistre; P.-S. Ballanche
DOI
10/31249/litzhur/2021.51.04
Случай — мощное, мгновенное орудие Провидения.
А. Пушкин
Глава «Фаталист» — заключительная в романе М. Лермонтова «Герой нашего времени». Cобытийно ее место совсем не в финале, но роман выстроен не в хронологической последовательности. Почему же автор ставит «Фаталиста» в конец, если он должен быть ближе к середине? Видимо, глава — ключевая в раскрытии характера героя и в теме, что волнует автора.
А тема, роль судьбы и случая в нашей жизни, поиски ее смысла, по сути, гамлетовский вопрос «Быть или не быть?» — сквозная в творчестве Лермонтова, определяющая в сознании героя. Она и облечена в форму вопроса: есть ли Предопределение, рок? Или мы вольны в своих желаниях и поступках? Роман не дает готового рецепта; герой находится в поиске, в ситуации выбора. Автор, моделируя коллизию, ходом событий подводит читателя к возможности личного ответа.
*Судьба и предопределение — так должна бы звучать тема; именно тема, а не пресловутые мотив, концепт, что выглядит сухо, мелко, рассудочно. Термин тема — содержательней, масштабней, объемней, глубже, наконец, бытийней. Предопределение и судьба, хотя почти и синонимы, но далеко не тождества. По-разному они видятся и в истории религий и культур. Понятие судьбы есть во всех национально-культурных ментальностях. Все дело в нюансах. Так, в греческих мифах (выросших из политеизма) судьба имеет несколько имен (т.е. смысловых обличий): Адрастея, Ананке, Ате, Мойры (Клото, Лахезис, Атропос), Тихе, Хеймармене. Предопределение менее разнообразно, более строго привязано к религиозной деноминации — появляется лишь в авраамических религиях (монотеистических — иудаизме, христианстве, исламе).
Конечно, можно бы обойтись и одним из синонимов. Тем более что в «Фаталисте» они встречаются почти на равных: судьба — семь раз, предопределение — шесть. Но в «Герое…» судьба встречается два десятка раз; а предопределение нигде больше, кроме «Фаталиста», что заставляет задуматься: почему так? Очевидно, такое соотношение не безразлично автору; именно в «Фаталисте» ему почему-то важно обратить внимание на слово предопределение (рассказ ведется от лица Печорина, что тоже не случайно)!
Лермонтов, вводя понятия предопределение и судьба, не мог не учитывать различий смыслов. Это очевидно, так как суть заключена в понимании феномена: это слепой фатум или личностный Логос? Речь идет о свободе воли или о безличной необходимости, морально-правовом Законе или социально-природной закономерности? Ситуативно у автора суть скрыта в латентном столкновении разных концепций, смыслов — языческой судьбы, христианского и мусульманского предопределений.
Наконец, обратимся к «случаю — богу-распорядителю» (А. Пушкин). Cлужебная роль его, кажется, выяснена давно: через него судьбa правит людьми и богами (так видится античной трагедии), а случай у нее на посылках. Порой бывает достаточно песчинки, чтобы колесу истории придать иное направление. Известно ведь, дьявол прячется в деталях. Впрочем, и Бог зачастую являет Себя через мелочи. Такова парадоксальная диалектика бытия. Бог деталей Тот, «Кому ничто не мелко, Кто погружен в отделку кленового листа!» В Нем — «мир, как тишина осенняя подробна». Вокруг «случая», случайности, нечаянной встречи, случения полюсов — вертится вся мировая культура; на нем подвешены судьбы мира. Каждый может подтвердить это десятком-другим примеров из жизни и литературы. Каждый из нас, при всей рационалистичности, склонен к вере в иррацио. Вопрос лишь в степени и форме проявления. В художнике эта форма наиболее выразительна (даже в сравнении с героем, его вторым Я).
Итак, действие «Фаталиста» происходит в казачьей станице, в разгар войны с горцами; всё начинается со спора офицеров во время карточной игры. Автор создает коллизию, когда реально, в состоянии крайнего напряжения, а не в умозрении, решаются последние вопросы бытия. Война, карты — исключительный сюжетный ход для экзистенциальной темы. Игра — на фоне войны, и война — как «игра» со смертью; карты — символ борьбы полюсов, столкновения воли и случая, логики и хаоса, рацио и иррацио, каприза и правил. Это живой образ миро-порядка, балансирующего на грани бытия и небытия. Потому сюжет игры, тема карт так популярны в русской и мировой культуре; это модель-универсум жизни.
«Однажды, наскучив бостоном и бросив карты под стол, мы засиделись у майора С*». Возникает беседа о мусульманском поверье, будто судьба наша написана на небесах («ход и исход жизни каждого человека извечно предопределены свыше и человек не властен ни в чем его изменить, выполняя в своей жизни лишь божественные предначертания»); мол, и среди христиан эта вера имеет хождение. Действительно, вера в судьбу (карму) есть во многих религиозно-философских системах.
Особо подчеркну (для выявления мысли автора это немаловажно): «мусульманское поверье» [1] (Кавказ — место действия) близко логике католиков и языческому суеверию. Предопределение — мусульманский и католический коррелят языческой судьбы. От них радикально отличается православное Провидение. В последнем есть свобода выбора, а значит, и личной ответственности за него. Так мысли бл. Августина (св. Отца римской Церкви) о Предопределении присущи рудименты древнего рока; что в корне противоречит восточно-христианскому Промыслу (Предвидению, всеведению) [2]. Уже здесь скрыта острая проблема! Конечно, сюжет задан автором не для анализа различий в вероучениях. Но учитывать такой смысловой нюанс необходимо.
*У автора и героя (его условного alter ego), как всякого русского (тем более поэта), свои, непростые, личные отношения с судьбой. Мы знаем о свободе воли, но предпочитаем верить тому, что позволяет уйти от ответа (случилось, значит, так надо); так проще: переложив вину на Небо, среду, жену, мы уже ни за что не отвечаем. Но Поэт честней нас, поклонников «артели». Скептик же и «рационалист» Печорин и верит, и не верит в судьбу, мучается сомнением, «забавляется своим несчастием», как говорит Ивану Карамазову старец Зосима, точно диагностировав болезнь его духа, указав ее исток.
Eсть резон начать с простого вроде бы вопроса: кто же здесь фаталист? Заглавие выглядит провокативно; чье оно — Печорина, офицера-издателя [3], Лермонтова? Априорно под фаталистом имеется в виду Вулич. Он герой рассказа, объект общего внимания; ведь рассказ (как в «Княжне Мери» и «Тамани») ведется от лица Печорина. Но, выйдя за рамки главы в целое романа, мы поймем, что ареал распространения, смысл вопроса может (и должен) быть расширен. Роман-то философский, а финальная глава — средоточие его смыслов. Поставленный вопрос имеет отношение и к Вуличу, и к Печорину, и к случайным повествователям, и к автору. Если этим вопросом завершать изучение, ответ (при всем желании однозначности) неизбежно будет оговорочный, двусмысленный. Причина в одностороннем, нашем статично-резонерском видении ситуации. Потому есть резон вопрос вынести вперед, поставить его изначально, как ключевой. Может, ответ будет более продуктивный?
Итак, кто фаталист — Вулич или Печорин? А может, и автор? С равным основанием это можно отнести к каждому. Но к каждому с разным резоном! Любой из них вправе претендовать на это звание. Для этого фактов вполне достаточно. В то же время для опровержения такого утверждения в отношение каждого аргументов тоже хватает. Возникает интеллектуально-психологическая интрига, головоломка, едва ли не детектив. Потому конкретизация слова Фаталист пока проблематична.
Чтобы понять заглавие (т.е. мысль автора), следует начать с характеристики, позиций персонажей, в том числе периферийных.
Они в динамике, в становлении, в поиске смыслов и себя. Это предлагается и нам, читателям. Неужели Вулич (вуич, в первонач. вариации, то есть сын волка, образа олицетворяющего Зло, оборотничество в языческой и средневеково-христианской мифологии, но порой с полярным ценностным наполнением) слепо полагается на судьбу? Не совсем так, здесь все сложней, неоднозначней, чем о нем думает другой экспериментатор и искуситель судьбы Печорин, в эту ночь под прессом неопровержимых «фактов» сам едва ли не уверовавший в высшую Волю.
А что же автор? — Предлагая свою модель отношений человека и мира, он решает тему по-своему: движется от позиции Вулича (синтеза слепой веры в себя и удачу), через сомнения Печорина — к пониманию сути Провидения (о чем свидетельствуют многие его тексты: «Маскарад», незавершенная повесть «Штосс», четыре поэтические «молитвы» и пр.). Его взгляд не совпадает с позициями героев, а обогащает их дополнительными смыслами, вбирает в себя, как целое осложняется за счет части.
Обращает на себя внимание и тот момент (на него указывают многие), что повесть Лермонтова делится ровно на две части — первая сосредоточена на Вуличе, вторая — на Печорине. В начале — инициативен Вулич, Печорин предстает лишь катализатором сюжета; с середины — после рефлексии Печорина, действовать приходится именно ему, поскольку Вулич трагически (именно так, пока!) погибает. Если в русскую рулетку играет серб, то русский подхватывает его роль, продолжает игру, но уже в реальной, стихийно возникшей, а не искусственно, волюнтаристки созданной, ситуации. И здесь, как и вначале у Вулича, эксперимент Печорина завершается удачно. Но нам известно, что смерть настигает его (по его же предчувствию) по дороге из Персии. То есть игра со смертью (вызов судьбе) завершается, как и в случае Вулича, конечным поражением героя. Так кого же с наибольшим правом можно считать фаталистом: героев или автора? Не будем спешить с выводом.
Безусловно, в Вуличе — уроженце православной, но отуреченной Сербии, вера в судьбу присутствует уже на уровне интуиции. Но отделить в нем рациональные мотивы от стихийно-иррациональных порывов очень сложно, хотя и можно (все ж это созданный образ, а не реальное лицо). Не всегда эти объяснения будут точны и объективны (уже в силу того, что единый феномен, поступок может иметь множество мотивов; как и один мотив может иметь разные следствия в зависимости от ситуации); но в первом (и последующем) приближении — вполне удовлетворительны. Элемент вероятия (свободы толкования) присущ и природе образа, а не только эмпирической реальности.
Автор будто специально фокусирует внимание на внешнем сходстве мотивов и поступков героев. Оба выглядят фаталистами, но именно лишь выглядят, по сути не являясь таковыми. Оба будто состоят из двух полярных половинок — в них восток (древнее, иррациональное) и запад (современная эгоцентрия, индивидуализм) представлены поровну. Они способны на безоглядное самоотвержение и в то же время на крайний скепсис. По большому счету, это близнечная пара с разнозаряженными полюсами; время от времени они меняются местами. Структура повествования хорошо темперирована, удивительно иерархична, сбалансирована.
Возвращаясь к теме веры, отметим, что, как всякий феномен, веру следует рассматривать в динамике (как он дан у автора), а не в статике (как хотелось бы и удобней нам). И здесь между героями и автором может быть проведена некая градация. Если чувство рока у Вулича имеет архаические черты (о чем говорит и его фамилия: сын волка, волк-оборотень), то у Печорина вера в рок обретает характер Предопределения (присущий католической вере с элементами архаики). Автор же вполне очевидно тяготеет к Провидению (восточно-христианская модель личной, избираемой судьбы). Естественно, выбор происходит на уровне не частных нюансов, а на уровне метафизики добра и зла, что его существенно усложняет: мы-то ситуацию предпочитаем видеть практически в категориях пользы и прибыли, а Бог через эмпирику предлагает выбор на уровне онтологии. Это очень осложняет понимание. Духовное трезвение и состоит в способности сквозь шумы слышать и выбирать единое на потребу.
Герои в гордыне не могут опуститься до примитивной веры, цельной в своей основе. Для них это вопрос престижа, отталкивания от моды, а не выстраданного убеждения. Их восприятие Другого заглушено сегомирным. Автор взрослее их духовно.
Герои не в силах уверовать вполне, но и уйти от душевных стихий, «роковых страстей» (Пушкин), не могут. Если Вулич губит лишь себя, то Печорин, играя собой и другими, являет судьбу многих, став истоком их (и своих) бед. Манипулируя людьми и жизнью, он отчуждается от всего живого, в том числе и себя, влечется небытию. Эта простая логика жизни и небытия раскрыта русской классикой от Пушкина до Солженицына и «деревенщиков» (несчастный Блок договорится до «крещения в смерть»; работает она и в пост-модерне, помимо воли тех авторов, что гордо мнят себя творцами нового). У Достоевского эту логику вскрывает старец Зосима в своих Записках (например, очень выразительные мысли «Об аде духовном»).
Тем не менее Печорин под давлением сложившихся обстоятельств вынужден, хоть на время, уверовать в наличие каких-то сил, управляющих жизнью, как бы эти силы ни назвать — безликий рок, слепой случай или личный Бог! Рациональному объяснению, разгадке (а значит, и манипуляции ею, то есть магическому действию) они поддаются плохо. В отношение же Вулича однозначно не скажешь, во что он верит, и вообще, верит ли во что-то, кроме себя. Его «фатум» граничит со стоицизмом, и далеко не христианским, а самым что ни на есть древним, кондово умозрительным. Тому есть причина: для автора он — средство раскрытия души Печорина. Он не автономен, а скорее — колоритный двойник героя, его фон, как и многие в романе. Автору интересен Печорин, нам же — автор, о котором минимально необходимое узнаём через моделируемую ситуацию и дела героев.
Да, попытка проверить теорию фатализма закончилась благополучно до поры до времени, однако, как утверждает Г.А. Мейер, Вулич этой проверкой разбудил дремавший до этого Рок: «Крайне сжато и схематично всё это может быть истолковано так: метафизическая авантюра, предпринятая Вуличем, пробуждает разгневанный Рок, дремавший дотоле в умолкнувших Перунах; потерявший себя от вина пьяный казак, избранный орудием Рока, как злобой разнузданный дух, набегает на ненавистную ему плоть, но прежде чем зарубить Вулича, неминуемо встречает и рубит свинью — греховный символ вуличевской попытки заглянуть в запредельное, потревожить Рок. Нечистая свиная кровь шашкой одержимого надругательски приобщается к крови человека, своевольно сорвавшего запоры с преисподней. И в довершение всего пьяный казак предаётся закону рукою изловившего его на следующий день Печорина, главного, хоть и скрытого виновника злой бури, подтолкнувшего Вулича на опрометчивый опыт с заряженным пистолетом. Символом неминуемой судьбы, воплощением Рока является в повествовании Лермонтова старуха, мать казака-убийцы, беззвучно шепчущая не то молитву, не то проклятие. Она сидела у нежилой хаты, в которую заперся не пожелавший сдаться властям её преступный сын».
*Лермонтов в творческих приемах многое заимствовал у Пушкина. Об этом свидетельствует и беглое сопоставление «Фаталиста» с «Пиковой дамой» (частое в науке, отсылаем) и… «Выстрелом» (никем еще не предпринятое, потому нам более интересное).
«Выстрел» и «Фаталист» близки друг другу характерами героев. Вулич и Сильвио выглядят волевыми цельными личностями — молчаливы, сдержанны, в них преобладает воля, заменяющая ум и сердце, что вечно «не в ладу»; оба «окружены тайной». Но сказать, что в них «ум и сердце согласились» (Батюшков), тоже нельзя; в них есть тщательно скрываемый изъян.
«Наружность поручика Вулича отвечала вполне его характеру. Высокий рост и смуглый цвет лица, черные волосы, черные проницательные глаза, большой, но правильный нос, принадлежность его нации, печальная и холодная улыбка, вечно блуждавшая на губах его <…> Он был храбр, говорил мало, но резко; никому не поверял своих душевных и семейных тайн…»
Вулич — хоть и славянин, но иностранец; Сильвио же «казался русским», однако почему-то имел иностранное имя. «Ему было около тридцати пяти лет, и мы за то почитали его стариком. Опытность давала ему перед нами многие преимущества; к тому же его обыкновенная угрюмость, крутой нрав и злой язык имели сильное влияние на молодые наши умы. Какая-то таинственность окружала его судьбу…» Атмосфера загадочности создается автором и героями намеренно, ради возможности манипулировать двойными мотивациями; прием, поэтам и игрокам хорошо известный. Даже проигрыш в карты в момент боя — лишь с его слов, то есть, может, впервые и выиграл (как никогда, шла карта), но поскольку без свидетелей, то вынужден признать проигрыш из гордости.
Истинный страх рисковать и потерять собственную жизнь у Сильвио мы можем обнаружить в этих словах, где он объясняет причину того, отчего же он не вызвал обидчика на дуэль: «Если б я мог наказать Р***, не подвергая вовсе моей жизни, то я б ни за что не простил его <…> — Так точно: я не имею права подвергать себя смерти. Шесть лет тому назад я получил пощечину, и враг мой еще жив». Ужасные слова, вскрывающие подоплеку демонизма в натуре Сильвио. Чья-то жизнь — лишь повод для удовлетворения самолюбия, для самоутверждения, соперничество — форма существования. В иных категориях он не мыслит.
Страх же Вулича проявляется только после эксперимента, он как бы опомнился и не желал уже столь спокойно реагировать на провокационные слова Печорина. «— Верю; только не понимаю теперь, отчего мне казалось, будто вы непременно должны нынче умереть… Этот же человек, который так недавно метил себе преспокойно в лоб, теперь вдруг вспыхнул и смутился.
— Однако же довольно! — сказал он, вставая, пари наше кончилось, и теперь ваши замечания, мне кажется, неуместны… — Он взял шапку и ушел. Это мне показалось странным — и недаром!..»
«Мне надоела эта длинная церемония. — Послушайте, — сказал я, — или застрелитесь, или повесьте пистолет на прежнее место, и пойдемте спать». — Печорин в этом споре выступает как сторонний наблюдатель, который также имеет собственную позицию.
Столь резкие слова, конечно, были сказаны с целью спровоцировать, задеть Вулича за живое. Именно в этот момент Печорин настолько погружается в эту игру, что рискует не выйти из нее вовсе. Но Печорину откровенно везет и спасибо за это мы должны сказать Лермонтову. Печорин подсознательно тяготеет и к фатуму, а рационально к свободе. Он не может позволить себе, чтобы кто-то другой распоряжался его жизнью. Борьба фатума и воли в нем образуют пароксизмы своеволия, метафизического бунта.
И Печорин испытывает судьбу, бросаясь на пьяного казака; но все это более скрыто, не столь напоказ, как у Вулича. Потому Рок за его храбрость «жалеет» его, не «видит» брошенного вызова. Печорин вряд ли пройдет мимо того, что заденет его душу, вновь втянется в игру со смертью; и привычно предстанет в состоянии раздвоения: азартный игрок и холодный наблюдатель.
Печорин дважды невольно искусил Вулича: своим скепсисом стимулировал, спровоцировал испытание, а своим предсказанием, может быть, даже вынудил к уловке. Ритуалу стоика-«фаталиста» — приготовлению к смерти — нужны зрители (мир как сцена).
Печорин скепсисом смутил его: стимулировал на выстрел, напомнив предсказание о смерти (отсюда возникло чувство обреченности); стал косвенным виновником его смерти (серб ушел не в себе, в тайном, но сильном замешательстве; отсюда — и его нелепый вопрос-провокация казаку). Вина на обоих: Вуличе (вызов судьбе — гордыня) и Печорине (дважды искусил невольно). То же в случае Печорина и автора — градация по уровням, по восходящей: Вулич — Печорин — автор.
Первое предсказание Печорина не смутило Вулича (скорее, подзадорило как вызов), а второе, когда опасность вроде бы миновала, вызвало замешательство. Вулич услышал что-то за его настойчивостью, какую-то опасность и неясную угрозу. Здесь психология замешана на мистике. Игровой вызов сменился прикосновением к чему-то серьезному, к какой-то неведомой силе. Он испугался дерзости своего вызова, брошенного этой неизведанной силе; отсюда его — раздраженный, почти грубый до агрессии тон (известно, что агрессия — одна из форм проявления испуга). Он ощутил дыхание реальной силы, могущей смять его, как щепку. Дублированное предсказание Печорина — и две разные реакции Вулича. В лице его Печорин увидел — мистико-психологический симптом обреченности перед выстрелом (Печорин угадал или знак был реальный?). Это предположение, намеком высказанное Максим Максимычем, думается, все же не работает (не составляет пружину интриги, хотя и допустимо); все же Вулич — не трус и не плут; это было бы слишком банально.
*Сильвио ощущает себя орудием мести для беспечного графа, однако также заигрывается и теряет лицо. Из романтического героя он превращается в человека, желающего самоутвердиться за счет другого. Сильвио уверен, что в момент развязки граф выглядит жалко, но в этом его заблуждение: граф вел себя достойно. Сильвио думал, что волен в жизни графа, что у него есть на то моральное право. Он ощущал себя судьей соперника, и пик его ощущения приходится на финальную сцену, где он, эффектно демонстрируя великодушие, принимает привычную романтическую позу. Чем не жалкий Грушницкий, которого Печорин застрелил на дуэли, или Вулич, которого пьяный казак разрубил, как перед этим свинью? Но хорош и «демон» Печорин, опускающийся от скуки, а потом и вынужденно, до борьбы с лицами, ниже себя (или им так оцениваемыми). Авторы сочувствуют обеим сторонам, ощущая себя на их месте. Такова их профессиональная задача и незавидная человеческая доля.
*Сближает произведения и тема «игры». Печорин, подобно фокуснику (эпизодический персонаж из главы «Княжна Мери») играет с судьбой, со смертью, своей и чужой любовью; каждый «выигрыш» его в этой борьбе с «живой жизнью» (!!!) — страшная пиррова победа: утрата себя, человеческого в себе. Люди для него — марионетки; но все (кроме фата Грушницкого) — живые, страдающие лица. Война — карты — охота — любови — волокитство, интриги — дуэли. Парадоксальная страсть жизни и к жизни истинной — княгиня Вера Лиговская (но здесь — банкротство, крах, из-за извращения нашей природы, уклонения в стихию, в страсти — к авантюре, к своеволию), все превращено в средство забвения приближающейся внутренней пустоты, небытия; все становится заменой реальной жизни и простых чувств, наркотиком, источником заблуждений, мнимостей, иллюзий!
И уже не герои играют с судьбой, а она, приняв их дерзкий вызов, вступает с ними в смертельную игру, преследует и настигает.
Принцип игры, игрового отношения к жизни — и сюжетный, и тематический, и бытийный, и как прием поэтики — пронизывает произведения и мировосприятие героев у обоих авторов. В этом скрыта масштабная религиозно-философская, мировоззренческая авторская интуиция! Две модели мироотношения: мир как игра, сцена, театр, действо, и мир как книга (библейский взгляд)! герой как актер (актор, с претензией на роль теурга) и герой — сторонний наблюдатель. Печорин стремится совместить две эти позиции и оценки мира.
Герои у обоих авторов утратили себя, точку опоры в силу потребительского восприятия мира, утилитаризации связей и утилизации себя, девальвации всех ценностей. У Лермонтова портрет «героев» дан на фоне двух самоубийств: состоявшегося и предстоящего. Вулич и Печорин — две вариации героя жизненно-душевного и духовного суицида. Кириллов — беспримесный вариант героя суицида; «драма» Печорина тяготеет к преступлению и финалу Ставрогина — вектор один.
Проигрыш обусловлен уже не вызовом судьбе (как у Казбича или честных контрабандистов из главы «Тамань»), а моральным банкротством: своеволием индивидуалиста, жаждой превосходства, самоутверждения любой ценой! Итог: пустота самоотчуждение от мира и себя. — Вулич столь же двусмыслен и фальшив в своем романтическом вызове судьбе, как Грушницкий и Германн: «играет» наверняка. Вот в чем видят авторы вину и беду своих героев! Заигрались, как несмышленые дети.
*Действительно, авторы будто дразнят нас двойственностью приводимых фактов, мотивов, поступков героев. Эта игра, входящая в механизм, в поэтику повествования, едва ли не как его основа, тоже требует своего объяснения. Это доказывается и удвоением «коллизии» Вулича — коллизией рефлексирующего и рискующего жизнью Печорина, но как бы в обратной проекции: сначала Вулич рискнул — и «выиграл», но рок случайно настигает его в виде пьяного с шашкой. Печорин же, ничем поначалу не рискуя, проигрывает пари. Затем хладнокровно рискует собой, и выигрывает, схватив обезумевшего убийцу. Но в итоге и он побежден.
Вулич, считая, что отдает свою жизнь на волю судьбы, просто отдал ее на волю случая, и оказывается беззащитен. А у Лермонтова судьба-случай вовсе не тождественны. Вулич не прочувствовал этой разницы. Возможно, вызываясь проверить теорию фатализма, Вулич внутри себя рассуждал и высчитывал, сколько шансов у него на то, что пистолет не выстрелит.
Вулич мог руководствоваться не слепой верой в фатализм (потому что остается вопрос: была ли вера?), а верой в себя, надеждой на то, что «азиатские курки часто осекаются, если дурно смазаны или не довольно крепко прижмешь пальцем», слова Максим Максимыча, дающие вариант разгадки). Игроки играют, не желая рисковать; основа их поступков — духовная пустота и эгоизм.
Принцип двойничества проведен предельно последовательно, сквозной прием удвоения пронизывает все уровни текста — такова двойная мотивация смерти: психолого-бытовое обоснование и мистическая загадка. Не доказанной косвенными признаками-уликами остается и догадка, что Вулич все же не сильно прижал курок, смущенный «предсказанием» Печорина. Это спасло его при выстреле, но не спасло от судьбы, принявшей его «вызов».
И уже не важно, верят они в судьбу или нет — судьба их настигает; и отметим — по воле автора. Судьба крадется за каждым: «шла по следу, как сумасшедший с бритвою в руке» (Арс. Тарковский), как «убийца с финским ножом» (М. Булгаков).
Возникает ситуация игры судьбы и случая в жизни героев. Лермонтов привел Вулича к краху. Романтический герой, «случайно» зарубленный пьяным казаком, таким образом, полностью исчерпал себя.
И в «Выстреле» Пушкин через случай ведет героя к краху, развенчивает романтический облик, но не так сурово, как Лермонтов. Верно отмечал Мережковский, что Пушкин — поэт со знаком плюс, солнце русской поэзии, а Лермонтов — поэт со знаком минус и под знаком луны. Лермонтов ситуацию подает более жестко, беспощадно, без сантиментов, поскольку для него тема романтики, утраты иллюзий, более остра, болезненна и в силу обстоятельств, и в силу времени, и в силу характера.
А что же центральный «герой» Лермонтова, Печорин: он-то «романтик» или «реалист»? Печорин же, отстаивая свою независимую позицию, вроде выступает сторонним наблюдателем. Но, будучи рационалистом, скептиком, и он невольно тяготеет к фатуму, оказывается в его власти, а значит, и во власти случая. Тем самым он оказывается в некоем зазоре; не столько он выбирает, сколько за него — автор, среда (водяное общество), судьба, действующая через случайную ситуацию и проч.
Печорин, может, более фаталист, чем Вулич; хотя рациональное берет в них верх, но тайна влечет ищущих героев.
Остается вопрос с авторами? Они-то кто: романтики или реалисты? Ответим уклончиво: на пути от одного другому, от добросовестного творческого заблуждения к частичному духовному прозрению.
Лермонтов через мечущегося своего героя выражает свое понимание жизни. Отношение его к Богу двойственно. Авторы в ищущих смысл жизни и себя героях отражают свое отношение к судьбе; вера и сомнение раздирают душу всех: и героев, и авторов, и нас, читателей. А тем самым все вступают в непростые отношения с судьбой-случаем.
Оказывается, то же, что с героями, происходит и с авторами (завершая эту логическую связь, добавим, повторим: и с нами!), только, может быть, в зеркальной, обратной проекции (оно и понятно: художество и духовность — это некое зазеркалье).
Авторы как бы предсказывают (угадывают, моделируют?!) свою судьбу: Лермонтов — в сцене дуэли Печорина с Грушницким (и вновь в зеркальной проекции: в романе погибает пошляк-юнкер, в жизни — от пули майора Мартынова — поэт). То же случилось и с Пушкиным: его дуэль с Дантесом зеркально варьирует дуэль Сильвио с повесой-графом.
Лермонтов, угадав в дуэли Печорина с Грушницким свою смерть, берет удар на себя, а герой, вступая в схватку с судьбой, временно одерживает верх. Ведь он еще нужен автору, чтобы сгубить дикарку-красавицу Бэлу и разочаровать верного Максим Максимыча. Но и Печорин настигнут смертью на пути из Персии. Авторы, играя ситуацией и героями, выявляют в игре судьбы и случая некую диалектику. А. Франс изрек однажды: «Случай — это псевдоним Бога, когда Он не хочет подписываться своим именем».
*В свете сказанного важной проблемой предстает жанрово-смысловое, ценностно-мировоззренческое определение ситуации: перед нами воспроизведена ДРАМА или ТРАГЕДИЯ? Если драма, то кроме самих героев, с их деформациями восприятия мира, никто в ней не повинен; если трагедия, то герои в ней — неповинны, а виновата — судьба, среда, обстоятельства, случайность, кто угодно, только не они! Думается, в глазах действующих лиц, очевидцев событий (кроме, разве что, простодушно-трезвого реалиста Максим Максимыча, а может, отчасти, и Печорина!) — это трагедия [4]! В оценке автора (а априорно — и читателя, поскольку он, предположительно, по умолчанию, видит события глазами автора), очевидно, что это драма! Но ракурс видения и оценок все время смещается, двоится. Что это, релятивизм автора, свидетельство равнодушия, бессилия, не достойный волевого лица? Скорее, автор стремится объемно, в разных ракурсах увидеть картину, диалектическую сложность жизни, ее динамику.
*Жизненная и литературная коллизии поэтов свидетельствуют, что они гибелью героев (угаданной своей) предупреждают нас: опасно искушать Небо, судьбу или Провидение; сами при этом поддавшись ее (то есть своих страстей) искушению. Риск даже не в утрате жизни земной (не самая великая из утрат!), а в вечной погибели души. Есть резон быть благодарным Дарителю! Этому близок Пушкин: поэт — «не пророк, а угадчик». К этому шел Лермонтов, но в какой-то момент «заигрался» с ниспосланными дарами: жизнью, талантом, смертью. И обжегся; надо думать, в урок себе. Христос (как личная «судьба» каждого) — милостив, прощает даже хулу в Свой адрес при условии хоть минутного раскаяния. Дар же искреннего покаяния был присущ обоим поэтам.
Если сопоставлять путь поэтов во времени, то очевидно, что Лермонтов перед гибелью приблизился к тому, к чему Пушкин пришел в его же возрасте, начав с «Годунова», первых глав «Онегина», с «Пророка» (1826).
И вот вопрос: Печорин скучает или тоскует, томится по утраченному идеалу? Повторю: забавляется своим несчастьем (старец Зосима), неверием. И другой вопрос: его смерть — не от истощения ли сил без подпитки извне, не духовная ли? Блок назвал ее «второй смертью», окончательной. В этом заключена большая правда, духовное прозрение гения.
Выходит (у поэтов), то, что зовут судьбой (вернее, Провидением), вступает с нами в свободно игровые, напряженные эросно-личные отношения? Значит, личность с эросом и смертью связана промыслительно, провидчески (вспомним у Пастернака: «То прежний голос мой провидческий Звучал не тронутый распадом»). Всякая личность связана с Провидением (не Предопределением, католическим коррелятом Рока) через Любовь (в том числе эрос, пол) и Смерть (распад). Вопрос лишь в том, позволяем ли мы стихиям, страстям овладеть нами? Надо думать, наши поэты обрекли себя утрате лишь земной жизни.
Итак: 1. У авторов все — немного фаталисты, игроки, каждый в своем амплуа, независимо от происхождения и веры, уровня воспитания и образования: волюнтарист Вулич (человек судьбы, восточный рационалист), скептик-петербуржец Печорин. Каждый из них по-своему совмещает рацио и иррацио, в виде противоречия или достаточно цельно, как Максим Максимыч — фаталист из «народа» (рассудителен, не входит в вопросы метафизики). Это можно отнести и к автору, иначе он не был бы поэтом! Всем им близки авантюры в духовной сфере и в быту, ибо фатум не обязательно предполагает слепую покорность и смирение; наоборот, может провоцировать бунт и своеволие. Скорее, это благоприятная почва для перепада из одной крайности в другую. О чем и свидетельствует вся наша история, ее литературно-художественные и социально-политические сюжеты.
2. Остается вопрос, есть ли судьба, и что же она такое (хотя бы в восприятии наших авторов-гениев, как мы ее сумели понять у них). Думается, судьба — в нас, это мы сами, с нашими характерами, страстями, интересами, предпочтениями, мировосприятием, отношением к миру. И чуть-чуть сверху для приправы — отношение к нам: любящее (Бога) или равнодушно-зеркальное (мира); кому как больше по вкусу. А вопрос наличия судьбы как закономерности в этой проекции становится риторическим, праздным. Эта простая аксиома выражена в заповедях — возлюби Бога своего (как Он возлюбил мир, ибо Бог есть любовь) и возлюби ближнего своего (как себя). Это труднодостижимый абсолют, Кантов категорический императив, как его же звездное небо над головой и моральный закон в нас. Народ говорит еще проще: как ты к миру, так и он к тебе; как аукнется, так и откликнется.
Все остальное остается на долю случая; порой он на удивление избирателен (шельму метит), порой бездушно слеп (обходя нас и одаряя ту же шельму)! В случае его слепоты стоит задаться не вопросом — почему, за что? А вопросом зачем, для какой цели? Ибо первый вопрос обращает нас в глухое прошлое, замыкает в нем; второй открывает нам перспективу будущего. Этому учит весь опыт человечества (культурный, исторический) и все религиозно-философские системы. Чему и как учимся, зависит от нас.
Р.S. Так выстраивается ценностно-смысловой ряд: Личность — Эрос — Танатос; и все это как спасительные, благодатные дары, за которые следует ответно благо-дарить Дарителя. Русские поэты в итоге к этому и приходили. В этом заключен их реализм «в высшем смысле» (Достоевский), то есть в свете евангельской истины. Ибо Истина — в Личности, лишь личность истинна, и Истина, как и бытие, личностна. Это тождества; вопрос скрыт в уровне личности — Бого-человеческой и «человеческой, слишком человеческой (как с горечью констатировал Ницше). Грань между ними (как между христианством и эллинством) как будто подвижна, трудноуловима, но непреложна!
Для русских классиков (от Державина до Булгакова и Пастернака) эти постулаты (а не условная догма и шаткая, наполовину с сомнением, вера) абсолютны; в них — смысл их творчества и существования. Этим даром они сильны, гениальны, неповторимы.
Для них личность — единственное чудо, и чудо первозданное, сотворенное. Персоноцентризм мира, приоритет, доминирование личностных начал (как онтологический принцип творчества и миротворения) скрыт в христоцентризме мира, в Христовом: «Аз есмь путь, и истина, и жизнь». Хочется думать, что мы хоть на йоту приблизились к разгадке авторского «фатума», приподняли завесу над тайной простой и неоднозначной, как сама жизнь, веры героев и творцов русской классики.
Восприятие судьбы как безличной категории присуще всей античной философии, то есть антропокосмизму, космоцентризму. Особенно оно окрашивает в багрово-пессимистические тона ее закат — системы эпикурейства (отнюдь, не жизнеприятия!), стоицизма, гедонизма, волюнтаризма и т.д. Можно сказать, что это своего рода античный апокалипсис, но в отличие от светлого, христианского, очень мрачный, поскольку за ним ничего не должно следовать (по крайней мере, в прежней парадигме мировосприятии), это финал окончательный и абсолютный.
Элементы этих систем в разной модификации пробуждаются и в Ренессансе как кризисе средневекового (схоластического) теоцентризма. В этой проекции и с этого момента начинается затяжная, долгая «осень средневековья», длящаяся и по сей день. Надо сказать, модерн XX века, тем более нынешний пост-модерн — очень слякотная пора, когда снег идет с дождем, на дорогах то гололед, то гололедица. Пора самая мерзопакостная. Самый разгар этого кризиса «ренессанса» пришелся на поздний романтизм (конец 30-х гг.), на котором не только Лермонтов ощущал себя неуютно и неустойчиво (отсюда пессимизм и мизантропия и его современника Шопенгауэра).
В этой атмосфере трудно оставаться жизнелюбом. Таковы истоки скепсиса и желчности «героя» эпохи. Но сам автор мучительно, с трудом, сквозь все неурядицы, но продирается к христианскому жизнеприятию. Симптомов начинавшегося выздоровления в его поэзии множество. И случись оно, мы имели бы поэта не меньше Пушкина. Но случилось иное. Заигрался ли он, проявил ли неосмотрительность, слишком ли хрупки были ростки нового? Надо сказать, Христа он мало чтил, Богородицу гораздо больше [5]. И произошло непоправимое. Но вот что утешает и вселяет надежду: Духа Святаго никто из русских писателей не похулил никогда и нигде, ни словом, ни делом. Значит, упование на вечное спасение остается. И нам остается молиться за посмертную их участь.
P.S.S. В ходе обсуждения доклада на международном конгрессе возник вопрос: почему автор назвал повесть «Фаталист», в единственном, а не множественном числе, или, например, не «Фатализм»? Последнее предположение было отвергнуто сходу, так как Лермонтов творил художественный, а не научный текст. По поводу же единственного числа было высказано резонное мнение, что у автора могла возникнуть параллель с зарождающимся натурализмом, позитивистски тяготеющим к типажности как способу отражения реальности, что вписывается в общий его замысел — создать неповторимый и обобщенный образ «героя нашего времени».
Примечания
1. Кстати, не у всех мусульман это «поверье» бытует, а только у так называемых джабриитов. Мутазилиты же полагают, что человек волен выбирать все, и независимо от Аллаха. Имамиты выбирают, примиряют их крайности, приводя в доказательство Коран (10:99): «Если бы Аллах пожелал, то уверовали бы все, кто живёт на земле. Ведь никто не уверует вопреки своему желанию, и ты [Мухаммад] не сможешь заставить верить в истину». Человеку предоставляется выбор, но он не означает независимости от Неба. Если все предопределено, то зачем бы понадобились пророки? А вот грехи установлены свыше в воспитательных целях!
2. «Поймите же и то, что Россия никогда ничего не имела общего с остальною Европою; что история ее требует другой мысли, другой формулы, как мысли и формулы, выведенных Гизотом из истории християнского Запада. — Не говорите: иначе нельзя было быть. Коли было бы это правда, то историк был бы астроном, и события жизни человеч. <ества> были бы предсказаны в календарях, как и затмения солнечные. Но провидение не алгебра. Ум ч<еловеческий>, по простонародному выражению, не пророк, а угадчик, он видит общий ход вещей и может выводить из оного глубокие предположения, часто оправданные временем, но невозможно ему предвидеть случая — мощного, мгновенного орудия провидения….» (А. Пушкин. 1830).
3. Путешествующий офицер, издатель Дневника покойного Печорина, фиксирующий свои наблюдения и рассказ Максим Максимыча, капитана. Прием восходит к «Повестям покойного Иван Петровича Белкина» и «Капитанской дочке» Пушкина, давшего сложную структуру повествователей. Этим опытом воспользуются Гоголь, Достоевский, даже Чернышевский. Прием, вообще, двойствен, полифункционален — и защищает автора от возможных нападок, снимая с него ответственность, и создает иллюзию достоверности. Но частная функция каждого повествователя уникальна. Авторы (через созданную ими разветвленную систему повествователей) как бы слегка подтрунивают над героями и читателем, простодушием, присущим нашей природе. Они ведут двойную игру; и вполне успешно.
4. И заметим, трагедия (жалобная песнь, вопль раздираемого преследователями козла, козло-пение, культовый жанр родо-племенного многобожия) не знает личной воли, свободы: чем активней герой пытается уйти от приговора судьбы, тем надежней в ней запутывается, как муха в паутине или патоке. Он обязан своей гибелью искупить вину всего Рода, родо-начальника, пращура, тотема, Отца! Поэтому трагедия должна была умереть вместе с язычеством. Но не умерла. Этого не произошло по многим причинам. Смерть обернулась трансформацией ее. Напомним, трагедия родилась из культа Диониса (страдающего и умирающего бога Аттики, восточного Средиземноморья). А в Палестине бытовал ритуал отпущения козла, носителя грехов племени, изгнания его в пустыню на съедение зверям. Это были языческие, по сути, жертвы искупления. Они ведут к культу козла Мендеса, ставшему истоком, знаком сатанизма 20 в.
Иное в Драме! Драма разделяет грех первородный (родо-племенной) и личный, а соответственно, и искупление — общее, в виде, болезней несчастий, смерти (вспомним логику обезличивания: человек смертен, Кай — человек, следовательно, неизбежно смертен и Кай!) и частное, конкретного лица за конкретное деяние. Исповедоваться следует не в соборном грехе (как мы любим), прячась за коллективную ответственность, а в личном! Только личность свободна и ответственна, иначе она — не личность, а часть безликой массы. Вина и воля, свобода и ответственность в грехе — персональны, как Крест (за исключением Воли Божией)!
5. Сравним: четыре молитвы Богородице и ни единого прямого поминания Христа в текстах! Борение с Отцом — прямое. Налицо личная обида! Ревность к Христу (зависть) питает гнозис, став истоком многих христоборческих ересей. Ею задеты Гоголь, Блок, Лермонтов. Таково частое на Западе противопоставление Христу — Иоанна Предтечи, Иоанна Богослова, апостола Павла; Марии Магдалины — Приснодеве.
Отдав голос за данное произведение, Вы оказываете влияние на его общий рейтинг, а также на рейтинг автора и журнала опубликовавшего этот текст.
Случай — орудие Провидения
16/07/2017
«…Но провидение не алгебра. Ум человеческий, по простонародному выражению, не пророк, а угадчик, он видит общий ход вещей и может выводить из оного глубокие предположения, часто оправданные временем, но невозможно ему предвидеть случая — мощного, мгновенного орудия провидения…»
А.С. Пушкин
Случайны ли «случайности»? Как они влияют на нашу жизнь и для чего?
Наверное, в жизни каждого человека были моменты, которые полностью изменили его последующую жизнь. Кто-то относит их на волю «случайного случая», порождённого из «хаоса» Вселенной, кто-то верит, что он сам своими действиями спровоцировал изменения, иной же относит их вовсе не к случайностям, а к тем объективно существующим закономерностям, которые человечество ещё не вычленило из общего хода вещей и не формализовало. Где же правда?
А правда в том, что Пушкин очень точно описал природу случая. Именно случай является той «лазейкой» для Надмирной реальности (Бога), через которую Она может как непосредственно, так и опосредованно влиять на развитие как отдельного человека, так и всего человечества через озарения Различением, не нарушая при этом данную Свыше с самого начала свободу выбора и возможность обрести свободу воли. При этом, на первый взгляд, «случайности» могут казаться неправильными, неприятными («Господи, за что??»), но правильно сделанные выводы способны «чудесным» образом изменить текущий ход вещей.
В моей жизни всё лучшее, что я сейчас имею, началось именно со случайностей: Виды деятельности, которыми я занимаюсь, Цели, к которым я стремлюсь, новые Знания, которые я постигаю, Друзья, Любовь, Вдохновение, Здоровье…
А как «случайности» повлияли на Вашу жизнь?
Рекомендации
1. Провидение — не “алгебра”… (15/02/2002).
Литературная статья
Выполнила ученица 9 класса МОУ СОШ №30
Балахнина Ольга
Руководитель Макеева Жанна Викторовна
Тема судьбы и случая в творчестве А.С. Пушкина
Провидение как категория исторической мысли Пушкина, как духовная, «умная» категория определяется в пушкинском размышлении от иного рода закономерностей и необходимостей математического и механического порядка и неожиданно сближается с незакономерным понятием случая; размышление венчается определением случая как «мощного, мгновенного орудия провидения». Картина вместе философская и поэтическая: Провидение представляется здесь какой-то живой духовно-стихийной силой, которой «нет закона», как ветру, орлу, сердцу девы и самому поэту: Дух дышит где хочет, и Провидение действует так же:
Зачем крутится ветр в овраге,
Подъемлет лист и пыль несет,
Когда корабль в недвижной влаге
Его дыханья жадно ждет?
Зачем от гор и мимо башен
Летит орел, тяжел и страшен,
На черный пень? Спроси его.
Зачем арапа своего
Младая любит Дездемона,
Как месяц любит ночи мглу?
Зачем, что ветру и орлу
И сердцу девы нет закона.
Гордись: таков и ты, поэт,
И для тебя условий нет.
Пушкинский случай – это понятие из человеческой жизни, в мире физическом случая нет, так только законы. Случай – непредсказуемое действие человека.
Люди эпохи, пережившие только что Наполеона и утратившие в новое время средневековый религиозный взгляд на историю, верили в произвол сильной личности, в сильное действие как решающий механизм событий. Идея случая оказывалась не пересечении-столкновении религиозно-провиденциального и иррелигиозного-волюнтаристского образов истории и могла служить тому и другому. В декабристских кругах считали, что сильное действие все может решить. Пушкин на это вскоре ответит «необъятной силою правительства, основанной на силе вещей». Пушкинская сила вещей – сила историческая и в качестве таковой способная действовать неодинаковым образом в разных пушкинских текстах: она была динамической силой, когда привела нас в Париж, и она же затем себя обнаружила тормозящей силой… Пушкинский итсторический фатализм – это проблема, но есть как полюс мысли («делать было нечего» — одна из любимых пушкинских повествовательных формул), но в гибком соотношении с иным полюсом свободного человеческого действия и внезапной непредсказуемости («случай»). Этому всевластию законов, которые «с железной необходимостью управляют фактами» (теория исторического фатализма), [у Пушкина] противопоставлена человеческая история и ее живые начала – возможности и случайности.
Судьба, случай, Провидение – если начать разбираться, как действуют эти силы у Пушкина и как они различаются, то окажется, что судьба близка к античному Року, … случай ближе к христианскому Провидению. Три эти силы действуют в мире Пушкина в гибком соотношении. Исполнение слова «судьба» исключительно разнообразно и представляет целый спектр, в границах которого судьба сближается с Провидением, но никогда с ним не совпадает. Пушкинская картина мира имеет философскую структуру в которой судьба и Провидение играют роль ориентиров как ее соотносительные языческий и христианский полюсы.
У Пушкина-лицеиста есть стихотворение «Послание к Юдину»… с неожиданно сильной концовкой:
В мечтах все радости земные!
Судьбы всемощнее поэт.
И заключительный стих «Цыганов» («И всюду страсти роковые // И от судеб защиты нет») не отменяет и не «снимает» ранней лирической декларации. А вместе ими определяется пушкинский диапазон темы судьбы. От судеб защиты нет человеку, но поэт стоит к ним как-то иначе… Поэт – свободная сила в противоборстве с судьбой. Соизмеримая сила, но – «всемощнее». Судьба в стихотворении «Послание к Юдину» есть олицетворение стихийно-языческих сил бытия, от которых «защиты нет», но которым человек-поэт может заявить «презренье»: «Сохраню ль к судьбе презренье?». Различение Провидения и судьбы проходит по пушкинским текстам:
Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу богословил…
………………………………………..
Молю святое Провиденье…
Судьбу он благословил – как нежданную, но осмысленную – последняя встреча с другом «перед заточением его»; но это была судьба, она сбылась, и только это слово может стоять на этом месте в этом стихе. Провидение он молит как разумную силу бытия, способную планировать возвратный дар того же утешенья другу в его несчастьи:
Да голос мой душе твоей
Дарует то же утешенье…
Итак, у Пушкина случай – «мощное, мгновенное орудие Провидения». Есть и другое – поэтическое – определение: «Случай – бог изобретатель». И третий случай: «-Случай» — сказал один из гостей.- Сказка»- заметил Герман». Обе реплики значат в устах персонажей не то, что они означают в пушкинском тексте: обе они отрицают друг друга и отрицают чудо — у Пушкина обе названные силы действуют в тайном единстве и подтверждают чудо – чудо как тайнодействие, решающее судьбу героев. Как они сами ее для себя неведомо выбрали (как Герман для себя неведомо выбрал пиковую даму вместо туза – «обдернулся»).
И еще определение случая – заячий тулупчик. Абрам Терц очень верно его выбирает как пушкинскую эмблему случая: «В том-то весь и фокус, что жизнь и невесту Гринева спасает не сила, не доблесть, не хитрость, не кошелек, а заячий тулупчик…». Случай осмысленно действует в виде заячьего тулупчика. Заячий тулупчик спас Петруше жизнь под виселицей как чистый случай (Савельич спас – напомнил злодею), но ведь действует здесь уже цепная реакция человечности. В «Капитанской дочке» случай разумно работает, он с человеком в контакте и помогает заслуженно. Случай, конечно, «подстерегает» («Нас всех подстерегает случай» — иное, позднейшее, не светлое пушкинское, роковое сознание), но не слепо. Благорасположения случая заслужить надо. Гриневым Пушкин дал пример единственно верного поведения в безвыходном положении, какое будет воспроизводиться постоянно в нашей истории – между двумя беспощадными силами, между которыми невозможен выбор и опереться можно только на человека в себе. В случае Гринева – прорвать этот круг и обратиться к внутреннему человеку в разбойнике.
25.11.2019 19:31
Тема судьбы в повести М. Лермонтова «Фаталист»
«…Случай — мощное мгновенное орудие Провидения»
А. С. Пушкин
«Фаталист» в «Герое нашего времени» финален; но весь роман выстроен не хронологически. Почему автор ставит повесть в конец, если событийно она должна быть в середине? — Она ключевая в раскрытии личности Печорина, теме, остро волнующей автора.
А тема эта — поиски смысла жизни, «быть или не быть?», по Шекспиру; и подана в виде вопроса: есть ли в жизни предопределение, судьба, рок? Или мы свободны? Роман не дает готовых оценок; автор, герои, читатель находятся в ситуации выбора. Автор, моделируя коллизию, ходом сюжета подводит нас к возможности личного ответа.
*Действие происходит в казачьей станице, на Кавказе. Автор находит предельно удачный вариант, чтобы показать героя в экстремальной ситуации. Война и карты — то, чем он увлечен. Игра в карты представлена на фоне войны, и война — как «игра» со смертью.
«Однажды, наскучив бостоном и бросив карты под стол, мы засиделись у майора С*». Завязался спор относительно мусульманского поверья, которое гласит, что «ход и исход жизни каждого человека извечно предопределены свыше и человек не властен ни в чем его изменить, выполняя в своей жизни лишь божественные предначертания».
Но у нас с судьбой свои отношения: нам ведома свобода воли, но мы предпочитаем верить тому, что позволяет уйти от ответа, возлагая вину на среду, Небо, другого; мы не хотим отвечать за себя.
Значит, Вулич, проверяя идею рока на себе, — фаталист? Но фатализм его питается жаждой поразить товарищей; что вызывает общее недоверие (в т.ч. исследователей, автора; его бесстрашие сомнений не вызывает). Игра со смертью закончилась, на сей раз, счастливо. Но как пишет Г.Мейер, герой бросил вызов року; и той же ночью был зарублен пьяным казаком. Так что «фаталист» оказался банально незадачливым «романтиком».
Кстати, Пушкин в «Выстреле» тоже разоблачает романтический облик Сильвио, но не так сурово, как Лермонтов. Тема тайны, игры случая сближает произведения. Вулич — серб; Сильвио же «казался русским», но носит иностранное имя. Оба решительны, замкнуты, горды. Сильвио ощущает себя орудием, воздаятелем, судией, но, поддавшись жажде мести, теряет лицо, даже смысл жизни; и «реабилитируется», лишь примкнув к повстанцам.
Авторы явно «играют» ситуацией и героями. Лермонтов в судьбе-случае выявляет некую логику. Вулич, отдавшись воле случая, оказывается беспомощен. Печорин, имея свою мнение, вроде, выступает сторонним наблюдателем. Но, будучи рационалистом, скептиком, и он невольно тяготеет к фатуму.
Можно сказать, что Печорин даже более фаталист, чем Вулич; хотя рациональное берет в нем верх, но тайна влечет скучающего героя. Он не в силах уверовать вполне, но и уйти от страстей, стихии «рока» не может. Он являет судьбу многих, став истоком их (и своих) бед.
Автор в ищущем смысл жизни герое отражает свое отношение к судьбе; вера и неверие раздирают душу обоих. Автор, угадав в дуэли с Грушницким, свою смерть, берет удар на себя, а герой, вступая в схватку с судьбой, временно одерживает верх. Ведь он еще нужен, чтобы сгубить Бэлу и разочаровать простеца Максим Максимыча. Но и он, в расцвете сил, настигнут роком на пути из Персии. Автор гибелью героев (и своей) нас предупреждает: опасно искушать судьбу; сам при этом поддавшись ее (т. е. своих страстей) искушению.
Выходит (по Лермонтову), т.н. судьба (вернее, Промысел Бога о нас) вступает с нами в напряженно личные отношения. Это и есть реализм в свете евангельской истины.
Я. С. Ерофеева
Опубликовано 25.11.2019 19:31 | Просмотров: 2488 | Блог » RSS