Обложка
1
Печатается по постановлению
Совета Народных Комиссаров СССР
от 22 августа 1945 г.
2
АКАДЕМИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК РСФСР
Институт теории и истории педагогики
К. Д. УШИНСКИЙ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
Редакционная коллегия:
А. М. Еголин (главный редактор),
Е. Н. Медынский
и В. Я. Струминский
Москва ~ Ленинград
1950
3
К. Д. УШИНСКИЙ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
том
10
Материалы
к третьему тому
„Педагогической
антропологии“«
ИЗДАТЕЛЬСТВО
АКАДЕМИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК
РСФСР
4
Составил и подготовил к печати
В. Я. Струминский
5
ОТ РЕДАКЦИИ
Материалы к третьему тому «Педагогической антропологии», впервые опубликованные в 1908 г. А. H. Острогорским, переиздаются в настоящем десятом томе собрания сочинений К. Д. Ушинского в значительно дополненном и измененном виде:
1. Они дополнены теми материалами, которые, несмотря на то, что они относятся именно к третьему тому, по разным причинам не были в свое время указаны А. Н. Острогорскому семьей Ушинского, предпринявшей разбор и издание этих материалов.
2. Опубликованные в 1908 г. материалы третьего тома проверены и исправлены по рукописям архива Ушинского, причем восстановлены те места рукописей, которые по цензурным или иным соображениям были опущены прежней редакцией, и установлено правильное чтение множества ошибочно прочитанных мест.
3. Расположение материалов, установленное издателями в 1908 г. более или менее произвольно, изменено в соответствии с высказываниями К. Д. Ушинского, причем в первом же разделе настоящего тома даны — а) неоднократные высказывания Ушинского о содержании и плане третьего тома, сделанные им за время печатания первых двух томов; б) разработанные Ушинским в 1869—1870 гг. варианты программ преподавания педагогики, в которых частью воспроизведен план напечатанных двух первых томов «Педагогической антропологии»
частью перспективно намечен план еще не написанного третьего тома.
6
Значительно дополненные как отрывочными выписками, так и более или менее обработанными статьями, включившие в себя непредусмотренный в издании 1908 г. раздел третьего тома — «Сжатый учебник педагогики» и систематизированные в согласии с общим построением всех томов «Антропологии», — материалы к третьему тому дают возможность с значительно большей определенностью и полнотой представить себе тот круг вопросов, разработкой которых предполагал Ушинский закончить свой фундаментальный
труд.
Конечно, это только беглые черновые записи, только схематические наброски для памяти, сделанные наскоро, недостаточно в литературном отношении оформленные и не сведенные к той единой и обобщающей центральной идее, которая помогла бы автору приняться за творческую обработку собранных им материалов. — Нужно пригнать поэтому, что и в таком, значительно расширенном составе материалы все же представляют собой только отрывки, которые не разрешают еще проблемы построения третьего тома в том виде, как
эта проблема намечалась и могла быть разрешена только Ушинским. Тем не менее редакция полагает, что и в настоящем, разрозненном и не сведенном в единое целое виде материалы третьего тома все же представят интерес для изучающих наследство К. Д. Ушинского и дадут возможность несколько ближе присмотреться к тем перспективам, которые им намечались для разработки заключительного тома его капитальной работы.
При чтении материалов третьего тома «Педагогической антропологии» необходимо учесть следующее:
а) в прямые скобки [ ] заключены пропуски в тексте, по разным соображениям допущенные редакцией издания 1908 г.;
б) в угловые скобки < > взяты места, прочитанные прежней или теперешней редакцией по догадке ввиду неразборчивого текста рукописей Ушинского.
7
При этом многочисленные, ошибочно прочитанные прежней редакцией места исправлены без всяких отметок;
в) неразобранные слова отмечены знаком = ;
г) в обычные круглые скобки ( ) петитом заключены вставленные прежней и сохраненные нынешней редакцией, явно пропущенные автором отдельные слова;
д) материалы, вошедшие в издание 1908 г., после сверки их с подлинными рукописями и соответствующих исправлений и дополнений, перепечатываются с двойной нумерацией для удобства сравнения с прежним изданием, если бы таковое понадобилось: сначала идет данный крупным жирным шрифтом порядковый номер отрывка, установленный для него в настоящем издании, а затем в скобках указываются номера этого же отрывка в издании 1908 г. (римской цифрой — глава, арабской — порядковый номер); при этом выяснилась
необходимость вторую половину IV главы в издании Острогорского, имеющую свой особый счет отрывков, считать V главой и, соответственно этому, V главу — VI-й, VI-ю — VII-й, VII-ю — VIII-й;
е) тексты, имеющие только один порядковый номер, впервые включены в состав материалов к третьему тому в настоящем издании: при этом тексты, взятые из уже опубликованных работ Ушинского, отмечаются в конце каждого отрывка указанием тома настоящего издания и страницы; тексты же, взятые из рукописей архива Ушинского, отмечаются указанием фонда их хранения в архиве Института литературы Академии наук СССР («Пушкинский дом»), а также в Центральном Государственном историческом архиве Ленинграда (ЦГИАЛ),
номера дела или рукописи и страницы, или номера папок, в которых хранятся те или иные рукописные отрывки;
ж) группировка материалов к третьему тому произведена согласно плану, данному в оглавлении. Однакоже нельзя считать, что положением отрывка в том или ином разделе исчерпывается его значение: необходимо учесть, что содержание большинства отрывков весьма разнообразно и в любом отрывке возможно найти указания
8
на материалы других разделов. Об этом можно уже судить по заголовкам, которые давал Ушинский своим заметкам. Множественность этих заголовков объясняется частью тем, что он предусматривал возможность воспользоваться одним и тем же отрывком в разных главах и томах своего труда, частью тем, что он по несколько раз пересматривал свои выписки и каждый раз делал вновь те или иные указания на тот раздел своего труда, в который отрывок может войти (добавления,
сделанные карандашом, сопровождаются при печатании краткой отметкой — кар.);
з) что касается заголовков разделов, по которым сгруппированы отрывки, то они даны составителем применительно к тем высказываниям относительно плана и содержания третьего тома, которые так или иначе сделаны были самим Ушинским.
9
О содержании
и плане
третьего тома
„Педагогической
антропологии“1
10 пустая
11
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ТРЕТЬЕГО ТОМА
«ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ»
1. В третьем томе мы изложим в системе, удобной
для обозрения, те педагогические меры, правила и на-
ставления, которые сами собой вытекают из рассмотрен-
ных нами явлений человеческого организма и челове-
ческой души. В этом томе мы будем кратки, потому что
не видим никакой трудности для всякого мыслящего
педагога, изучив психический или физиологический за-
кон, вывести из
него практические приложения. Во
многих местах мы будем только намекать на эти при-
ложения, тем более, что из каждого закона можно
вывести их такое же множество, какое множество
разнообразных случаев представляется педагогической
практике. В этом и состоит преимущество изучения
самых законов наук, прилагаемых к педагогике, перед
изучением голословных педагогических наставлений,
которыми наполнена большая часть германских педа-
гогик (т. VIII, стр. 55).
2. Значение навыка
в ученьи слишком ясно, чтобы о
нем нужно было распространяться… Но об этом, впро-
чем, мы скажем подробнее в нашей педагогике (т. VIII,
стр. 232—233).
3. Чтобы не быть вынужденным излагать сложные
психические явления наравне с простыми и объяснять
сложные прежде, чем будут объяснены простые, мы вве-
12
дем еще одно разделение, которого в психологиях обык-
новенно не бывает, но которое, как нам кажется, мо-
жет иметь место в антропологии, а именно: мы выделим
из психических явлений те, которые, судя по аналогии
наших действий с действиями животных, свойственны
только одному человеку. Для этих явлений мы назначим
особый, последний отдел, под названием явлений духов-
ных, в отличие от явлений душевных, общих человеку
и животному, сколько
можно судить по аналогии. В этом
случае слову «дух», не пускаясь в философские умо-
зрения, мы придадим в отличие от слова «душа» только
значение собирательного имени для всех психических
явлений, свойственных одному человеку.
Таким образом, мы будем иметь в нашей антрополо-
гии три главные отдела: отдел первый, посвященный
явлениям телесного организма, мы уже окончили; ко
второму отделу, посвященному душевным явлениям,
приступаем теперь; а третьим отделом, отделом явле-
ний
духовных, закончим нашу психологию (т. VIII,
стр. 282—283).
4. Так как дар слова и дар идеи (означим их покуда
хотя под этим именем) идут из другого источника, а
именно духа человеческого, из тех особенностей, которы-
ми человек отличается от всего существующего (а мы
покудова говорим здесь только о животной душе, о тех
способностях и душевных процессах, которые общи и
душе человека и душе животного), то и не будем, сколь-
ко возможно, вдаваться преждевременно в те чисто чело-
веческие
особенности, которые в душе человека вносят
сильнейшее изменение в весь рассудочный процесс* об-
щий в своих основах и человеку и животному (т. VIII,
стр. 458—459).
5. Мы не говорим здесь о предметах искусства, или
вернее, о предметах художества, потому что это внесло
бы в наши рассуждения новый, чисто духовный элемент,
для рассмотрения которого у нас нет покудова никаких
данных (т. VIII, стр. 484).
13
6. Мы не будем здесь входить в подробности прило-
жения рассудочного процесса к различным областям
знаний, что найдет себе место в «общей дидактике»
(т. VIII, стр. 602).
7. Вопросы или задачи, выходящие откуда-то изну-
три человека и проявляющиеся так дико на первых сту-
пенях рассудочного развития, не дают остановиться
этому развитию (как останавливается оно у животных)
и ведут его все вперед и вперед.
Мы, конечно, не будем здесь входить
в объяснение
происхождения религиозных, нравственных и эстетиче-
ских стремлений в человеке, хотя эти стремления и при-
дают особый характер его рассудочному процессу: это
составит содержание третьей части нашей «Антропо-
логии» (т. VIII, стр. 638).
8. Таким образом, мы признаем два источника стре-
млений: один — телесный, т. е. наш растительный орга-
низм со всеми его органическими потребностями, а дру-
гой — душевный, т.е. душу с ее неиссякаемым стремле-
нием к сознательной
деятельности. Оба эти стремления
вместе составляют одно общее, всеобнимающее собой
стремление — быть и жить. Для тела важно быть,
для души же — жить. Существование без жизни не
имеет для души никакого значения. Далее мы откро-
ем еще третий источник стремлений в тех особенностях,
которые свойственны только душе человека и совокуп-
ность которых мы называем духом; но признав этот тре-
тий источник уже теперь, мы затруднили бы наше ис-
следование; а потому, предоставив себе
впоследствии
рассмотреть духовные стремления человека, мы взглянем
теперь на происхождение чувствований из первых двух
источников: стремлений, выходящих из потребностей
тела, и стремления, выходящего из единственной по-
требности души (т. IX, стр. 98).
9. О сострадании душевном, или лучше сказать,
духовном, возникающем из идеи общности человече-
14
ской природы, мы должны говорить, конечно, в третьем
отделе нашей книги, здесь же мы говорим о сочувствии
нервном (т. IX, стр. 135).
10. Если бы человек не обладал даром слова, духов-
ную основу которого мы узнаем далее, то нервное сочув-
ствие и воплощение чувствований в крике, в мимике и в
телодвижениях были бы единственными средствами ду-
шевного общения между людьми (т. IX, стр. 140).
11. Мы должны будем возвратиться к этому пред-
мету
в третьем отделе нашей антропологии, где будем
говорить о происхождении человеческого языка — этой
видимой черты, отделяющей человека от животного; но
и здесь уже мы сочли необходимым указать на то, каким
образом обширная система воплощения чувств, кото-
рой творец одарил человеческий организм преимуще-
ственно перед всеми другими организмами и которую че-
ловек, без сомнения, еще развил употреблением, кото-
рой он, наконец, овладел посредством многочисленных
опытов,— сделала
возможным не только симпатиче-
ский язык чувства, язык, общий человеку и животному,
но и послужила телесным основанием для дара слова,
духовной основой которого является самосознание,
свойственное только душе человека (т. IX, стр. 152).
12. К этим двум видам (органическим и душевным
чувствованиям) мы могли бы присоединить еще чув-
ствования духовные, т. е. по нашему определению духа,
такие, которые свойственны только одному человеку;
но чтобы облегчить себе анализ, мы все
эти чисто челове-
ческие психические явления относим к третьей части
нашей антропологии, хотя и не можем везде строго вы-
держать этой системы (т. IX, стр. 153).
13. Отделение чувствований душевных от духовных.
Слово душевный отделяет для нас изучаемые нами чув-
ствования как от органических, о которых мы гово-
рили выше, так и от духовных, о которых мы будем
15
говорить в конце нашей антропологии. К духовным чув-
ствованиям и духовным чувственным состояниям мы от-
носим не только такие, как, напр., чувствования права,
чувствования эстетические, но и те сложные психиче-
ские явления, в которых особенности душевные пере-
мешиваются с особенностями духовными. Так, напр.,
чувствование гнева есть явление душевное, а чувствова-
ние мести, в котором гнев является таким сильным эле-
ментом и которое потому
психологи большей частью по-
мещают рядом с чувствованием гнева, есть уже явление
духовное, так как в нем к чувствованию гнева присое-
диняется чувствование права. Конечно, мы не можем
выдержать во всей строгости такого деления и, пояс-
няя примером то или другое чувствование, будем при-
водить и такие психические явления, которые свой-
ственны только человеку; но тут же всегда укажем на те
общие душевные элементы, которые именно занимают
нас в этом отделе (т. IX, стр. 159).
14.
Бенеке старался построить общую людям нрав-
ственность (Lehrbuch der Psychologie, § 248); но, как мы
увидим в своем месте, эта попытка Бенеке оказалась
вполне неудачной. Еще яснее для критики высказана
эта неудачная попытка у Диттеса, одного из ревностней-
ших последователей Бенеке (Das Aesthetische, von Dit-
tos, § 5) (т. IX, стр. 165, примеч.).
15. Мы разделяем все чувствования на три рода:
а) органические, б) душевные, в) духовные, из которых
рассматриваем здесь только
душевные, так как наблю-
дение над органическими может быть только отрывочное,
а наблюдение над духовными предстоит нам в 3-й части
нашей антропологии (т. IX, стр. 171).
16. О чувстве раскаяния нам придется еще говорить
в третьей части нашей антропологии (т. IX, стр. 232).
17. Этот новый психический элемент (вера.— Ред.)
принадлежит только человеку, а потому и будет нами
16
исследован только в третьей части нашей антрополо-
гии. Здесь же мы берем его как готовое, всяким испы-
танное состояние души (т. IX, стр. 266).
18. Обратившись к изучению стремлений, как ис-
точника появления и разнообразия чувствований, мы
группировали все стремления, обнаруживаемые чело-
веком в его чувствованиях, желаниях и поступках, в
три вида: стремления телесные, душевные и духовные.
Отчислив к стремлениям духовным все, обнаруживае-
мые
только человеком, как-то — эстетические и нрав-
ственные, и, предположив заняться ими в особой, по-
следней части антропологии, мы обратились к изучению
двух первых видов стремлений: телесных и душевных
(т. IX, стр. 303).
19. Ни воспоминание, исходящее из идеи, ни жела-
ния, исходящие из самосознания, невозможны для жи-
вотных, как мы увидим это ниже, но тем не менее и у
животных есть и воспоминания и желания (т. IX,
стр. 340).
20. Так как деятельность души сама по себе
есть
только удовлетворение врожденного ей стремления
к деятельности, то мы можем сказать, что в создании
этой страсти (любви.-г-Ред.) участвовали окончательно
три деятеля: 1) стремления телесные, 2) стремления ду-
ховные (т. е. эстетико-нравственные) и 3) стремления
души к деятельности.
Первые два вида стремлений имеют свое определен-
ное содержание: они стремятся к одному и отвращаются
от другого; они хотят не всего безразлично, а именно
того, к чему стремятся; они не
удовлетворяются каким
бы то ни было представлением или каким бы то ни было
чувствованием или ощущением, но именно теми, недо-
статок которых и составляет содержание и* стремитель-
ности (голода нельзя удовлетворить водой и жажду су-
хой пищей, а эстетических стремлений — образами гряз-
ными и уродливыми). Совсем в другом отношении к
17
предмету удовлетворения находится стремление души
к деятельности: в одном этом стремлений душа удовле-
творяется всякой деятельностью, только бы эта деятель-
ность давала ей посильную работу (т. IX, стр. 345—
346).
21. Разделение душевных и телесных стремлений
имеет для психологии чрезвычайную важность. Только
им одним, как мы увидим далее, может быть объяснено
множество психических явлений и в особенности все те
извращения, которые
вносит душа в естественные стре-
мления или потребности тела и которые были бы совер-
шенно невозможны, если бы удовлетворение этих по-
требностей совершалось без вмешательства души и ее
особенных требований, как совершается оно в расте-
ниях. Кроме телесных или растительных стремлений и
кроме душевного стремления к жизни мы замечаем еще в
человеке особенные стремления, человеку только свой-
ственные, или яснее, замечаем в человеке такие явле-
ния, которых невозможно объяснить
ни из раститель-
ных стремлений тела, ни из душевного стремления к
жизни, и которые поэтому мы приписываем особенным,
человеку только свойственным стремлениям или, по
нашей терминологии, стремлениям духовным (т. IX,
стр. 390).
22. Все человеческие страсти и все чувственные со-
стояния человеческой души всегда имеют в себе нечто
особенное, свойственное только человеку, идущее из
его человеческих особенностей. Так, напр., наслажде-
ние может испытывать и человек и животное;
но радо-
ваться может только человек, потому что к радости не-
пременно примешивается наслаждение будущим, взгляд
вперед и притом в бесконечную даль. Как только-Же
мы увидим, хотя в отдаленном будущем, конец нашей ра-
дости, так она и начнет туманиться. Вот почему ана-
лиз чисто человеческих страстей и чувственных состоя-
ний может быть дан тогда только, когда мы исследуем
особенности человеческой души (т. IX, стр. 433—434).
18
23. Эту последнюю сторону кантовского учения (о
свободе воли.— Ред.) особенно развил Фихте, этот
философ личной свободы: у него человек должен посту-
пать нравственно уже потому, чтобы не подчиняться
деспотическим требованиям природы, а быть свобод-
ным.— Мы не будем приводить здесь всех этих великих
идей и показывать их психологическое происхожде-
ние: это относится к 3-й части антропологии (т. IX,
стр. 500—501).
24. Так как духовные
стремления будут рассмотрены
нами в 3-й части антропологии, то здесь мы можем уста-
новить только относительное значение стремлений
органических и душевного стремления к деятельности
(т. IX, стр. 519).
25. Для того, чтобы разобрать уклонения человече-
ской воли, которым мы дадим название заблуждений
воли, мы должны были бы прежде анализировать те
особенные свойства, которыми отличается человеческое
стремление к деятельности; тогда только мы могли бы
оценить, насколько
та или другая цель в жизни может
вызвать душу человека на деятельность, соответствую-
щую ее особенным требованиям, чисто уже человече-
ским. Это же мы можем сделать только тогда, когда бу-
дем говорить об особенностях человеческой души. Здесь
же сделаем только легкий намек на эти анормальные яв-
ления (т. IX, стр. 524).
26. Чтобы узнать, какова та деятельность, к
которой стремится душа человеческая, мы, конечно,
должны изучить прежде особенности этой души, чем мы
и займемся
в третьем томе нашей антропологии (т. IX,
стр. 562).
19
ПРОГРАММА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КУРСА ДЛЯ
ЖЕНСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
27. ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ
Изучение педагогики предполагает уже некоторое
предварительное знакомство с устройством и законами
жизни и развития человеческого организма как телес-
ного, так и душевного. Другими словами, изучение пе-
дагогики предполагает уже некоторое предварительное
знакомство с физиологией и психологией. Без этого
сколько-нибудь рациональное преподавание педаго-
гики
невозможно. Но преподаватель педагогики в на-
ших женских учебных заведениях поставлен не в оди-
наковые отношения к этим двум приготовительным
предметам. Сам он, по большей части, не имеет таких
познаний в физиологии, чтобы мог принять на себя
обязанность излагать ее с тою основательностью, с ка-
кою может сделать это специалист-естествоиспытатель,
который, без сомнения, и есть в каждом высшем жен-
ском учебном заведении, где преподается педагогика.
Но так как специалистов
по психологии у нас нет, то
преподавателю педагогики придется самому ознако-
мить учащихся с этим основным для педагогики предме-
том. Вот почему, по крайней мере, до тех пор пока у нас
не будет высших педагогических заведений, в которых
излагались бы с одинаковой полнотою для одних и тех
же слушателей как физиология, так и психология, я
считаю полезным совершенно отделить физиологиче-
скую часть педагогики и поручить ее чтение отчасти
преподавателю физиологии, а отчасти медику,
присоеди-
нив курс физического воспитания к курсу гигиены —<
20
столь необходимой для будущих хозяек и îiaftpeft» От
хозяйки и матери, главным образом, зависит здоровье
семейства, и совершенное незнакомство наших женщин
с самыми основными правилами сбережения здоровья
является, без сомнения, одной из главнейших причин
множества болезней и хронических расстройств орга-
низма. Естествоиспытатель должен бы излагать курс
физиологии с той практической целью, чтобы сделать
для учащихся возможным рациональное
понимание
гигиенических правил; эту же цель должен бы иметь и
преподаватель физики, вводящий в свой курс неко-
торые из химических познаний, так как химия в жен-
ских учебных заведениях отдельно нигде не преподается.
По моему мнению, преподаватель естественных наук в
женских учебных заведениях не должен никогда вы-
пускать из виду, что все эти науки, кроме своего общеоб-
разовательного значения, должны иметь своею специ-
альною целью отчасти и насколько возможно уяснение
рациональных
правил хозяйства, но всего более ра-
циональных правил гигиены, к которым сами собою от-
носятся и правила физического воспитания, составляю-
щие только особый отдел гигиены. Чтение же гигиены
я полагаю необходимым поручить тоже специалисту,
т. е. медику, ибо только специалист-медик может из-
лагать этот предмет с должною основательностью. За-
мечу при этом мимоходом, что при чтении гигиены деви-
цам встречаются часто такие предметы, о которых муж-
чине говорить с девицами
несколько щекотливо, и в этом
случае женщины-медики могли бы оказать существен-
ную пользу и женским учебным заведениям, да были бы
полезны и при уходе за больными девицами в тех слу-
чаях, где, с одной стороны, вмешательство мужчины
оскорбляет стыдливость, столь драгоценную в женщине,
а с другой — совершенное невежество в медицине сиде-
лок и классных дам бывает часто гибельно для детей.
Конечно, на это можно возразить, что женщин-медиков
покуда все еще нет или очень мало,
но если бы указать
такую цель изучению медицины женщинами, то нет со-
мнения, что через семь или восемь лет в каждом сколько*
21
нибудь значительном женском учебном заведении могла
бы быть своя преподавательница гигиены, которая в
то же время могла бы занимать или должность классной
дамы* или должность смотрительницы за лазаретом, где
есть лазареты. Изложение же правил физического вос-
питания преподавателем педагогики, если он в то же
время не физиолог и не медик, что может случиться
оченъ редко, будет всегда не только бесполезно, но даже
отчасти и вредно, заменяя
общими фразами действитель-
ные знания, основанные на началах науки.
Вот причины,, побуждающие меня вовсе исключить
из представляемой мною программы педагогики отдел
физического воспитания. Я выпускаю этот отдел именно
потому, что сознаю вою важность его изучения буду-
щими хозяйками, воспитательницами и матерями се-
мейств. Я предпочитаю лучшим оставить в этом отно-
шении пробел совершенный, чем закрыть его ничего не-
значащим подбором фраз, который, не принося никакой
существенной
пользы, будет только скрывать суще-
ственный недостаток и отодвигать то улучшение, которое
рано или поздно, но без сомнения, войдет в систему жен-
ского воспитания.
Вот на каком основании я полагаю полезным начать
преподавание педагогики прямо с курса психологии в
связи с педагогическими выводами из психологических
законов и притом так, чтобы это был в то же время и курс
общей педагогики, за которым уже должна следовать
дидактика — общая и специальная.
Само собою разумеется,
что такой курс должен быть
начат с физиологического обозрения, составляющего
необходимое введение в психологию. Преподаватель
педагогики может не быть специалистом в физиологии,
но он должен быть настолько знаком с нею, чтобы по-
нимать отношение между психологическими и физиоло-
гическими процессами, насколько оно уяснено совре-
менною наукою. В таком физиологическом очерке де-
вицы, прослушавшие уже курс физиологии, встретят
много знакомого, по в курсе педагогики, или, лучше
ска-
зать, в курсе психологии, необходимо предшествующей
22
педагогике, физиологические истины будут иметь уже
особое значение, служа для уяснения тех психо-физиче-
ских процессов, с которыми беспрестанно имеет дело как
психолог, так и педагог.
После вступительной главы, посвященной общему
очерку человеческого организма, должна следовать
глава о питании и возобновлении сил, истрачиваемых в
психо-физических процессах, затем главы о восприни-
мающих чувствах и их деятельности: зрении, слухе и
т.
д., наконец, глава о мускулах и мускульных движе-
ниях как проявлениях человеческих чувствований и
человеческой воли. Этот физиологический очерк, по
моему убеждению, должен быть направлен к тому, чтобы
показать, с одной стороны, участие и способ участия
анатомических органов и физиологических процессов
в процессах психических, а с другой — к тому, чтобы
показать до очевидности ясно необъяснимость психиче-
ских процессов одними физиологическими и участие в
них нового, уже невещественного
агента, т. е. души.
Порядок психологического курса я решаюсь предло-
жить тот самый, которого держался я в обоих томах из-
данной мною книги «Человек как предмет воспитания».
Если я избрал в моей книге этот, а не другой какой-либо
порядок, то, конечно, потому, что он мне кажется
наилучшим. Конечно, книга моя не учебник, но и в
учебнике я предполагаю возможным следовать той же
системе, только выбрасывая полемику, в учебнике не-
уместную. В моей книге я старался критическими
разбо-
рами убеждать людей, принявших уже то или другое
мнение, но преподаватель педагогики, имеющий дело с
личностями, в которых не сложились еще определенные
педагогические убеждения, может излагать свой пред-
мет, не прибегая к полемике, и потому несравненно
короче.
Первая глава психологии должна быть, как я ду-
маю, посвящена вниманию (тому сосредоточению созна-
ния, при котором оно начинает действовать), ибо вни-
мание есть именно та дверь, черев которую проходит
все,
что только входит в душу человека из внешнего мира.
23
Изложив все особенности и условия деятельности вни-
мания, преподаватель легко уже выведет, во-первых,.
значение внимания при воспитании и, в особенности,
учении и, во-вторых, два различных вида внимания
(внимание активное и внимание пассивное) и значение
обоих этих видов в воспитании. Затем преподавателю
предстоит изложить те жизненные явления, которые
действуют или «вредно или благоприятно на развитие
активного и пассивного внимания в
детях. Перечислить
все эти явления, конечно, невозможно, но если уча-
щиеся ясно поняли особенности внимания и условия его
усиления и ослабления и если преподаватель в своих
беседах с ними приучил их верно понимать отношения
многих жизненных явлений к развитию или ослаблению
внимания, то они станут потом и сами без труда откры-
вать эти отношения. Такое приучение правильно отно-
ситься к жизненным явлениям с педагогической крити-
кой и есть, как я полагаю, главное назначение
практи-
ческого преподавания педагогики.
За главою о внимании должна следовать глава о па-
мяти. Важность этой психо-физической деятельности
для воспитания и, в особенности, для ученья очевидна.
Имея в виду такое важное педагогическое значение па-
мяти, педагог должен тщательно изучить все особен-
ности ее деятельности и все те различные виды сочетаний
представлений, посредством которых они удержи-
ваются в душе. Здесь недостаточно, чтобы преподава-
тель указал только
на эти различные виды (связь по
месту, по времени, по сходству, по противоположности,
по чувству, по рассудочному смыслу), но он должен на
каждый вид дать многочисленные примеры, так чтобы
учащиеся привыкли сами угадывать эту связь и откры-
вать ее в каждом данном явлении усвоения памятью.
Ясное понимание процесса памяти даст возможность бу-
дущей наставнице верно оценить значение как механи-
ческой, так и рассудочной памяти и понять их обоюд-
ную необходимость одной для другой;
только при таком
понимании будет наставница в своей педагогической
деятельности избегать обеих, одинаково вредных, край-
24
ностей, которыми так часто увлекаются даже опытные
преподаватели, а именно — крайности механического
зубрения, не превращающего понимания механически
усвоенных рядов представлений в рассудочные сочета-
ния, и крайности так называемого рассудочного разви-
тия без твердо усвоенного материала. Любая страница
любого учебника дает преподавателю возможность приу-
чать своих слушательниц отличать верно, что может быть
усвоено только механической
памятью, от того, что ус-
ваивается рассудочным процессом. При этом также пре-
подаватель укажет на те средства, которыми облегчается
и обеспечивается прочное механическое усвоение,
столь необходимое в каждой науке. Затем преподава-
тель должен систематически изложить как можно более
явлений вредных для памяти и благоприятных для нее
с целью приучить будущих наставниц к такой педаго-
гической оценке жизненных явлений. Тому же порядку
должен следовать преподаватель при изложении
дея-
тельности воображения и рассудка: сначала возможно
полное и ясное изложение самого процесса в многочис-
ленных примерах, а потом перечисление явлений, как
способствующих нормальному совершению разбирае-
мого психо-физического процесса, так и мешающих та-
кому совершению.
При изложении рассудочного процесса преподава-
телю, кроме того, необходимо придется войти в рассмот-
рение логических категорий, их составления и их зна-
чения. Конечно, человек рассуждает логически
не по-
тому, что изучил логику, но кто хочет детей приучить
рассуждать логически, тот должен ясно сознавать са-
мые законы рассудочного процесса. Я совершенно
убежден, что хотя старинное преподавание логики, по-
строенное на внешних аристотелевских основах, было
плохо, однакоже совершенное уничтожение преподава-
ния логики в средних учебных заведениях оставило в
них существенный, ничем не заполненный пробел. Те-
перь чаще, чем прежде, встречается даже и в печати, что
причиною
называется то, что есть не более как одно из
условий, а следствие смешивают с причиной или целью.
25
Понятия причины, следствия, условия, обстоятельства,,
категорий, умозаключений, правила, закона, признака
вида, рода, качества и т. п. суть такие понятия, с ко-
торыми беспрестанно приходится иметь дело воспита-
телю и преподавателю, желающему логически развивать
дитя.
По изложении умственного процесса следует перейти
к изложению процессов внутреннего чувства. Кто хо-
чет воспитывать дитя, тот должен иметь, по возможно-
сти ясное понятие
о зарождении и развитии любви, не-
нависти, гнева, страха л т. д., о том,чем они возбуж-
даются, подавляются, укореняются или ослабляются.
Порядок изложения должен быть тот же самый; сначала
ясное сознание самого чувствования в его отдельности,
поясненное многочисленными примерами, потом пере-
числение явлений, преимущественно из детской жизни,
как усиливающих, так и ослабляющих данное чувство-
вание и данное душевное состояние.
Дальше следует изложение простых и сложных яв-
лений
воли: желаний, наклонностей и страстей, способов
их развития и ослабления. В этом же отделе должно
быть разобрано значение педагогической дисциплины
вообще, поощрений и взысканий, в частности, ибо все
эти явления имеют своею прямою целью дать то или дру-
гое направление воле человека. После этого следует пе-
рейти к изложению высших, чисто человеческих особен-
ностей, дара слова, стремлений нравственных и эстети-
ческих и стремлений религиозных.
Слово во всем своем необозримом
развитии есть, без
сомнения, создание души человеческой, в котором выра-
зился не внешний мир, как он существует сам в себе,
а отношения этого внешнего мира к особенностям и по-
требностям души человеческой. При этом преподаватель
покажет, что слово не есть уже создание сознания, об-
щего и людям и животным, но самосознания, присущего
только человеку. Человек создал слово именно потому,
что мог обратить внимание на особенные свои душев-
ные процессы. Отсюда же выходит само
собою, что со-
знательное изучение законов слова есть единственный
26
путь, которым учащийся может быть введен в сознание
законов деятельности своей собственной души. В слове
Душа человеческая находит сферу для своей жизни,
Сферу, ею же самою созданную, и в слове же получает
она возможность изучать законы своей собственной дея-
тельности, как эти законы раскрылись до сих пор в жиз-
ни человека. Если будущая наставница ясно поймет
не только в общих выражениях, но и в частностях, на
Многочисленных примерах,
к пониманию которых она
Должна быть уже достаточно подготовлена преподавате-
лем русской словесности, что язык народа в его совре-
менном развитии есть живая сокровищница многовеко-
вой жизни народа, что в нем именно сложил народ все
результаты своей душевной жизни, следы своих мыс-
лей, чувств и желаний, со всеми их тончайшими оттен-
ками, то она оценит верно все значение хорошего, по
возможности, обширного и глубокого изучения и, по
возможности же, полного обладания родным
языком.
Усвоив же себе такую верную точку зрения на значение
родного языка для развития дитяти, воспитательница
получит верный критериум для оценки тех приемов, ко-
торые обыкновенно употребляются при изучении родно-
го языка, и того материала, который обыкновенно пред-
лагается при этом изучении. Что же касается собственно
приемов изучения родного языка, то они должны быть
изложены уже в частной дидактике.
Нравственное и эстетическое чувства составляют?
вторую великую
особенность человека, находящуюся
тоже в тесной связи с самосознанием. Никто, конечно,
не может требовать, чтобы в курсе педагогики учащиеся
были введены в глубочайшие основания права, нрав-
ственности и искусства, но тем не менее преподаватель
должен, по крайней мере, указать на те начала, которые
потом воспитательница будет развивать в своих воспи-
танниках; от этого зависят уже и те средства, которые
изберет она для развития этих гуманных особенностей
человека. Основания
права очень просты: «не делай дру-
гим того, чем бы ты сам был огорчен», но ясно, что та-
кое правило основано единственно на врожденном че-
27
ловеку чувстве полного равенства (перед лицом сове-
сти, конечно), равенства его собственной личности со
всякою другою человеческою личностью и на врож-
денном же человеку стремлении быть правым перед са-
мим собою. Вот почему гуманные отношения к окружаю-
щим нас людям (т. е. такие отношения, в которых мы
признаем себя «не выше и не ниже всех других людей»,
а равными им по общему нам всем человеческому до-
стоинству) есть именно та сфера,
в которой воспитывает-
ся в ребенке чувство правды и справедливости. Приу-
чить дитя вникать в душевное состояние других людей,
ставить себя на место обиженного и чувствовать то, что
он должен чувствовать, значит дать дитяти всю умствен-
ную возможность быть всегда справедливым. Но для
того, чтобы эта возможность превратилась в действи-
тельность, надобно, чтобы ребенок не только понимал
ясно свою неправоту, но чтобы для него было несносно
чувствовать себя неправым, т. е.
необходимо развивать
в ребенке способность самооценки и врожденное стрем-
ление к истинному, а не к кажущемуся только совер-
шенству. Верный взгляд на психические основания пра-
ва и справедливости уже сам по себе дает воспитатель-
нице возможность угадывать, каковы должны быть ее
собственные отношения к детям, и оценивать поступки
детей, а равно и приискивать средства укоренять в них
и развивать справедливость — эту глубочайшую ос-
нову гражданской жизни. Преподаватель, со
своей сто-
роны, должен на многочисленных примерах, взятых из
области детской жизни, приучить своих слушательниц
к критической оценке как обращения взрослых с детьми,
так и детских поступков.
Справедливостью не исчерпывается вся область нрав-
ственного, справедливость только требует, чтобы мы не
нарушали права других, как будто бы это право было
наше собственное; но нравственность требует, чтобы мы
во всяком данном положении деятельно стремились
выполнить то, что считаем
лучшим вообще, а не только
по отношению к нашим личным интересам или к нашему
личному чувству к тем, кого мы любим. Это стремление
28
к благу, к совершенству, к прогрессу также врождено
человеку, но от воспитания много зависит, заглохнет ли
это стремление или превратится оно в страсть, перед ко-
торою умолкнет голос личного интереса. От воспитания
также зависит, чтобы человек не сбился с дороги в этом
направлении и не насоздавал себе таких идеалов общего
блага, которые идут вразрез с историей человечества
или уже давно отжили свое время. Одна из главнейших
задач всего
образования именно в том и состоит, чтобы
вводить постоянно новые поколения в общее дело че-
ловечества в его бесконечном стремлении к абсолют-
ному благу.
Само собой разумеется, что от преподавания педаго-
гики, каким оно должно быть в женских учебных заве-
дениях, нельзя требовать высшей и трудно достигаемой
философской точки зрения, но тем не менее, в педаго-
гике более, чем где-либо, уместно свести к окончатель-
ному итогу результат усилия и стремления всех прочих
воспитателей
и наставников и помочь воспитательницам
понять именно то направление, которое хотели им сооб-
щить во всей системе их воспитания. До сих пор они
воспитывались, теперь же они сами приготовляются
воспитывать других; естественно, следовательно, что
они должны сознательно взглянуть на тот путь, по кото-
рому сами пришли и по которому хотят теперь вести дру-
гих. Вот почему требование, чтобы преподавателями пе-
дагогики были инспектора классов, совершенно рацио-
нально. Заведуя
всей системою образования в данном
учебном заведении, они более, чем кто-либо другой, мо-
гут свести его к одному результату в курсе педагогики
и, осветив разумною мыслью путь, пройденный их вос-
питанницами, осветить в то же время и тот, по кото-
рому придется вести других будущим воспитатель-
ницам. Окончанием курса общей педагогики должно
служить изложение психических основ религиозного
чувства в человеке. Религия есть не только учреждение,
основанное на сверхъестественном
откровении, но и со-
здание души человеческой. С этой последней точки зре
ния должен взглянуть на религию психолог и педагог,
29
предоставив догматическое изложение правил учения
откровенной религии специалистам в богословии. Пси-
хология и педагогика касаются христианства, насколько
оно объясняется из потребностей души человека, кото-
рая, по выражению Оригена (Августина), по существу
своему христианка. Богословие же вводит человека в
откровенную религию на основании своих собственных
начал. Религия как удовлетворение неумолкающей и
всеобщей потребности души человеческой,
как истори-
ческое явление, столь же древнее, как и само человече-
ство, не может не входить в круг психологического и пе-
дагогического курса. На обязанности педагога лежит по-
казать правильный способ удовлетворения и этой выс-
шей чисто человеческой потребности, показать психи-
ческие основы религиозного чувства, историю его разви-
тия в человеке, явления, способствующие его разви-
тию, и явления, его задерживающие, и указать при этом
на те крайности, в которые вдается
человеческая дута,—
крайности грубых предрассудков или бессмысленного
неверия, если врожденная ей потребность религии не
удовлетворяется как следует, т. е. истинными христиан-
скими верованиями.
Окончив общий курс педагогики в тесной связи этого
курса с психологией, преподаватель может уже перейти
к частному изложению дидактики, или правил искусства
сообщения знаний в приложении этого искусства к
предметам учения.
Дидактика может быть разделена также на общую и
частную.
В
общий курс дидактики должны войти: 1) правила
учения чему бы то ни было, основанные на психологи-
ческих законах, причем преподавателю остается только
соединить в одну общую систему советов и правил то,
что было 4уже рассмотрено при анализе душевных спо-
собностей и потребностей; 2) правила ученья и развития
детей до приобретения грамотности, куда войдут и так
называемые фребелевские игры и занятия; 3) правила
обучения грамоте й введение детей в книжное ученье;
30
4) общий план всего ученья с рациональным оправда-
нием этого плана.
В частной дидактике должны излагаться правила
преподавания отдельных наук. При изложении препода-
вания каждой отдельной науки следует, как я полагаю,
изучить критически прежде всего самую программу
науки, конечно, в том объеме, в котором она была пре-
подана будущим наставницам. Предполагая, что буду-
щая наставница сама уже основательно знакома с тем
предметом,который
предстоит ей преподавать,я полагаю
для нее возможным с помощью преподавателя педаго-
гики составить на основании педагогической критики
рациональную программу предмета. Затем следует рас-
смотреть каждый из отделов этой программы и показать
те дидактические приемы, посредством которых дети
всего удобнее и основательнее могут усвоить себе эти от-
делы. Весьма полезно при этом случае брать какой—
нибудь один из лучших учебников данного предмета и,
разбирая его отдел за отделом,
показывать, что и как
должно быть уяснено детям, что может быть предоста-
влено их собственным усилиям, что должно быть твердо
усвоено механическою памятью и как обеспечить это ус-
воение, где должен работать преимущественно рассу-
док, где чувство, что может быть опущено, что должно
быть добавлено и т. п. В этом разборе учебников с точ-
ки зрения педагогической критики должны принимать
деятельное участие сами будущие наставницы (что будет
для них вполне возможно, если они
предварительно
усвоили основательный курс общей педагогики).
В заключение я считал бы полезным пройти краткую
историю педагогики, причем указать как на важнейшие
эпохи в ней, так и на самые замечательные сочинения
педагогического содержания.
10 июля 1869 г.
(Центральный государственный исторический архив в Ле-
нинграде (ЦГИАЛ), «Бумаги д. с. с. Вышнеградского»
(IV отделение с. е. и. в. канцелярии, опись 18, лит. В,
1869 г., д. 150, л. л. 119—130).
31
28. ПРОГРАММА ПЕДАГОГИКИ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ
КЛАССОВ ЖЕНСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Цель преподавания педагогики
Предмет педагогики как по цели своей, так и по
множеству входящих в него предметов, а равно и по
сродству своему с обширными науками, из которых
он черпает свое содержание, так громаден, что препода-
вание его в специальных классах женских учебных заве-
дений должно необходимо ограничиться осмотритель-
ным выбором педагогического
материала. При этом
выборе должно руководствоваться, во-первых, ближай-
шими практическими целями, для которых преподава-
ние педагогики введено в женские учебные заведения, и,
во-вторых, тем запасом подготовительных сведений, не-
обходимых для ясного понимания педагогики, который
можно предположить в слушательницах.
Практическая цель преподавания педагогики в жен-
ских учебных заведениях заключается, во-первых, в том,
чтобы развить в воспитанницах желание сознательно
заниматься
воспитательною деятельностью и открыть
им возможность понимать педагогические сочинения
и тем вести далее свое педагогическое образование, для
которого в учебном заведении могут быть положены
самые первые основы, а во-вторых, в том, чтобы дать
слушательницам возможность по выходе же из заведе-
ния с успехом, без тяжелых проб и грубых ошибок, за-
няться воспитанием и первоначальным обучением детей.
Что касается до подготовительных сведений, необхо-
димых для понимания педагогики,
то должно иметь в
виду, что воспитанницы специальных классов не одина-
ково относятся к двум основным для педагогики наукам:
физиологии и психологии. С физиологическими фактами
слушательницы специальных классов более или менее
ознакомились уже прежде, а потому преподавателю
педагогики остается только применить эти сведения к пе-
дагогическим выводам. Но так как психология не про-
ходится в женских учебных заведениях, то преподава-
32
тель педагогики по необходимости должен веять на себя
обязанность ознакомить своих слушательниц с психо-
логическими понятиями, служащими основанием для
педагогических правил, причем преподаватель, конечно,
никогда не должен терять из виду, что это ознакомле-
ние с психологией необходимо здесь только, для специ-
альной педагогической цели. Вот почему, излагая пси-
хологические понятия, преподаватель педагогики не
должен вдаваться в разбор
различных психологических
теорий, а брать только то, что уже окончательно добыто
и разъяснено наукой, и всякий раз показывать педагоги-
ческую приложимость той или другой психологической
истины.
Принимая в соображение все эти обстоятельства,
можно предложить в руководство для специальных клас-
сов женских учебных заведений следующую программу
педагогики.
Программа
Предварительные понятия и разделение
предмета
Воспитательная деятельность, как и всякая другая
разумная
человеческая деятельность, имеет: 1) свой
предмет, 2) цель и 3) средства.
1. Предмет воспитательной дея-
тельности. Понятие воспитания. Приложимость
воспитания только к организмам. Необходимость
познакомиться с организмом и его деятельностью.
Общее понятие об организме. Развитие как отличи-
тельный признак организма. Что такое развитие.
Развивающее воспитание должно быть тоже органиче-
ским, потому что имеет дело с организмом. Два
главные рода организмов: организмы индивидуальные
и
общественные. Воспитание также может быть инди-
видуальное и общественное. Вопросы общественного
воспитания не будут входить в курс, который, главным
образом, имеет своею целью воспитание отдельных
Личностей. Три рода индивидуальных организмов:
33
растение, животное и человек. Вся природа растения вы-
ражается в процессе роста. В животном к растительной
природе присоединяется чисто животная: чувство и про-
извольные движения как выражение чувства. К пище-
вому или растительному процессу и его органам присое-
диняются органы чувства и произвольного движения:
органы внешних чувств, мускулы и нервная система.
В человеке к органам и процессам растительным и жи-
вотным присоединяются
чисто человеческие особенности:
самосознание, или разум, и свободная воля. Отношение
педагогики ко всей этой сложности человеческого орга-
низма. Предметом педагогики является правильное раз-
витие человеческого организма во всей его сложности, в
его растительных, животных и чисто человеческих про-
цессах. Всякое развитие совершается во времени и
имеет свои периоды. Отличительные признаки перио-
дов человеческого развития: младенчества, детства,
отрочества, юности и возмужалости.
2.
Цель воспитательной деятель-
ности. Два вида этой цели. Воспитание индивида
для него же самого и воспитание в индивиде члена обще-
ственного организма. Взаимная связь этих обеих целей.
3. Средства воспитательной дея-
тельности. Материал развития, предлагаемый
воспитанием как пища телесная и душевная. Уход иди
руководство к восприятию и переработке этой пищи.
Учение как одно из самых сильных воспитательных
средств как по своей важности, так и по обширности
и разнообразию
своих правил излагается обыкновенно
в дидактике, или науке обучения. Дидактика бывает
общая, излагающая правила учения вообще, и частная,
излагающая правила обучения отдельным предметам.
Отсюда выходит разделение курса педагогики на
две части: на педагогику и дидактику.
Педагогика подразделяется также на две части; в
первой излагаются основания и правила физического
воспитания, во второй — основания и правила ум-
ственно-нравственного воспитания.
34
Педагогика
Часть первая: воспитание физическое. Общее поня-
тие о физическом воспитании. Важное его значение.
Необходимость изучения физических и физиологиче-
ских явлений для понимания требований и правил фи-
зического воспитания. Два вида физиологических яв-
лений в организме человека. Органы и процессы жизни
растительной, т. е. (имея в виду преподавание в жен-
ских учебных заведениях) исключительно один пищевой
процесс. Органы и
процессы жизни животной: мускулы,
органы чувств, нервная система.
1. Пищевой процесс. Его органы. Деятель-
ность органов. Материал пищевого процесса. Условия
правильного совершения: воздух, температура, свет.
а) Пища. Различные виды пищи. Пища раститель-
ная и животная. Различные виды той и другой. Значение
различных пищевых материалов для организма. Количе-
ство пищи. Своевременность питания. Различие пищи
по возрастам, по климату, по образу жизни, по особен-
ностям физического
организма. Следствия недостатка
пищи и дурного ее качества. Следствия излишества пи-
щи, следствия однообразия. Следствия слишком боль-
шого ее разнообразия. Педагогические правила относи-
тельно количества и качества пищи, а равно и времени
питания.
б) Воздух. Состав воздуха. Значение его в пищевом
процессе. Отчего портится воздух. Средства его возоб-
новления.
в) Температура. Значение температуры в пищевом
процессе. Влияние на организм слишком высокой и
слишком низкой
температуры. Приучение к выносли-
вости в этом отношении и его разумные пределы. Влия-
ние на организм быстрых перемен температур. Влия-
ние ветра, сухости и влажности воздуха. Разнообразие
климатических условий в России и необходимость сооб-
разоваться о ними. Жилье и одежда как средства про-
тиводействия вредным влияниям крайностей темпера-
тур и различным климатическим влияниям.
35
г) Свет. Его влияние на химические и физические
процессы в жизненных явлениях. Его влияние на ра-
стения и в особенности на детей.
2. Мускульный процесс. Значение мус-
кульной системы в организме. Устройство мускулов и
их деятельность. Необходимость мускульной деятель-
ности для нормального развития человека. Отношение
этой деятельности к пищевому процессу. Условия пре-
пятствующие и условия, благоприятствующие правиль-
ному развитию
мускулов. Оценка в этом отношении
образа жизни детей и детских игр. Гимнастика, преиму-
щественно детская, и ее педагогическое значение. Мус-
кульные движения как источник мускульных ощуще-
ний. Важное значение этих ощущений в душевном раз-
витии человека.
3. Деятельность органов внешних
чувств. Устройство органов внешних чувств, пре-
имущественно зрения и слуха. Деятельность их.
Условия препятствующие и условия, благоприятствую-
щие правильному развитию органов внешних
чувств.
Педагогические правила для правильного развития
органов зрения, слуха и осязания.
4. Нервная система. Устройство ее цент-
ральных органов и ее разветвлений. Деятельность нерв-
ной системы. Отношение этой деятельности к расти-
тельным и мускульным процессам. Различные особенно-
сти нервной деятельности: вялость ее, возбужденность,
нервное раздражение, нервное истощение. Опасные
следствия нервного раздражения и нервной бездеятель-
ности в детском возрасте. Дурное
влияние на нервную
деятельность некоторых пищевых материалов. Влия-
ние свежего воздуха, купания, гимнастики, различного
образа жизни детей, влияние умственной и влияние фи-
зической работы на нервную систему. Необходимость
общего отдыха в нервной деятельности. Сон. Его физио-
логическое значение. Его продолжительность в разные
возрасты. Необходимость частого отдыха нервной си-
стемы или необходимость разнообразия в нервной дея-
тельности. Нервные и мускульные привычки, или
на-
36
выки. Их приобретаемость в жизни и их наследствен-
ность. Врожденное настроение нервной системы как
врожденная основа человеческого характера. Разде-
ление в этом отношении людей по темпераментам. При-
знаки различных темпераментов. Значение различия
темпераментов в воспитательной деятельности.
Часть вторая: воспитание умственно-нравственное.
Отличие психических явлений от физических. Созна-
тельность как отличительный признак психического
яв-
ления. Взаимодействие души и тела. Два вида психи-
ческих явлений в человеке: психические явления низ-
шего разряда, общие человеку и животным, которые
следует назвать душевными в отличие от телесных, и
психические явления высшего разряда, составляющие
исключительную принадлежность человеческой души,
и которым следует усвоить название духовных.
А. Душевные явления
Три вида душевных явлений: I) явления познавания,
II) явления внутреннего чувства, или чувствования
III)
явления воли.
I. Познавательный процесс: 1) вос-
приятие, 2) память, 3) воображение и 4) рассудочный
процесс.
1) Восприятие. Психическая сторона в акте дея-
тельности внешних чувств. Внимание как необходимое
условие восприятия. Два вида внимания: произволь-
ное и пассивное. Переход произвольного внимания в
пассивное и наоборот. Важное значение внимания в
воспитательной деятельности. Условия, развивающие
силу и постоянство внимания, и условия, ослабляю-
щие его. Оценка
в этом отношении различных дидакти-
ческих приемов. Важное значение первых восприятий
в душевной истории человека вообще и, в частности,
значение их в умственном развитии и в учении. Что та-
кое наглядность в обучении. Ее необходимость при: пер-
воначальном обучении.
37
2) Память. Объяснение акта припоминания и заб-
вения. Припоминание непроизвольное и произвольное.
Как составляются представления из первых восприя-
тий и как сочетаются между собою. Различные виды
сочетания (ассоциации) представлений и преимуще-
ственное значение того или другого из этих видов в раз-
личных предметах учения. Постепенное осложнение
ассоциации. Память в младенчестве, в детстве, в отро-
честве, в юности и в зрелом возрасте.
Важное значение
памяти вообще в жизни и, в частности, в учении. Усло-
вия, способствующие развитию и укреплению памяти,
и условия, тому противодействующие. Разумная орга-
низация предметов учения как средство прочного усвое-
ния. Необходимость постепенности, последовательно-
сти и постоянства в учении. Необходимость повторе-
ний. Их психическое значение.
3) Воображение. Объяснение процесса воображе-
ния. Влияние на него нервной системы. Влияние мате-
риалов, усвоенных
памятью. Влияние воли. Особен-
ность воображения у детей и отроков. Влияние вообра-
жения на нравственную сторону человека. Условия,
способствующие и противодействующие правильному
развитию воображения. Педагогическая оценка в этом
отношении образа жизни детей, различного рода дет-
ских игр и занятий, а также сказок, романов, театраль-
ных зрелищ. Влияние учебной деятельности на вообра-
жение.
4) Рассудочный процесс. В этом отделе преподава-
тель должен познакомить своих
слушательниц не
только с ходом рассудочного процесса вообще, но и с
основными логическими понятиями, как потому, что
без знакомства с этими понятиями не может быть понят
сам рассудочный процесс, так и потому, что знание
законов логического мышления необходимо для тех,
кто хочет развивать в детях способность к логическому,
т. е. правильному, мышлению. Но так как логика у нас
не преподается в средних учебных заведениях — ни в
женских, ни в мужских, — то в этом отделе должно
быть
изложено:
38
Образование представлений ив первых восприятий,
или признаков. Значение признаков существенных и
несущественных. Образование понятий из представле-
ний. Суждение как процесс образования понятий. Рас-
суждение как процесс анализа или разложения поня-
тий. Значение умозаключений и различные их виды.
Различные отношения человеческого понимания к пред-
метам понимания: к предметам и явлениям природы,
к понятиям математическим, к явлениям душевным.
Три
источника человеческих знаний: природа, душа и
произвольные движения человека. В частности, должно
быть объяснено понятие предмета и явления, причины,
условия и следствия, закона и правила, цели, случая
и назначения. Процесс индуктивного и дедуктивного
мышления, в частности, их значение в учебной деятель-
ности. История постепенного образования рассудка
и различные влияния на эту историю. Значение слова
в рассудочном процессе. Условия способствующие
и условия, противодействующие
правильному раз-
витию рассудка. Оценка различных влияний в этом
отношении, и, в частности, влияние первоначаль-
ного обучения: обучения механического и развиваю-
щего.
II. Внутренние чувства, или чув-
ствования. Отличительные признаки этого психи-
ческого явления. Различное происхождение чувствова-
ний из органических причин, из хода сознательных
представлений. Воплощение чувствований. Нервное
сочувствие, нервная подражательность: значение их
в воспитательной деятельности.
Переход чувствований
в чувственные настроения ^уши. Как действуют на
чувства возбуждение и бездеятельность. Условия, уси-
ливающие данное чувственное настроение души, и усло-
вия, ослабляющие его. Как действуют на чувства возбу-
ждение и бездеятельность. Условия, усиливающие дан-
ное чувственное настроение души, и условия, ослабляю-
щие его. Оценка в этом отношении обращения с детьми
взрослых людей: кормилицы, няньки, прислуги, посто-
ронних лиц, воспитателей. Разделение душевных
чув-
39
ствований на: 1) сердечные, 2) умственно-сердечные и
3) умственные.
1) Виды сердечных чувствований: а) удовольствие и
неудовольствие, б) влечение и отвращение, в) гаев и
чувство доброты, г) страх и чувство смелости, д) чувство
стыда и чувство самодовольства.
2) Умственно-сердечные чувства. Отсутствие дея-
тельности в различных его степенях: скука, тоска, апа-
тия.
3) Виды душевно-умственных чувствований: а) чув-
ство различия и
сходства, б) чувство умственного на-
пряжения, в) чувство ожидания, г) чувство неожиданно-
сти в двух своих видах: чувство обмана и чувство удив-
ления, д) чувство сомнения и уверенности, е) чувство
контраста, ж) чувство успеха.
При изложении каждого вида чувствований должно
быть оценено его значение в жизни вообще и в детской
в особенности, условия, усиливающие или ослабляю-
щие данное чувство, и затем изложены педагогические
меры в этом отношении.
III. Явления воли.
Возникновение желаний
и различные источнику их. Процесс постепенной выра-
ботки желаний в убеждения и убеждений в решения.
Переход желаний в склонности, наклонности и страсти.
История образования человеческого характера. Зна-
чение идеи счастья, значение цели в жизни. Важней-
шие уклонения человеческой воли: слабость воли и за-
блуждения воли. При этом специально должны быть
рассмотрены склонность к лени, привычка к подража-
нию, к развлечению. Зарождение и укоренение этих
привычек
в детях. Здесь же должны быть изложены и
средства против лености, непослушания, капризов, а
вместе с тем оценено значение педагогических поощ-
рений и взысканий как средств противодействия слабой
или заблуждающейся воле дитяти. Из рассмотрения
истории воли и ее уклонений сама собою открывается
вся важность деятельности в детской жизни, а потому
здесь у места будет изложить все педагогические меры,
дающие пищу детскому стремлению к деятельности.
40
Б. Психические явления высшего порядка,
или явления духовные
Общее понятие об этих явлениях и самосознание
как отличительный их признак. Отношение самосозна-
ния к сознанию. Самосознание как источник разума.
Самосознание, или разумность, как общий корень всех
духовных чисто человеческих явлений. I. Дар слова.
II. Чувство художественное. III. Чувство нравствен-
ное. IV. Чувство религиозное.
I. Дар слова. Физиологические й психологиче-
ские
основания дара слова. Важное значение языка в
-умственном развитии человека вообще и дитяти в осо-
бенности. Развитие языка в человечестве. Логическая
и историческая связь языков. Отношение языка к ло-
гике. Развитие языка в индивиде и, в особенности, у
детей. Значение народного языка для индивида и, в осо-
бенности, для дитяти. Условия благоприятствующие и
условия, противодействующие развитию языка в детях.
Оценка в этом отношении различных влияний. Педаго-
гические меры,
способствующие правильному и обшир-
ному развитию дара слова в детях. Влияние изучения
иностранных языков на знание своего собственного.
II. Чувство художественное. Его
психические и физиологические основы. Его проявле-
ния в музыке, живописи, ваянии, поэзии, любви к при-
роде и человеку. Условия споспешествующие и усло-
вий, противодействующие развитию художественного
чувства. Поэтический элемент в воспитании. Оценка
различных поэтических произведений в и* влиянии на
душу
дитяти. Влияние занятий искусствами, и, в осо-
бенности, музыкой и живописью на общее развитие и
душевное настроение детей-*
III. Чувство нравственное. Психиче-
ские основы нравственного чувства и две формы его:
1) индивидуальное нравственное чувство, или чувство
правды и справедливости; 2) общественное нравствен-
ное чувство, или чувство нравственности в тесном
смысле.
41
1) Чувство правды и справедливости. Его психиче-
ские основы в чувстве личности и в чувстве равенства
личностей перед законом совести. История чувства пра-
ва и справедливости в детской душе. Оценка в этом
отношении влияний окружающей среды и обращения
взрослых с ребенком. Влияние обращения детей между
собою. Воспитательные меры для укоренения в ребенке
чувства права и справедливости.
2) Нравственное чувство в тесном смысле. Его
психические
основы в сознании свободы воли, следова-
тельно, вменяемости поступков, в стремлении к безгра-
ничной деятельности, в стремлении к самоусовершен-
ствованию. Совесть как мерило собственного совер-
шенства. История развития нравственного чувства в де-
тях. Жизненные условия и воспитательные меры в их
влиянии на развитие и подавление нравственного чув-
ства. Важное значение этого чувства в жизни человека.
Педагогические меры для правильного его развития.
Меры, возбуждающие подав
ленное нравственное чувство.
IV. Чувство религиозное. Психические
основы стремления к божеству. Стремление это вро-
жден о каждой человеческой душе. История раз-
вития этого чувства в душе человека. Условия, споспе-
шествующие и противодействующие развитию религи-
озного чувства.
Преподавание педагогики закона божия предостав-
лено в женских учебных заведениях духовным лицам,
а потому преподаватель общей педагогики должен огра-
ничиться только изложением мер правильного
развития
вообще религиозного чувства.
Дидактика
Понятие, о дидактике. Ее психологические основа-
ния. Ее важное значение. Разделение дидактики на об-
щую и частную.
I. Общая дидактика
Общее понятие об обучении. Учение как средство
воспитания. Практические цели учения. Два различные
42
виды учения: 1) учение пассивное посредством препода-
вания, 2) учение активное посредством собственного
опыта. Относительное значение каждого и необходи-
мость их соединения в каждом учении.
Преподавание в тесном смысле
слова. Необходимые условия всякого преподавания:
1) своевременность, 2) постепенность, 3) органичность,
4) постоянство, 5) твердость усвоения, 6) ясность, 7) са-
модеятельность учащегося, 
напряженности
и чрезмерной легкости, 9) нравствен-
ность, 10) полезность.
Общая организация учения. Необхо-
димость плана. Его правильность и практичность. Два
главные метода преподавания и изучения: 1) метод син-
тетический, 2) аналитический. Особенная приложимость
того или другого метода к разным предметам изучения.
Необходимость их соединения во всех предметах. Пра-
вильная организация знаний как результат соедине-
ния обоих методов.
Приемы преподавания: 1) прием догма-
тический^
или предлагающий. Предложение предмет-
ное и предложение словесное. Необходимые условия
того и другого. 2) Прием сократический, или спраши-
вающий. Его психическое значение. Правила катехиза-
ции. Прием эвристический, или дающий задачи. Прави-
ла задач. 4) Прием акроаматический, или излагающий.
Правила изложения. Особенная приложимость этих
приемов по возрастам и приемам учения. Необходимость
их соединения в каждом преподавании.
II. Частная дидактика
Предмет частной дидактики.
Ее значение. Измене-
ние правил общей дидактики различными предметами
преподавания.
1) Занятия, предшествующие книжному ученью.
Подробное изложение фребелевской методы и педаго-
гическая оценка ее значения. 2) Обучение грамоте. Раз-
личные способы. Педагогическая их оценка» 3) Обуче
43
ние родному языку и его грамматике. 4) Обучение
первоначальной арифметике и геометрии. 5) Обучение
первоначальному естествознанию. 6) Обучение геогра-
фии. 7) Обучение истории. 
искусствам: чистописанию, рисованию, музыке и пению.
При изложении дидактики каждого отдельного пред-
мета следует знакомить слушательниц с лучшими ру-
ководствами по этому предмету.
В заключение преподаватель мог бы изложить исто-
рию
замечательнейших педагогических систем и дать
критический разбор наиболее полезных педагогических
сочинений.
16 февраля 1870 г.
(Центральный государственный исторический архив в Ле-
нинграде (ЦГИАЛ), «Бумаги д. с. с. Вышнеградского»
(IV отделение с. е. и. в. канцелярии, опись 18, лит. Б,
1869 г., д. 150, л. л. 131-148).
29. ПРОГРАММА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КУРСА ДЛЯ
ДВУХ СТАРШИХ ОБЩИХ КЛАССОВ ЖЕНСКИХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Предварительные объяснения
В двух старших общих классах
женских учебных за-
ведений преподавание педагогики, конечно, не может
уже быть так основательно и обширно, как преподава-
ние того же предмета в специальных классах, слуша-
тельницы которых уже окончили общий курс образо-
вания. Кроме того, во втором общем классе, где должно
быть начато преподавание педагогики, только что на-
чинается преподавание физиологии, на которой, как из-
вестно, должны основываться все правила и советы по
физическому воспитанию детей. Вот почему,
приме-
няясь к этим обстоятельствам, мы должны изменить
и самый курс педагогики и довольствоваться сообще-
нием ученицам второго общего класса некоторых общих
сведений из психологии и тех основных понятий из ло-
гики, которые необходимы для составления себе пра-
44
вильных педагогических воззрений. Если бы мы дали
ученицам этого возраста только одно перечисление педа-
гогических правил, то они могли бы быть заучены на-
изусть, что не принесло бы девицам никакой пользы.
Но и самое изложение психологии, как бы ни было
оно элементарно, требует уже знакомства, по крайней
мере, с устройством органов чувств и хотя сколько-ни-
будь ясного представления о нервной системе. На этом
основании преподаватель педагогики
должен войти в
сношение с преподавателем физики и просить его по-
знакомить девиц предварительно, еще в третьем классе,
с устройством органов слуха и зрения и с их деятельно-
стью, хотя в общих чертах. Сам же преподаватель педа-
гогики познакомит своих слушательниц с отношением
этих органов к нервной системе.
Само собою разумеется, что курс психологии и ло-
гики, который мы предлагаем читать во втором общем
классе, может быть, конечно, самый элементарный и из-
влекаемый,
главным образом, из примеров. В пятна-
дцатилетнем возрасте уже возможно обратить внимание
на совершающиеся в нас психические явления, если
только, конечно, преподаватель сумеет указать на такие
явления, которые должны быть знакомы его ученицам.
Курс этот мы советовали бы назвать педагогической про-
педевтикой, или собранием тех элементарных сведе-
ний, которые необходимы для понимания педагогиче-
ских вопросов и сознательного чтения педагогических
сочинений.
Классы специальные
назначаются для будущих пре-
подавательниц, в общих же классах преподавание педа-
гогики имеет в виду только подготовить в девицах воз-
можность исполнять те педагогические обязанности,
к которым они могут быть призваны в семействах.
Ни возраст, ни знания учениц общего курса не пред-
полагают и возможности передать им сколько-нибудь
полный курс искусства воспитания, основанный на фи-
зиологических и психологических принципах. Препо-
давание педагогики в этих классах достигнет
всей своей
цели, если обратит внимание учениц на психологиче-
45
ские и физиологические процессы, условливающие те
или другие воспитательные меры, и подготовит девиц в
этом отношении настолько, что когда жизнь потребует
от них воспитательной деятельности, то они будут в со-
стоянии понять и оценить умный педагогический совет
или без больших усилий читать простое педагогическое
сочинение. Далее этого, как мы думаем, преподавание
педагогики не может итти в общих классах женских учеб-
ных заведений.
Сообразно
разделению курса на два года, мы и са-
мую программу нашу разделяем на две части: в первой—
помещаем педагогическую пропедевтику, а во второй —
дидактику с прибавочным курсом физического воспита-
ния и краткой истории педагогики.
Программа педагогического курса во втором общем
классе
Педагогическая пропедевтика
Общее понятие о душевных явлениях в отличие от
явлений физических. Какие явления следует призна-
вать душевными. Краткое перечисление этих явлений
с приведением
одного или нескольких примеров на каж-
дое. Два главные вида душевных явлений: 1) явления
собственно душевные, свойственные в большей или
меньшей степени всякому одушевленному существу,
и 2) явления духовные, свойственные только человеку.
Явления душевные в тесном смы-
сле. Три вида их: 1) Явления познавательные; приме-
ры. 2) Явления внутреннего чувства, или чувствования;
примеры. 3) Явления воли; примеры.
А. Явления душевные
I. Явления познавания
1) Восприятие и
образование пред-
ставлений. Физический и психический эле-
мент ощущения. Деятельность органов чувств, преиму-
щественно зрения и слуха. Сознание и его сосредото-
46
ченность или развлеченность, внимание и рассеянность.
Важное значение внимания, объясненное в примерах.
Внимание пассивное и активное. Причины внима-
ния и рассеянности. Средства, употребляемые для того,
чтобы развивать в детях способность внимания.
2) Память. Различные виды памяти в примерах.
Противоположность между памятью механическою и
рассудочною. Значение той и другой в ученье. Средства,
употребляемые для развития в детях памяти.
3)
Воображение. Два вида воображения:
пассивное, или мечта, и активное, или фантазия. Зна-
чение того и другого вида в душевной жизни человека.
Какие меры принимаются, чтобы в детях развить пра-
вильно воображение и подчинить его рассудку и воле,
т. е. превратить мечту в фантазии.
4) Рассудок. В этом отделе следует познакомить
учениц с основными логическими понятиями и при этом
как можно чаще прибегать к примерам. Образование
представлений из ощущений. Всякое представление со-
стоит
из признаков. Признаки показывают отношение
предмета к другим предметам. Образование общих по-
нятий из единичных представлений. Слова именуют
только общие понятия. Что такое суждение. Суждения
синтетические и аналитические. Отношение суждения
к предложению. Различные виды силлогизмов. Что
такое предмет и что такое явление в примерах. Что та-
кое условие, причина и следствие в отношении явле-
ния. Описание предметов и рассказ явлений. Из чего
слагается всякая наука. Науки
по преимуществу опи-
сательные и науки по преимуществу рассказывающие.
В каком отношении находится изучающий к тем и дру-
гим наукам. Особенность наук математических. Чем
усиливается рассудочная способность в детях и чем
ослабляется.
II. Внутренние чувства или чувствования
Отношение этих душевных явлений к явлениям по-
знавательным. Краткое перечисление различного рода
чувствований с несколькими примерами на каждый.
47
Важное значение чувствований для душевной жизни
человека. Отчего чувствования слабеют и отчего усили-
ваются. История развития в детях некоторых особенно
важных для человека чувствований: любви, злобы, гне-
ва, страха. Причины, развивающие и ослабляющие эти
чувствования в детях.
III. Явления воли
Явления воли в отличие от явлений познавательных
и чувствований. Происхождение желаний из стремле-
ний. Переход желаний в решимость. Образование
из
частных желаний общих склонностей, наклонностей и
страстей. Слабости воли и заблуждения воли. История
образования лености, непослушания, капризов. Как не
допускать их образования и как противодействовать им,
если они уже образовались. Значение поощрений и взы-
сканий. Важность самостоятельной деятельности в дет-
стве как именно той сферы, в которой образуется и
укрепляется хорошо направленная воля и вообще харак-
тер человека. Рассмотрение различных форм детской
деятельности.
Б.
Явления духовные
1) Дар слова. Значение дара слова для чело-
века. Отношение между логикой и языком. Различие
языков, их связь между собой. Развитие языка отдель-
ного народа. Значение народного языка для человека
вообще и для дитяти в особенности. Что способствует
ц что мешает правильному развитию дара слова в де-
тях. Влияние изучения иностранных языков на зна-
ние своего собственного, причем следует указать на
вредное влияние преждевременного изучения иностран-
ных
языков, и на пользу этого изучения, когда оно со-
вершается своевременно.
2) Чувство художественное, или эсте-
тическое. В чем проявляется у человека художествен-
ное чувство. Различные формы его проявления: скульп-
48
тура, живопись, архитектура, музыка, поэзия. История
развития художественного чувства в детях. Влияние за-
нятий искусствами и в особенности музыкой и живо-
писью на общее развитие и душевное настроение детей.
3) Чувство нравственное. В чем прояв-
ляется у человека нравственное чувство. Чувство
правды, справедливости и чувство нравственности.
Чем воспитывается и чем подрывается в детях чувство
правды и справедливости. История развития нрав-
ственного
или общественного чувства в детях. Важное
значение этого чувства в жизни. Чем поддерживается,
чем развивается и чем подавляется это чувство.
4) Чувство религиозное. В чем это чув-
ство проявляется у человека. История развития этого
чувства у дитяти. Что споспешествует и что препят-
ствует его развитию. Важное значение этого чувства в
жизни.
Программа педагогического курса
в первом общем классе
Дидактика
Разделение дидактики на общую и частную.
Общая дидактика.
Общие понятия об обу-
чении. Ученье как средство воспитания. Два вида
ученья: 1) ученье пассивное, посредством преподавания,
2) ученье активное, посредством собственного опыта уча-
щихся. Значение обоих этих видов изучения и необхо-
димость их соединения в каждом ученье.
Преподавание — в тесном смысле слова. Не-
обходимые условия всякого преподавания: своевремен-
ность, постепенность, органичность, постоянство, твер-
дость усвоения, ясность, самодеятельность учащегося,
сообразность
с силами учащегося, нравственность,
польза. Общая организация ученья. Два главные метода
ученья: синтетический и аналитический. Особая при-
ложимость того и другого метода в той или другой нау-
ке. Необходимость их соединения.
49
Приемы преподавания: 1) прием догма-
тический, или предлагающий, 2) прием сократический,
или спрашивающий, 3) прием эвристический, или даю-
щий задачи, 4) прием акроаматический, или излага-
ющий. Когда, где и как следует прилагать эти приемы.
Частная дидактика. Предмет ее.
1) Занятия, предшествующие книжному учению, и
при этом подробное изложение, так называемых, фребе-
левских занятий. 2) Обучение грамоте по различным
способам. 3)
Первоначальное обучение родному языку и
его грамматике. 4) Первоначальное обучение арифме-
тике. 5) Естествознанию. 6) Географии. 7) Обучение ис-
кусствам.
При этом следует знакомить учениц с лучшими учеб-
никами по каждому предмету.
Физическое воспитание
Когда ученицы в последних двух общих классах при-
обретут уже некоторые познания из физиологии, тогда
уже можно изложить им главнейшие правила физиче-
ского воспитания, разделив их по предметам так: 1) пра-
вила относительно
пищи, 2) относительно воздуха, 3) от-
носительно помещения и одежды, 4) относительно мус-
кульной деятельности и 5) относительно деятельности
нервной.
В заключение следует коротко познакомить девиц
с наиболее выдающимися личностями и направлениями
в истории воспитания и дать список замечательнейших
педагогических сочинений с кратким изложением зна-
чения и направления каждого.
18 февраля 1870 г.
(Центральный государственный исторический архив в Ле-
нинграде (ЦГИАЛ),
«Бумаги д. с. с. Вышнеградского»
(IV отделение с. е. и. в. канцелярии, опись 18, лит. Б,
1869 г., д. 150, л. л. 149—157).
50 пустая
51
Материалы
к третьему тому
„Педагогической
антропологии“
52 пустая
53
ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ТОМУ2
30 …Я, может быть, поступил дурно, не выяснив
прежде отношения моей психологии к философии, кото-
рая в настоящее время, после погрома гегелевской си-
стемы, представляет одни развалины. Но этим выясне-
нием отношения психологии к философии мне будет
всего удобнее заняться в предисловии к третьему тому,
так как в третьем томе отношение это уже само собой
установится.
Теперь же скажу только мимоходом, для
удаления
дальнейших недоразумений, что, по моему убеждению,
в настоящее время и сама философия может явиться
только посредницей между психологией и науками
природы. В настоящее время возможна только такая
философия, которая основывала бы постройку научного
мировоззрения, с одной стороны, на фактах, добытых
психическим самонаблюдением, а с другой — на фак-
тах, добытых наблюдением над внешней для человека
природой. Другой философии в настоящее время я не
понимаю. Если основать
философию на одних психоло-
гических фактах, то выйдет самый туманный и неопреде-
ленный идеализм; если основать ее на одних, извест-
ных нам, фактах внешней природы,— как это делает,
так называемая, позитивная философия, — то выйдет
как раз столько же туманный и столько же неопределен-
ный материализм; но в обоих случаях откроется обшир-
ное поле человеческой фантазии, оценка которой воз-
можна унес на основании правил поэзии или риторики,
54
а не на основаниях науки. Отправляясь от идеального
воззрения Гегеля и от позитивной философии Конта,
как бы забывшей самое существование психических яв-
лений, мыслитель одинаково удаляется от действитель-
ного знания и попадает уже в мир фантастических по-
строек, где величественнейшие дворцы выстраиваются
очень легко и скоро именно потому, что это дворцы кар-
точные.
Сохраняя за собой право в третьем томе выяснить
отношение моей
книги к различным физическим и пси-
хическим теориям, я предоставляю этот второй том здра-
вому смыслу читателя и прошу его не навязывать мне ни-
каких предвзятых мировоззрений.,, (т. IX, стр. 14—15).
31. …Предмет метафизики составляют именно те
противоречия, которые душа человеческая вносит как
прирожденные в свои опыты и руководится ими сна-
чала бессознательно. Так что метафизика будет глу-
бочайшей частью психологии — не более: эти вершины
психологического самонаблюдения
и здесь не более
как опыт, внутренний опыт; опыт над противоречиями,
вносимыми духом в свою собственную деятельность.
Вот почему предметы, каковы — причина, свобода,
случай, необходимость, бесконечное и конечное, сила,
субстанция, материя — всегда будут предметами ме-
тафизики. И так как без употребления, этих слов наука
обойтись не может, то не может она обойтись и без
метафизики. Бокль, Бэн, Милль восстают против мета-
физики, но тогда они не должны употреблять и этих
слов,
истинное объяснение которых только в метафи-
зике дается. Клод Бернар оспаривает понятие при-
чины, закона, явлений во «Введении к опытной ме-
дицине»… (т. X, стр. 65).
32. …Для познаний внешнего мира математич-
ность есть общий закон: что не доведено еще до воз-
можности быть выраженным в математической форме,
то еще не дозрело, значит. Представляя себе весь мир
движением, мы можем надеяться постигнуть только
55
законы этих движений, а законы движений — всегда
математика; вот почему это основной предмет для
всех постижений внешнего мира. Для внутреннего
же — что? — Психология (т. X, стр. 237).
33. …Пока логика не станет на принадлежащее
ей место в преддверии всех прочих наук, до тех пор
будет происходить та печальная путаница понятий,
которая обнаружилась вполне в настоящее время,
когда кажущиеся философские постройки мира уле-
тучились как
дым (т. VIII, стр. 600).
34. Надо в предисловии обратить первое внимание
на то, что в последнее время одностороннее направле-
ние науки на материальный мир поколебало так со-
знание права, нравственности, что воспитание сдела-
лось шатким. Оно покудова живет еще преданиями
старины, где же эти предания поколебались, а они ве-
зде, видимо, колеблются, там образовался нравствен-
ный хаос, который уже начинает приносить свои ужас-
ные плоды.
(Ф. 316, # 23 «Чувственные состояния
души».
Приведенная выше запись сделана на корке пере-
плета рукописи. — Ред.).
35. Теперь наука и мысль образованного класса на-
правлены к тому, чтобы оттиснуть человека в ряды жи-
вотных и животных в ряд растений, а растений в ряд
явлений неорганической природы; но когда это удастся
до возможной степени и доведет до абсурда, тогда, без
сомнения, начнется движение в обратную сторону:мысль
и наука направятся к тому, чтобы выставить отличия
явлений растительной жизни от
минеральной, живот-
ной от растительной, человеческой от животной. Теперь
же нам везде толкуют о сходстве и нигде о различии, хо-
тя здравый взгляд на жизнь, не потемненный теорией,
видит это различие. Но может ли воспитание пойти
за временным направлением науки? — вот вопрос.
(Ф. 316, № 69, «Записная книжка»» л* 7 об.).
56
Из черновых рукописей К. Д. Ушинского
57
Из черновых рукописей К. Д. Ушинского
58
Г. Психические явления высшего
порядка3
I. ФУНКЦИИ, ОТЛИЧАЮЩИЕ ЧЕЛОВЕКА ОТ
ЖИВОТНЫХ
1. САМОСОЗНАНИЕ
36. В первых же главах этого тома вы найдете л
разрешение показавшегося вам противоречия. Чело-
век не потому говорит, что обладает рассудком, кото-
рый есть и у животных, а потому, что обладает самосо-
знанием, т. е. способностью наблюдать свои собственные
душевные явления, чего нет у животных. Эта-то способ-
ность дает человеку
дар слова, свободу воли, нрав-
ственность, способность к самоусовершенствованию, к
прогрессу (т. XI, Письмо Ушинского к Корфу H. А#,
27.IX. 1870 г.).
37. Самосознание как один ив источников наших
знаний должно быть рассмотрено нами в третьем отделе
нашей антропологии, когда мы будем говорить об осо-
бенностях души человеческой; ибо, как мы увидим да-
лее, это есть главная черта, отличающая человека от
всех других живых существ. Но уже и теперь придется
нам для уяснения
себе рассудочного процесса рассмот-
реть происхождение некоторых знаний, проистекающих
как из сам осознания, так и ив опыта движений; ибо бее
этого многое в рассудочном процессе осталось бы для
нас непонятным. К таким знаниям причисляем мы
идеи: субстанций и признаков, материи и силы, причины
и следствия. Все эти идеи до того вплетаются нами в
каждый рассудочный процесс наш, что, не объяснив их
59
происхождения, мы не можем итти далее (т. VIII, стр.
524).
38. Рассудок есть плод сознания; разум плод самосо-
знания; сознанием обладают и животные, но самосозна-
нием обладает только человек. Вот почему анализ ра-
зума нам предстоит еще сделать тогда, когда мы будем
заниматься духовными особенностями человека: те-
перь же мы еще в сфере его животной жизни, из кото-
рой нас беспрестанно увлекают вперед те изменения, ко-
торые сделаны
в этой жизни духовными особенностями
человека (т. VIII, стр. 657).
39. Изучая мир, изучая собственную историю свою,
человек… сознает себя действительно только ор-
ганом мировой жизни и, освещая темный инстинкт све-
том идеи, ищет благоденствия не только других людей,
но и целого мира. Конечно, мы можем раскрыть это пре-
образование только тогда, когда будем изучать явле-
ния самосознания и следить за тем, как человеческая осо-
бенность преобразовывает в человеке все животные
ин-
стинкты, как она превращает в разумную идею все те
потребности растительных организмов, которые сказы-
ваются в животном инстинктивными стремлениями
удовлетворять своим пищевым и общественным потреб-
ностям, самой потребности которых оно не знает, но на-
стоятельность которых оно чувствует. Человек, как ц
животное, повинуется в этом случае только голосу при-
роды; но тогда как для животных этот голос только по-
нудительные звуки, для человека, по мере его разви-
тия,
голос этот превращается в понятное слово, а вместе
с тем и закон необходимости превращается в закон разум-
ный, выполняемый потому, что он разумен, а не потому
только, что ему нельзя не повиноваться (т. IX, стр. 84).
40. Самосознание
«Есть большое и прочное различие между сознанием
и самосознанием, между человеком, который просто
чувствует и действует вследствие чувстваt и человеком,
60
который самые эти ряды чувств и действий сделал уже
предметом любви и уважения, как будто бы это была
другая личность» (The Emotion, p. 131).
Нам кажется, что здесь Бэн просто начертил раз-
личие между человеком и животным, хотя он выше и
говорит, что бывают люди без самосознания, но это яс-
ная путаница понятий.
(Ф. 316, папки № 25, 26, 28, 29, 31).
41. Самосознание (Фрис)
Самосознание Фрис называет внутренним чувством:
«внешними
чувствами, говорит он, мы узнаем телесное
бытие вещей, внутренним чувством жизнь нашего
духа» (Fr., T. I, § 22, S. 73).
Это хорошо, но понятие его о деятельности самосо-
знания — самое смутное (ib., S. 74).
Мое. В самосознании к сознанию вещи прибав-
ляется сознание того, что это знание принадлежит
мне. Мы можем на себе проверить отдельность сознания
от самосознания: так, в крайней степени страсти мы не ду-
маем, что она нам принадлежит, теряем самосознание,
хотя сознание
остается,— делаемся животными. Чем
сильнее самосознание, тем сильнее и самообладание, ко-
торое из него вытекает. Человек должен заботиться,
чтобы всегда самосознание было выше всего незначи-
тельного. . •
(Ф. 316, папки № 25, 26, 28, 29, 31).
42. Самосознание
Бенеке отвергает, конечно, особенную способность
самосознания или внутреннего чувства (innere Sinne,
как его называют другие). Он видит в самосознании
только «особый род понятий различных психических
форм» (Erz.
и. Unterr., § 35, S. 141, Th. I).
Это верно; но способность образовывать такие по-
нятия о самых понятиях, чувствах, желаниях и есть
самосознание; способность чувствовать и сравнивать и
различать предметы своих ощущений есть сознание;
способность обращать мысль на саму себя, наблюдать
61
не предметы чувства, а само чувство; не только желать,
но и думать о собственном желании, — это и есть само-
сознание, корень свободы выбора, языка, психологии,
философии, логики, грамматики, эстетики.
При своем взгляде на самонаблюдение Бенеке есте-
ственно думает, что оно развивается очень поздно. Так
выше (ib., S. ИЗ, § 26) он говорит, что дети не имеют
сознания своего я и говорят —- «Карл хочет» и т. п.
до 3-х лет. Но это ясный вздор
— подражание няне и
маме, которые спрашивают — «хочет Карл чаю?».
Кроме того, если ребенку говорить и ты, то он может
долго еще не знать употребления слова я, ибо здесь ну-
жен перенос довольно трудный, слово же я, конечно,
не врождено. Но если уже ребенок говорит: «я хочу
пить», «мне больно», или даже «Карл хочет пить», то уже
значит самонаблюдение действует: дитя умеет отличать
одно свое состояние от другого и каждому давать настоя-
щее имя.
Избегая в этом отношении
аффектации и слишком
большого обращения внимания ребенка на самого себя,
Бенеке тем не менее требует, чтоб воспитатель забо-
тился о развитии в детях самонаблюдения, особенно в
женщинах, «о которых не напрасно говорят, что они
весь мир знают лучше, чем самих себя» (ib., S. 142).
«Воспитатель должен обращать внимание ребенка на
его мысли, чувствования, стремления. Дитя живет
почти только в настоящем; и воспитатель должен быть
памятью дитяти в данном отношении; напоминать ему
его
прежнее желание, напр., если та же самая вещь ему
надобна, и прежнюю досаду, если оно желает той же
вещи» (р. 142).
Если способность самонаблюдения возросла; то Бе-
неке советует повторение того, что делалось в продол-
жение дня, недели и т. д. (ib., 3. 143).
Все эти советы нам кажутся маловажными. Всего
больше развивается самосознание изучением языка
своего и иностранных; логикой; сочинениями; но днев-
ники — вещь полезная.
(Ф. 316, папки ДО 25, 26, 28, 29, 31).
62
43. Рассудок — сознание (кар.: самосознание)
Кант, желая провести границу между высшими и
низшими способностями человека, говорит: «соедине-
ние разнообразного никогда бы не могло произойти в
нас посредством внешних чувств (Sinne); всякое со-
единение есть самобытный акт представляющей силы
(ein Actus der Spontaneität der Vorstellungskraft), кото-
рую в отличие от чувственности следует назвать рассуд-
ком (Kritik der Reinen Vernunft, §
15).
Гербарт справедливо замечает, что Кант не вывел из
этого важного положения всего, что следовало выве-
сти; но несправедливо утверждает, что это положение
имеет место в метафизике, а не в психологии (Herb., Th.
I, S. 49, § 63).
Напротив, одно из самых ясных наблюдений психо-
логии это то, что все мы сознаем не иначе, как по срав-
нению. Сам же Гербарт беспрестанно указывает на эту
мысль; к ней же пришел и Бэн, идя совершенно другим
путем. Ошибка же Канта состоит в
том, что он думал
здесь найти границу между высшими и низшими спо-
собностями, между способностями животного и чело-
века.
Мы не внаем, как думают животные; но если они
отличают красный цвет от черного, то не иначе, как и
мы, — по сравнению.
Гербарт говорит совершенно верно: «связь разнооб-
разного совершается не посредством чего-нибудь, что
бы можно было назвать актом; еще менее — актом
произвола; она есть непосредственное следствие един-
ства души> (ib.).
Но
единство души в этом случае проявляется в
акте у который не лежит в самих предметах представле-
ния, ибо в них нет единства; не сам себя красный цвет
сравнивает с синим, а душа сравнивает оба ощущения
и из этого сравнения выводит определенное ощущение
(см. выше).
Нельзя сказать, как говорит Гербарт, что «мы на-
ходим себя вынужденными брать объект как он пред-
63
ставляется»,— нет, мы берем его в сравнении, а сам он
себя с другими не сравнивает (ib., S. 50).
Это происходит у Гербарта от несчастной страсти
все объяснять.
Вот о понятиях Гербарт говорит совершенно верно:
«Общие впечатления (Totalenvorstellungen) подобных
предметов, сливающиеся вместе представления де-
ревьев, домов, людей ит. п. имеют, бее сомнения, и ди-
карь и животное; но им недостает противоположения
абстрактного конкретному.
Общее понятие не отдели-
лось от своих примеров» (ib., S. 50, § 64). *
Это у меня привести.
Это так и старая философия напрасно в понятиях
искала отличия человека от животного. Оно в даре
слова, который один дает возможность окончательного
образования понятий; а корень дара слова — в спо-
собности мысли взглянуть на саму
себя, в самосознании, которого нет у животных.
Ошибочное представление Гербарта о рассудке со-
хранил и Бенеке; по его (мнению) «рассудочное понима-
ние
совершается не иначе, как в форме понятий» (Erz.
und Unt., § 7, S. 24).
Вот почему он тут же говорит: «Дитя в первое время
своей жизни еще ничего не понимает» (ib.).
(Ф. 316, папки № 25, 26, 28, 29, 31).
44. В главу о пространстве и времени (кар.)
К материализму
Понятие субстанции и силы. Гипотеза души.
Логика и язык
(Дух работает в глубине).
Кант говорит, что они (понятия субстанции и силы.
—Ред.) сопровождают всякий опыт; а Гербарт (Herbart’s
Schriften, Th. I,
S. 61, § 86) называет их трансценден-
тальными. Понятие субстанции возникло уже из поня-
тия вещи (Ding). Вещь есть собрание признаков без во-
проса об их единстве, которое при этом слепо предпола-
гается.
64
Мое. Но и Кант, ведь, говорит об этом слепом пред-
положении; он, конечно, не так близорук, чтобы ду-
мать, что слово субстанция образовалось прежде слова
вещь; без сомнения, более глубокие чувствования после
всего попадали на язык человека; но человек руково-
дился ими и прежде того, чем они выразились в языке.
Логика, как и язык, суть создание самонаблюдения; но
прежде работает дух с своими свойствами, которые вы-
ражаются для сознания
только в произведениях, а не в
причинах, идущих из бессознательной глубины духа.
«Субстанция есть носитель признаков, а не признак;
понятие, которое появляется тогда, когда уже заме-
чают, что признаки должно отделять от их единства»
(ib., S. 66).
Верно; но упущено из виду, что чувство этого поня-
тия предшествует сознанию этого понятия. Человек
создает понятие вещи и дает название вещам, рассуж-
дает о них, как будто бы уже у него было понятие суб-
станции, хотя до выработки
этого понятия самонаблю-
дение его еще не простиралось.
Это можно объяснить так: человеческое сознание дей-
ствует само как субстанция и переносит это чувство
субстанции и на предметы внешнего мира, к которым
также относится как к субстанциям.
Это и не может быть иначе; даже если предположить
душу как следствие неизвестной организации материи,
то и тогда эта организация не ко всему же способна:
иначе она была бы ничем, никакой организацией:
она не может того и другого
и это впоследствии делается
мерилом разумности. Но это положительное действие
души: она потому везде предполагает субстанцию, что
сама субстанция, а не собрание признаков.
Гербарт говорит, что понятие субстанции противо-
речащее понятие и должно быть заменено понятием
существа (Wesen. См. у Герба рта подробнее Einlei-
tung in die Philosophie, § 101 или 122)* «существа, кото-
рое через нарушение и самоподдержание представляет
нам явление комплекса признаков, которые в действи-
тельности
ему совершенно не принадлежат»»
65
«Понятие силы выходит уже из понятия субстанции
и развивается вместе с ним и почти таким же образом
из понятия переменяющейся вещи. Оба понятия по-
являются уже на самой крайней границе опыта, как
противоречие, переходящее в метафизику, т. е. застав-
ляют нас перешагнуть за опыт и производят в нас
убеждение, предметы которых не подвержены опыту»
(ib., S. 66).
Верно; но дурно выражено.
Мое. Действительно, предмет метафизики состав-
ляют
именно те противоречия, которые душа человече-
ская вносит как прирожденные в свои опыты и руково-
дится ими сначала бессознательно. Так что метафизика
будет глубочайшей частью психологии — не более: эти
вершины психологического самонаблюдения и здесь не
более как опыт, но внутренний опыт; опыт над проти-
воречиями, вносимыми духом в свою собственную дея-
тельность.
Вот почему предметы, каковы — причина, свобода,
случай, необходимость, бесконечное и конечное, сила,
субстанция,
материя — всегда будут предметами мета-
физики. И так как без употребления этих слов наука
обойтись не может, то не может она обойтись и без ме-
тафизики. Бокль, Бэн, Милль восстают против ме-
тафизики, но тогда они не должны употреблять и этих
слов, истинное объяснение .которых только в метафизике
дается. Клод-Бернар оспаривает понятие причины,
закона, явлений во введении к опытной медицине.
То же замечает и Гербарт о необходимости предва-
рительного установления метафизических
понятий
(ib., § 87, Anmerkung).
(Ф. 316, падки № 25, 26, 28, 29, 31).
45. К рассудку
Комбинации остроумия, поэтического сходства и
понятий Бенеке называет комбинациями, идущими
ив внутренности самой души (Erz. und Unt., S. 116), a
потом сам же говорит (S. 125), что способности рассудка
не существует. Но все эти комбинации разве не на од-
66
ной и той же способности основаны: способности созна-
ния находить сходство и различие между своими ощу-
щениями?
Ассоциации остроумия, поэтического сходства и
понятий — одна и та же рассудочная деятельность
дознания, только внутренние чувства разные; и при об-
разовании понятий рассудок редко действует совер-
шенно без влияний. «Прежде первой абстракции в душе
нет рассудочной формы или нет рассудка. Первый про-
цесс абстракции кладет
основание рассудку. Он расши-
ряется по мере умножения процессов абстракции и обра-
зования понятий» (ib., S. 125). В своей односторонности
это верно и верно для педагога. Но кроме того, есть
сила сознания, которая укрепляется упражнениями.
Образование понятий не требует хитрых объясне-
ний: «соединение процессов притяжения и отвлечения»
(ib., S. 125). Оно объясняется из закона ассоциаций:
человек видит множество однородных предметов (напр.,
лошадей), каждый из этих предметов,
кроме родовых
признаков, общих всем (однокопытное, волосатый хвост
и грива), имеет индивидуальные (цвет, пятна, рост
и т. п.). Понятно, что родовые признаки повторяются
гораздо чаще, чем индивидуальные. Повторение следов,
как мы знаем, усиливает их,— и вот из одних видовых
признаков образуется ассоциация гораздо более глубо-
кая и сильная, при которой бледнеют ассоциации инди-
видуальных признаков, беспрестанно сменяющих и
стирающих друг друга. Это основано на свойстве памяти.
Эти
прочнейшие ассоциации = = = = = = и есть за-
логи понятий, образов, не существующих в природе.
Понятия общи человеку и животному и составляют
основу языка; но не порождают его без способности
самонаблюдения, которая принадлежит исключительно
человеку. «У животных не образуется рассудок, потому
что их первичные силы (Urvermögen) не так сильны»
(S. 126). «Был бы маленький рассудок!»—да разве у жи-
вотных нет рассудка: что же вы называете рассудком?
(Мое). Нет, и у животных есть
рассудок, способ-
ность сравнивать, различать, делать выводы. Это мы ви-
67
дим во множестве действий у животных. Собака, пресле-
дующая лисицу, из двух дорог выбирает кратчайшую,
следовательно, сравнивает, различает, делает вывод, а
это все деятельность рассудка. У животных есть поня-
тия: они отличают человека вообще от зайца вообще
и т.д. У них есть орган голоса, который легко мог бы
разработаться в артикулированную речь; у них есть
орган слуха; у них есть стремление сообщительности,
выражаемое в движениях и
криках; но у них нет спо-
собности самонаблюдения и потому нет слова. Эта спо-
собность наблюдения себя, своих душевных процессов,
способность самосознания, как ее обыкновенно называют,
есть творец слова.
Самосознание же дает свободу и человеческой воле.
Имея возможность сознавать в нас страсть, мы имеем воз-
можность и овладеть ею. Если страсть действует в нас
так, что мы этого не сознаем, то мы в ней и она несет
нас как поток воздуха несет воздушный шар; но как
только
мы сознаем страсть, то мы уже вне ее и можем
выбрать точку опоры, чтобы удержаться, — будет ли
эта точка сознание долга или другая страсть. Это чув-
ство возможности и есть чувство свободы воли.
Таким образом способность самосознания является
источником и слова, т. е. человеческого развития и сво-
боды воли.
Появление рассудка или появление понятий по Бе-
неке все равно и потому он говорит, что рассудок начи-
нается у детей очень рано: как только наберется до-
статочно
представлений, которые своими сходными
частями составят понятие.
(Ф. 316, № 69, «Записная книжка», л. л. 53—55).
2. РАССУДОК И РАЗУМ
46. Рассудочный процесс в человеке и в животном
Рассудочный процесс в человеке отличается не только
средствами своего развития, но и вопросами, которые
он решает. Весь рассудочный процесс у животных, на-
сколько мы можем судить о нем по его проявлению в
68
действиях, направлен единственно к разрешению во-
просов, возникающих из потребностей тела. Как
только потребности эти удовлетворены, так и рассу-
дочный процесс у животных прекращается до тех пор,
пока потребности, с общим ходом органического ра-
стительного процесса, не возобновятся. Не то мы ви-
дим в человеке. Вместе с потребностями материальными,
а еще более по удовлетворении их, пробуждаются в нем
потребности духовные, и рассудок
не успокаивается
на решении вопросов, возникающих из жизни тела, но
начинает решать вопросы, необъяснимые из телесных
потребностей. Животное также наблюдает явления и
делает опыты, составляет из них понятия, суждения и
умозаключения, но все это настолько, насколько вы-
нуждается к тому вопросами тела, выражающимися в
форме телесных потребностей: голода, жажды, холода,
инстинкта самосохранения, размножения и потребности
движения: — вот в какой форме выражаются эти во-
просы
животной жизни, для разрешения которых рабо-
тает и слепой инстинкт, и сознание животного. Но в
рассудочном процессе человека мы встречаем и другие
вопросы, не выходящие из потребностей физической жиз
ни, но над решением которых тем не менее трудится
рассудок человека, не успокаивающийся и по удовле-
творении телесных потребностей. Решение этих-то, не
из тела идущих вопросов заставляет дикаря украшать
свое тело перьями, татуировкой, раковинами, прежде
чем он выучится прикрывать
его от вредных влияний
температуры *. Оно же побуждает его слагать песню,
выдалбливать дудку, выделывать идола с большим
трудом из камня или из дерева, заботиться об умерших
родных больше, чем он заботился о них, когда они были
живы, приносить жертвы, часто кровавые и отвратитель-
* Ссылаемся в этом случае на психолога с нескрываемым ма-
териалистическим направлением. «Факты дикой жизни, — гово-
рит Герберт Спенсер, — показывают, что украшение, по порядку
времени, предшествует
платью и что вначале одежда развилась
из украшений». Education intellectual, moral and physical, by
Herb. Spencer. London. 1851, §1,2.
69
ные, и1 т. п., словом, решать своим рассудком такие
вопросы, которые вовсе не объясняются потребностями
физической жизни. На этой ступени своего развития
человек кажется даже глупее животного, заботясь о
пустяках, когда не удовлетворены существенные его
потребности, украшая цветными раковинами тело, дро-
жащее от холода или изнывающее от зноя, добиваясь
с большим трудом таких предметов, которые не прино-
сят ему ни малейшей пользы, создавая
себе небывалые
страхи или налагая на себя тяжелые, совершенно бес-
полезные обязанности. Но не ясно ли показывает все
это уже в дикаре, что рассудок человека, при самом на-
чале своего развития, побуждается к деятельности не
одними вопросами, выходящими из потребностей тела,
но какими-то другими, выходящими из чего-то такого,
чего нет у животных. Уже дикаря мучит это что-то та-
кое, чего нет у животных, спокойно засыпающих по
удовлетворении своих материальных потребностей
и
требований инстинкта. Вот эти то вопросы или задачи,
выходящие откуда-то изнутри человека и проявляю-
щиеся так дико па первых ступенях рассудочного раз-
вития, не дают остановиться этому развитию (как оста-
навливается оно у животных) и ведут его все вперед и
вперед.
Мы, конечно, не будем входить здесь в объяснение
происхождения религиозных, нравственных и эстетиче-
ских стремлений в человеке, хотя эти стремления и при-
дают особый характер его рассудочному процессу:
это
составит содержание третьей части нашей «Антрополо-
гии». Но мы не можем не сказать и здесь нескольких
слов о тех духовных влияниях, которые придают рассу-
дочному процессу его вечное, неустанное движение в
разыскании истины. Не упомянув, хотя коротко, об этих
влияниях, мы оставили бы ложную тень на всем рассу-
дочном процессе, что могло бы повести ко многим недо-
разумениям. Стремления религиозные, нравственные и
эстетические направляют рассудочный процесс, совер-
шающийся
в человеке и человечестве, к различным це-
лям, не выходящим из потребностей материальной жиз-
70
ни, но сами не входят в него, принадлежа более к
области внутреннего чувства, чем сознания. Но есть
умственные духовные стремления, которые прямо дей-
ствуют на рассудочный процесс и срывают его со всякой
ступени, достигнув которой, он мог бы остановиться.
Эти духовные умственные стремления мы знаем только
в форме странных непримиримых противоречий, появ-
ляющихся откуда-то, только не из опыта и наблюдения,
в рассудочном процессе человека.
Естественно, что мы
указываем источник этих стремлений в духе, потому
что этим именем мы приняли называть совокупность
особенностей, отличающих психическую деятельность
человека от такой же деятельности у животных. Но
прежде чем мы рассмотрим эти противоречия, нам
следует указать, каким образом противоречия мо-
гут двигать рассудочный процесс все вперед и впе-
ред.
Сознание наше, как мы уже видели, не терпит про-
тиворечий: это его существенное свойство. «Главное
стремление
рассудка,— говорит Бэн,— состоит в изгна-
нии всех противоречий из души, и только влияние чув-
ства мешает этой работе рассудка» *. Это весьма верная
заметка Бэна, но только высказана она не вполне,
и не объяснена причина этого явления. Сознание, дей-
ствительно, по самому существу своему, все приводит
к высочайшему единству, как мы уже показали это, а
потому не терпит противоречий в своем содержании
и стремится удалить их, так что слабость рассудочного
процесса в иных людях
обнаруживается именно тем, что
в их выводах существуют противоречия, которых они
не замечают. Но если бы-Бэн внимательно всмот-
релся, откуда входят в рассудок эти противоречия, то
он увидел бы, что они выходят не из одних опытов над
внешним миром, которыми он хочет объяснить все, но
также откуда-то изнутри и что, тогда как противоре-
чия, вносимые в рассудочный процесс внешним миром,
легко примиряются, с чем вместе и рассудочный про-
* The Senses and the Intellect, p. 583,
584.
71
цесс приостанавливается,^ противоречия, входящие
в рассудочный процесс изнутри человека, никогда не
примиряются и беспрестанно поддерживают деятель-
ность этого процесса. Вот почему, а не от одного только
обладания даром слова, рассудочный процесс у чело-
века не останавливается на первых ступенях своего
развития, как останавливается он у животных.
Встречая в себе противоречия, сознание стремится
или удалить их, или разрешить, т. е. примирить.
Уда-
лить противоречия, не заниматься ими — не всегда
во власти человека; а примирения часто* бывают
только кажущимися и временными и остаются лишь до
тех пор, пока человек не откроет противоречий в соб-
ственных своих примирениях, сравнивая их с другими
понятиями или другими такими же примирениями,
сделанными им в другой области мышления. Тогда
опять открывается противоречие, и опять является стре-
мление примирить его или прочно, т. е. изучением фак-
тов, или хотя временно
— созданиями фантазии. На этой
особенности рассудочного процесса в человеческом со-
знании основывается известный диалектический прием
Гегеля, состоящий в том, что мыслитель, подвергая ана-
лизу какой-нибудь предмет, открывает в понятии его
противоречие, примиряет это противоречие в высшем по-
нятии, которое при анализе снова распадается на про-
тиворечия, и т. д. Этот прием не нов; он употреблялся
уже Сократом и Аристотелем. Гегель только поставил
его на первое место в философском
мышлении. Мы можем
отвергать выводы, которые Гегель добывал этим мето-
дом; мы можем находить, что Гегель злоупотреблял им,
что противоречия, им находимые, натянуты и лишены
основания, что примирение многих противоречий —
только кажущееся; но самого метода мы отвергнуть не
можем, потому что он основан на коренной психической
особенности нашей. Теперь взглянем на самые эти про-
тиворечия, вводимые духом человека в рассудочный,
процесс (т. VIII, гл. 46, стр. 636—640).
72
47. Индукция и дедукция
В индуктивном процессе мышления мы нашли
тот же рассудочный процесс образования понятий из
суждений, а в обратном дедуктивном процессе мы уви-
дали разложение понятий на суждения, из которых
они составились. Источник индукции есть сознание;
а источник дедукции — самосознание; первое обще че-
ловеку и животному; второе есть исключительно при-
надлежность человека (т. VIII, стр. 678).
48. Рассудочная истина и истина
разумная
Рассудочная логическая ассоциация вовсе не озна-
чает ассоциации верной, безошибочной. Она, будучи
верной логически, может быть в то же время ложна,
потому что основана на ложных данных, на неточных
или неполных наблюдениях; так, если бы крестьянин
знал образование фульгуритов, то не приписал бы им
раздробления деревьев.
На этом основывается различие логической рассу-
дочней истины от истины разумной. Где собственно
логическая истина переходит в разумную определить
невозможно.
Мы можем иметь только большую, или
меньшую степень достоверности в разумности логиче-
ской истины, но никогда полной уверенности (т. VIII,
стр. 359—360).
49. Исполнение. Рассудок, ум, разум, убеждение
«Решению (Urtheilen) и действию предшествует
убеждение, когда человек прежде, чем изменить тепереш-
нее положение вещей, сравнивает еще другие возмож-
ные образы мысли и действия. Убеждение должно пред-
отвращать возвращение назад и раскаяние. Оно дости-
гает этого тем, что
допускает каждому возможному роду
представлений и каждому желанию, могущему прийти
s столкновение с другими, совершенно выступить в
сознании и настолько, насколько станет у него силы,
противодействовать или содействовать другим. Если
при этом нечто будет позабыто, или ему что-нибудь по-
73
мешает во время процесса убеждения подействовать
настолько, насколько оно может, то остается опасность,
что последует другое расположение духа, при котором
первое решение окажется дурным («взвесить все» —
хорошее русское выражение). Следовательно, процесс
убеждения есть внутренний опыт и результат его дол-
жен быть принят с полной покорностью (Vernommen),
отсюда сила рассудка (Vernunft) в мысли и делах»
(Herb., Th. I, §114, S. 82).
У
нас слово Vernunft переводят обыкновенно разум;
но тут это скорее рассудок — от рассуждать.
Следовательно, по Гербарту, сам по себе разум не
есть «ни источник воли, ни источник познания» (ib.,
§ 115). Это ошибочное понятие произошло оттого,
что человек, боясь раскаяния, если он не подчинится
результатам процесса убеждения (какой вздор! как
будто он может им не подчиниться? Чему же он тогда
подчинится?!), составил понятие угрозы, из угрозы сде-
лал повеление, а из повеления
и повелителя — разум.
Какая пошлая натяжка!
«Практическое убеждение усложняется связью
средств и целей. Оно (убеждение?) не только должно
взвесить разнообразные желания, выбрать между мно-
гими целями; но также пробежать ряды возможных по-
следствий, которые связаны с целями и делают дости-
жимость их вероятной. В последнем отношении припи-
сывают убеждение практическому разуму, который
есть способность направлять свои действия по свой-
ству мыслимого, независимо от воображения
и страсти.
Если выработается такое убеждение вполне, то оно со-
здает планы» (§ 116).
У нас, кажется, следует так: theoretische Vernunft
или reine Vernunft Канта переводить просто рассудок;
practische Vernunft — ум (слово уметь выражает прак-
тичность); а соединение обоих — раз-ум.
«Обдуманность (Besonnenheit) есть состояние чело-
веческого духа в убеждении. Она может обратиться в
привычку (чью? самих желаний? — вот и противоре-
чие) взвешивать всевозможные желания, …стремиться
74
к высшему благу. При этом появляются правила, а из
них составляется нравственное ученье» (§ 117).
(Ф. 316, папка «N? 25, 26, 28, 29, 31).
50. Рассудок. Индукция и дедукция. Врожденные
идеи (Особ. гл.: сравнение (кар.)
«Индукцию определяют, говоря, что это прием ума,
идущий от частного к общему, между тем, как дедук-
ция будет обратный прием, идущий от общего к част-
ному»… «Скажу в качестве экспериментатора, что на
практике мне кажется
весьма трудно оправдать это раз-
деление и ясно разграничить индукцию от дедукции»
(Кл.-Берн., стр. 57).
«Точка опоры тела есть почва, которую чувствует
нога; точка опоры ума есть известное, т. е. истина или
принцип, сознаваемый умом. Человек не может ничего
узнать иначе, как переход я от известного к неизвестному;
но, с другой стороны, так как человек, рождаясь, не
приносит с собой науки, то, повидимому, мы находимся
в ложном кругу и человеку суждено не иметь возможно-
сти
что-нибудь узнать. Так это действительно и было бы,
если бы человек не имел в своем уме чутья (?) отноше-
ний и детерминизма, которые и становятся критерием
истины» (ib., стр. 58).
Приписка карандашом: т. е. если бы в своей душе
он уже не имел известного; так, напр., идеи существо-
вания, бытия.
Приписка красн. кар. на полях: Дедукция — выходит
из идеи, насколько в ней концентрированы входящие
идеи. Это всякий заметит, кто ныне излагает плод дол-
гих <размышлений>, стараясь
их сделать ясными.—
Индукция — обратный путь формировки идеи.— Вот и
тайна хода исследования — сравнение, индукция и де-
дукция.
(Ф. 316, папки № 25, 26, 28, 29, 31).
51. Сравнение (кар.: индукция)
«Всякое сознаваемое нами сходство или несходство
разрешаются сами собой в сходстве или несходстве
75
между состояниями нашей или чьей-нибудь другой (?)
души. Если мы говорим, что одно тело похоже на дру-
гое (так как мы не внаем о телах ничего, кроме возбуж-
даемых ими в нас ощущений), то в действительности
думаем, что есть сходство между двумя ощущениями,
возбуждаемыми в нас двумя телами, или, по* край-
ней мере, между некоторой частью этих ощущений.
Если мы говорим, что два признака сходны (так как мы
ничего не внаем о признаках, кроме
ощущений или со-
стояний чувства, на которых они основаны), то в дей-
ствительности мы думаем, что эти ощущения или со-
стояния чувства похожи одно на другое» (Mill’s Logic,
Book I, p. 76).
He странно ли, что Милль дал такое исключитель-
ное положение суждениям по сходству, когда вся логика
его основывается на индукции, а вся индукция есть не
что иное, как процесс сравнения прежде известного
с новым представляющимся фактом.
«Мы не можем, говорит Милль, описать факта без
того,
чтобы не внести более, чем факт. Мы восприни-
маем один предмет, но описывая его, мы выставляем
связь между ним и другими предметами… Это не
только один из путей описания наблюдения, но един-
ственный. Если и должно заметить мое наблюдение
для моего будущего употребления, или сообщить его
другим, то я непременно должен заметить „сходство
между фактом, который я наблюдал, и чем-нибудь дру-
гим» (Book IV, Ch. I, § 3, p. 183).
Замечательные слова,— от них один шаг был бы
до
истины, что не только описывать, но и наблюдать мы
не можем иначе, как сравнением, и что весь рассудочный
процесс есть сравнение.
Во II главе IV-й книги (of abstraction) Милль совер-
шенно положительно высказывает, что сравнение лежит
в основе всякого мышления, что «сравнение необхо-
димо предшествует индукции» (Book IV, Ch. II, p. 196
и др.). — Но сравнение возникает из чувства сходства:
зачем же он делает такой промах в начале книги? Или
ода хорошо не обдумана, или он боялся,
что, поставив
76
сравнение в основе, он уронит дело общей проповеди
материализма?
«Как скоро сравнением мы уловили какое-нибудь
сходство, что-нибудь, что может быть сказано вообще
о нескольких предметах, то мы получили уже базис,
на котором может основаться индуктивный процесс»
(ib., р. 197).
(ф 316^ папки № 25^ 26^ 28^ ^ 31)
52. Идея и рассудок; классификация (кар.): Поня-
тие — идея
«Название класса вызывает некоторую идею (some
idea), посредством
которой мы можем думать о классе,
а не только индивидуальном члене его» (Mill’s Logic,
Book IV, Gh. II, p. 189, прим.).
По своему обычаю (Милль) избегает решительного
ответа, что такое идея, говоря, что это не принадлежит
логике.
«Верно только то, что некоторая идея или умствен-
ная концепция вызывается общим именем, слышим ли
мы его или употребляем с сознанием его значения.
И это, что мы можем назвать, если нам угодно, общей
идеей его, представляет в нашей душе целый
класс ве-
щей, к которому прилагается название. И свободная
власть, которую имеет душа (voluntary power), зани-
маться одной частью того, что ей представляется в дан-
ную минуту, и пренебрегать другою, дает нам возмож-
ность составлять наши суждения и умозаключения
относительно целого класса, не подвергая влиянию чего—
нибудь в нашей идее или умственном образе (?), что не
существенно или чего мы не считаем существенным для
целого класса» (ib., р. 190).
…Таку Милля и
идея, и умственный образ синонимы
и самое темное понятие о том, что тем не менее лежит
в основании индукции. Он сваливает эти вопросы на
метафизику и психологию; но тогда логика находится
в такой зависимости от этих двух наук, что не они из
нее, а она из них должна черпать свои основания.
Не сам ли он говорит несколько ниже, что индукция
не может итти без общих концепций или идей и что
77
сравнение; из которого и выходит идея, предшествует
индукции? (ib.)
«Но из этого, говорит он, не следует, чтобы эти об-
щие концепции (слово идея он не любит) существовали
в духе прежде сравнения» (ib., § 2).
Следоват., сравнение лежит в основе всего.
«Общая концепция есть результат наших сравнений.
Она получается (употребляя метафизич. выражение)
абстракцией от индивидуальных вещей» (ib.).
«Эти концепции, т. е. идеи, никогда не получаются
иначе,
как путем сравнения и абстракции» (ib., р. 193).
«Мы сравниваем явления одно с другим, чтобы
уловить (to get) концепцию (идею) и потом мы сравни-
ваем эти и другие идеи с концепцией… Концепция
(идея) делается типом сравнения (ib., § 3, р. 194).
Не ясно ли, что в основание логики нужно было
положить сравнение? И чем слово концепция лучше
слова идея?
В этой главе показана вся важность ясности идей.
«Человек без ясных идей есть тот, кто помещает в
один класс, под одним
общим именем, предметы, кото-
рые не имеют общих свойств или которыми не обладали
бы другие предметы (в класс не помещенные); или кто,
если общественное употребление названия не допус-
кает его ошибаться в классификации, не может объяс-
нить, на основании каких общих свойств он помещает
эти предметы в один класс» (ib., р. 202).
Это верно и отсюда выходит вся важность верной
классификации для педагога.
* *
Что Милль не связывает идеи с названием, так чтобы
оставалось
только название, это видно из той же главы
§ 2, где он прямо доказывает, как сделал и я, что язык
есть орудие, облегчающее мышление; но не условие его;
что без языка индукция остановилась бы, может быть,
на той степени, на которой остановилась она у живот-
ных (ib., р. 203), но все же была бы.
78
«Но хотя наведение возможно без употребления зна-
ков, но без них оно никогда бы не поднялось выше са-
мых простых случаев, которые по всей вероятности со-
ставляют границу в размышлении у животных, которым
не доступен условный язык» (ib., р. 207).
(Ф. 316, папки № 25, 26, 28, 29, 31).
53. (III, 28). (Внутреннее чувство). Рассудок
(Локк). Справедливость
«Мы все близоруки, говорит Локк, и очень часто ви-
дим только одну половину предмета;
наш взгляд не рас-
пространяется на все, что к нему относится. Я думаю,
что от этого недостатка не свободен ни один человек»
(Locke’s Works, v. I. Conduct of the Understanding, p.27).
Локк ясно думал, что рассудок можно наломать
вообще для строгого и последовательного мышления
(ib., р. 39). Следовательно, он еще не предчувствовал
истины, угаданной Гербартом и развитой Бенеке.
Вот почему он считает математику лучшим способом
для развития мышления и советует изучать ее всякому,
кто
имеет довольно времени «не для того, чтоб быть
математиком, но чтобы быть мыслящим существом»
(ib., р. 41).
Локк замечает и очень верно, что взрослые люди с
трудом уже улучшают и расширяют свой рассудок,
и хотя считает это явление возможным, но редким,
объясняя это тем, что тут потребуется столько упраж-
нений и практики, что у взрослого человека не хватит
на это времени (ib., р. 43).
Заметка справедлива, но объяснение поверхностно.
Гораздо ближе явление это объясняется
тем, что у
взрослого уже накопилось много ассоциаций в душе,
в которых ему широко живется, а мы хотим ввести
его в новые ассоциации, может быть и правильнее тех,
которые он имеет, но узкие, тесные, и не должно удив-
ляться, что он отвращается от них и ищет жизни в преж-
них ассоциациях. Это и заметно потому, что наши ис-
тины кажутся ему детскими, бесполезными, пустыми.
79
Если же мы хотим просто переделать все его прежние
ассоциации, то он может возненавидеть наши. Мы пред-
лагаем его душе ореховую скорлупу, когда он привык
жить в палатах, строившихся годы, долгие годы, хоть
может быть выстроенных неправильно и уродливо.
Для развития рассудка Локк предлагает матема-
тику, руководствуясь той мыслью, что она приучит че-
ловека делать длинные ряды правильных выводов
(ib., р. 44).
Но это явная ошибка, опровергаемая
и примерами
чудачества математиков. Не привычка делать длинные
ряды выводов, а самые выводы, построенные в длинные
ряды, обогащают рассудок. Но выводы математические
не везде приложимы, хотя приложение их и громадно.
В другом месте Локк сравнивает идею об обязанно-
сти и справедливости и думает, кто не умеет найти сход-
ства между двумя геометрическими фигурами, тот не
может иметь верного понятия о том, что такое обязан-
ность и справедливость (ib., р. 49). Но и опыт, и здра-
вый
рассудок отвергает это положение: есть идиоты ге-
ниально справедливые!
Здесь теория Локка выказала всю свою односторон-
ность!
«Очень много таких людей, которые сделались не-
способными от дурной привычки никогда не упражнять
своих мыслей (?). Сила их души замерла от неупотребле-
ния и потери того объема и силы, которые предназначила
им природа получить от упражнения» (ib., р. 52). Здесь
нет и логики — нельзя потерять того, чего не было: было
же что-то врожденное, — что
потеряно. Что же это?
3. МЫШЛЕНИЕ И РЕЧЬ
а) Роль слова в формировании мысли
54. Значение слова
Значение слова для рассудочного процесса также гро-
мадно. Слово выражает собой понятие, но не идею; ибо
как слово, так и понятие, облеченное в слово, служат
80
только для выражения идеи, которая лежит всегда
между словами, выражается в подборе слов, но не в
словах. Идея может выражаться не только в подборе
слов, но и в подборе чувственных образов; но как мед-
ленно и трудно совершался бы наш рассудочный про-
цесс, если бы человек, не обладая даром слова, источ-
ник которого мы отыщем впоследствии, был вынужден
думать образами и психо-физическими понятиями,
а не словами.
Мы уже видели, что
понятие долго не может ото-
рваться от тех представлений, из которых оно состави-
лось; оно даже вовсе не могло бы от них оторваться и
навсегда осталось бы в нашей душе чем-то смутным и
мелькающим в толпе представлений, если бы человек
не обладал духовною, ему исключительно принадлежа-
щею способностью — облекать понятия в слово, нала-
гать на понятие новый, произвольный значок, называе-
мый словом, и тем самым оканчивать и завершать про-
цесс образования понятия, начинающийся,
но никогда
не оканчивающийся и не завершающийся в животном.
Между представлениями, составившими понятие,
и между словом, выражающим это понятие, нет, по
большей части, ничего общего. Слова звукоподражатель-
ные составляют в языке исключение, и чем более развит
язык, тем меньшую роль играют они в нем. Несравненно
большая часть слов является для нас чисто произволь-
ными значками, которые дух наш наложил на понятия,
чтобы иметь дело с этими коротенькими значками поня-
тий,
а не с целыми роями представлений, из которых
понятия возникли. Если во многих словах и есть что—
нибудь совершенно непроизвольное, то это, по боль-
шей части, оттенок того внутреннего чувства, которое
возбуждалось в нас предметами и явлениями, послу-
жившими к образованию понятий. Во многих словах
подмечаются эти оттенки чувства, участвовавшего при
их создании; но это уже не есть что-нибудь внешнее для
души, но ее собственное, и потому не смущает нашего
сознания как чуждое,
но встречается им как нечто зна-
комое, родное.
81
Не нужно много наблюдательности, чтобы видеть,
как слова облегчают и сокращают рассудочный про-
цесс. Процесс мышления, как мы уже заметили выше,
весь совершается в словах, тогда как процесс вообра-
жения весь совершается в представлениях. Разложите
самое короткое суждение, например: «этот человек
богат», на все представления, из которых составились
эти три слова, и их связь, и вы оцените всю необычай-
ную, концентрирующую силу языка. В
одном слове
«дерево», «животное», «камень» множество наблюдений,
опытов, сравнений, понятий, рассудочных процессов;
но невозможно измерить то короткое мгновение, кото-
рое нужно сознанию, чтобы оно могло сознать значе-
ние любого из этих слов. Из этого уже выходит, как со-
действует слово к производительности сознания при
тех же ограниченных его средствах.
Нам так же трудно представить себе мышление без
слов, как трудно зрячему представить работу вообра-
жения у слепых,
не обладающих способностью пред-
ставления красок, света и.тени, и воспроизводящих
формы тел бесцветными продуктами мускульного чув-
ства и осязания. Это-то ощущение тесной связи мысли и
слова и заставило Руссо сказать: «общие идеи не могут
войти в разум иначе, как с помощью слов, и пони-
мание овладеет ими только в предложениях. Вот одна
из причин, почему,животные не могут образовывать об-
щих идей (понятий) и достичь того совершенства, кото-
рое от этих идей зависит». Мы
уже видели, что это мнение
не совершенно справедливо и что понятия, или, по край-
ней мере, нечто вроде их, образуются и у животных;
но процесс этого образования оканчивается только в
словах, так что мышление, в полном, человеческом
смысле слова, совершается только в словах, и слово яв-
ляется главным средством человеческого развития,
которого животное бессловесное, при’чувствах, иногда
гораздо более тонких, и при сознании, столь же ясном,
достигнуть не может.
Вот причина,
почему слепые, несмотря на то, что
весь видимый мир закрыт для них, развиваются ча-
82
сто до высокой степени нравственного и умственного со-
вершенства, тогда как глухонемые, видящие весь мир,
показывают все печальные признаки преобладания жи-
вотных наклонностей. Вайтц, полемизируя против «чи-
стых понятий» Канта и доказывая, что все создается в
человеке из внешних ощущений, приводит в пример
слепорожденных и глухонемых и ставит их совершенно
неправильно в одинаковое отношение к развитию *; но
опыт показывает совершенно
противное и доказывает,
напротив, что духовное, внутреннее орудие, слово имеет
для человека гораздо больше значения, чем внешнее
орудие — зрение.
Из этого уже можно заключить, какую важную роль
играет слово в нашем умственном и нравственном раз-
витии, и какой великий подарок делают глухонемым,
приучая их налагать произвольные значки на поня-
тия и тем самым заканчивать образование понятий, без
чего рассудок этих несчастливцев остался бы навсегда
на степени рассудка животных.
Понятно, почему один
глухонемой, выучившийся говорить **, читать и пи-
сать, будучи под влиянием нового для него чувства,
назвал мышление «внутренним разговором» ***. Мы за-
бываем то время, когда еще не обладали этим «внутрен-
ним разговором» и когда все мышление наше соверша-
лось в представлениях; но у глухонемого это положе-
ние мышления было еще в памяти, и он сознал живо всю
благодетельную перемену, какую обладание словом вно-
сит в процесс мышления. Слово в высшей степени
кон-
центрирует материалы сознания и тем самым допускает
их одновременное обозрение сознанием; оно же сбере-
гает в памяти плоды рассудочного процесса в самой сжа-
той, концентрированной форме. В ином слове сокра-
щена история неисчислимого множества душевных про-
цессов.
* Lehrbuch der Psych., § 46.
** Конечно, так, как говорят глухонемые, т. е. не слыша сво-
их собственных слов, а руководясь при атом только мускульными
ощущениями движений органов языка.
*** Empir.
Psych., von Drobisch, § 159.
83
В заключение этой главы обратим еще внимание на
то, что идея и слово, эти могущественные средства,
вносимые духом в рассудочный процесс, служат не
только средствами этого процесса, но и верно сохраняют
в себе его результаты. Достигнув до идеи, плод рассудоч-
ного процесса делается не только актом духа, но вно-
сится в него как новая его способность: идеями пи-
тается дух, и в них происходит его развитие, предел
которого, как мы верим, не
ограничивается пределами
земной жизни, иначе само развитие духа — высший
процесс в природе — являлось бы чем-то бесцельным и
ненужным.
Другой плод рассудочного процесса, который вызре-
вает в нем под влиянием духа человеческого, есть слово.
Этот плод также не умирает; он переходит в язык наро-
да, делается живым атомом -этого могучего, вечно раз-
вивающегося организма, и, таким образом, слово, до-
бытое в рассудочном процессе нашими отдаленнейшими
предками, переделанное
в процессе сознания наших де-
дов и отцов, со всеми следами своего сознания и своей
многовековой переделки в тысячах поколений, дости-
гает в наших потомках и пробудит в них понятия, идеи
и чувства, которые создавали и развивали это слово.
Таким образом, прикопляется веками и работою бесчис-
ленных поколений духовное богатство человека, и в
личностях Несторовой летописи мы узнаем прародите-
лей наших не только по плоти, но и по слову, по слову
и по духу: они начали выработку
тех самых идей, кото-
рые мы продолжаем развивать и которые, судя по ана-
логии с нами, будут развивать наши дети и внуки
(т. VIII, стр. 632—636).
55. Формирование языка народа
…Каждое слово языка, каждый оттенок его обхо-
дился человечеству не даром, и над каждой из этих
маленьких форм, которыми мы обладаем теперь так
свободно, трудно работало когда-то человеческое со-
знание. Но все эти бесчисленные работы состояли в од-
ном и том же: в сличении впечатлений и выводе
из них
84
определенных ощущений и ассоциации из них опреде-
ленного представления; в сравнении и различении опре-
деленных представлений и выводе из них понятия; в
сравнении его с другими понятиями, представлениями,
ощущениями и выводе из них нового высшего понятия,
или родственного же понятия с новым оттенком и т. п.
Работа сознания, окончательным результатом которой
является язык и наука, представляет бесконечное
разнообразие; но, присматриваясь
к этому разнообра-
зию, мы замечаем, что главный работник и характер
работы один и тот же, а разнообразие зависит от разно-
образия материала, т. е. впечатлений, даваемых приро-
дой, и различных вмешательств в эту работу: внутрен-
него чувства, страсти и т. п. Кроме того, мы замечаем
всюду одну и ту же уловку работника: он повсюду кон-
центрирует материалы, факты, не уничтожая их раз-
личия, и тем самым концентрирует свои ограниченные
силы. Вначале сознание преодолевает какие-нибудь
два,
три ощущения, потом пользуется целой ассоциацией
многочисленных ощущений, слитых в одно представ-
ление, как одним материалом, потом пользуется по-
нятием, в котором концентрировано уже бесчисленное
множество предварительных работ, как одним простым
ощущением, и т. д. В этом отношении наше сравнение
языка с коралловым островом или с меловой горой, обра-
зованной из бесчисленного множества микроскопиче-
ских раковин, из которых в каждой шевелилось когда-то
живое существо,—
не годится. Там все раковинки и
все ячейки похожи одна на другую и каждая не пред-
ставляет прогресса в отношении другой; там есть
только количественное нарастание, тогда как в языке, а
следовательно, и в рассудке, происходит качественное
изменение, переработка сырого материала. Каждая но-
вая работа заключает в себе все прежние или, по край-
ней мере, многие из прежних, так что работник, не упот-
ребляя при новой работе усилий более прежнего, про-
изводит больше, потому что
пользуется накопленными
результатами прежних работ. Таких работ мы не видим
в мертвой работе, а потому не можем отыскать в ней
85
сравнения для этой вековой, неустанной работы челове-
чества.- Таким работником является только сознание и
такой работой только рассудок и воплощение его —
язык. Мы могли бы сравнить это беспрестанное усиле-
ние работы с постоянным прогрессом в устройстве ма-
шин, позволяющих теперь силе одного человека, кото-
рая сама по себе осталась такою же, какой была и за
тысячу лет (если не уменьшилась), производить больше,
чем производилось прежде
силами тысячи людей; но и
это сравнение будет не точно. Там увеличение силы за-
висит от прогресса в устройстве машин, а в развитии
рассудка оно зависит от самой переработки материала,
над которым работает сознание. Сходство же состоит
только в том, что и там и здесь силы работника остаются
одни и те же, а количество производимой работы про-
грессивно увеличивается и качество (т. е. верность
выводов действительности) улучшается (т. VIII,
стр. 611—613).
56. (VIII, 9). Рассудок.
Язык. Развитие рассудка
изучением языка
Об языке можно сказать то же, что сказал лорд Ма-
кинтош о правлении: «оно растет, а не делается». На-
звание (the name) не кладется разом и преднамеренно
на тот или другой класс предметов, но прилагается сна-
чала к одному предмету и потом расширяется рядом пе-
реходов с одного предмета на другой. Этим процессом
(особенно разработанным у Dugald Stewart в его Philoso-
phical Essays) название нередко переходит через сходство
связи
с одного предмета на другой и начинает, наконец,
прилагаться к предметам, не имеющим ничего общего с
первым.
Мое: Это потому, что с одного сходства перескаки-
вает на другие, забывая о первом: ибо каждый со своей
стороны смотрит на предмет и видит то сходство, кото-
рого не видал другой, и забывает то, которое видел пер-
вый. Положим, предмет А имеет признаки а, в, с, пред-
мет Б имеет признаки Ь, с, d. Предмет Д имеет признаки
Ь., d, f. Предмет К имеет признаки d, f, е и
т« д. Следо-
86
вательно, у предмета (К) ничего общего с предметом
(А),— а их оглавить(возможно) одним названием, <пе-
реходя> с признаков b на признаки d.
«Если название сделало такую ошибку, то оно де-
лается негодным ни для мышления, ни для сообщения
мысли, и может быть исправлено, только выбросив из
него часть его значений и оставив его при предметах,
имеющих какие-либо общие признаки. Таковы неудоб-
ства языка, который не делается, но растет» (ib.).
Определить,
например, что такое справедливость,
значит разыскать все атрибуты, по сходству которых дей-
ствия называются справедливыми,— и тут мы увидим,
как неопределенно употребляется это слово у людей.
Вот почему филологическое разыскание имеет боль-
шое значение для того, кто хочет логически исправить
язык. «Классификация, говорит Милль, грубо создан-
ная установившимися языками, если ее переделать ру-
ками логиков, чего она требует, имеет в самой себе от-
личные задатки для такой
переделки» (ib., р. 173).
Но мы скажем, что к счастью для людей такая пе-
ределка руками логиков действительного народного
языка невозможна. Это была бы вечная ломка по той
или другой теории, выдающей себя за единую, истин-
ную.— И если бы прежние схоласты переделали бы
английский язык со своей логикою,— то Милль при-
шел бы в большое затруднение для выражения мыслей
своей логической системы. Пусть же не желает затруд-
нитъ работу и тем, которые будут строить после него,
а
что такие строители будут, мы заключаем любимым пу-
тем миллевской логики — путем индукции, опыта про-
шедшего.
Не сам ли Милль говорит далее, что весьма часто пе-
реход значения слова, не оправдываемый большим сход-
ством (Милль не хочет употреблять слова существенно),
«служит часто указателем действительной связи между
предметами, означаемыми словом, которое бы иначе
«ускользнуло от мыслителя» (ib., р. 174).
Это совершенно практическая заметка, которую при-
ходится делать
всякому, кто серьезно занимается фило-
87
софским, психологическим или филологическим мы-
шлением.
Не раз приходится благодарить народный язык, что
он не поддался улучшениям логики и вопреки ей со-
хранил свои кажущиеся нелогичности, которые вдруг
оказываются потом глубоко логическими.
Язык народа — источник для языка науки, и взрезать
его логическим ножом может оказаться тем же, что взре-
зать курицу, несшую золотые яйца. — Должно изу-
чать язык народа, выносить из него язык
современной
науки; но не ломать в головах детей народный язык по
своей временной логике.
57. (VIII, 11). К рассудку. Язык и суждения
Что суждения предшествуют понятиям, см. Herb.,
Т. I, S. 60, 61, § 79, 80, 81.
«Нельзя сомневаться в том, что обыкновенно (хотя
не всегда) человеческие мысли ложатся в форму сужде-
ний (Urtheilen). В основании почти всех форм речи ле-
жит соединение подлежащего и сказуемого. Но при этом
не нужно забывать, что логическое требование, что под-
лежащее
и сказуемое должны быть строго определенные
понятия, в действительности далеко не выполняется».
Объяснить это появление суждений не легко, во
внешней природе их нет, как нет и всей лестницы поня-
тий, созданной людьми (родов и видов).
Тем не менее суждение человеческое возможно только
при этих условиях и «созерцательное познавание*, о ко-
тором говорит Спиноза,— есть фантазия невозможная.
Но отсюда же возникает опасность, как и указал Гер-
барт, принять наши понятия за действительно
суще-
ствующие вещи природы, и рассуждая об них, как таких,
наделать множество спекулятивны^ и ложных выводов
(ib., §81).
Гербарт задается вопросом: «откуда выходит страда^
тельное положение подлежащего, как такой мысли, опре-
деление которой должно выйти из сказуемого? Почему
подлежащее и сказуемое, появляясь вместе в мысли,
88
не являются в форме прилагательного и существитель-
ного?»
На это Гербарт отвечает, что мысль рождается не в
форме тайного суждения и что несомненно, что сужде-
ние появляется только в языке, «многое же думает
человек, что он не может и высказать» (ib., § 82, S. 62).
Следовательно, Гербарт признает мышление без слов.
Весьма верна заметка, что «на развитие человече-
ской мысли в словесных суждениях имеет большое
влияние склонность человека
сообщать свои мысли
другому» (ib.).
Мы же думаем, что этим влиянием и способностью
самонаблюдения условливается все, — весь язык.
Силлогизмами никто не думает, и это часто ставят
в осуждение логики, но напрасно: это только показы-
вает, что логика и психология не одно и то же (ib., S. 64,
§ 83).
Мое. Логика гораздо ближе к грамматике,чем к пси-
хологии; она выработалась при передаче мыслей, а не
при возникновении их, вот почему и логика и грамма-
тика — одни и могут
быть изучаемы, как искусство
писать.
«В психологии же вместо силлогизма мы видим боль-
шей частью попытки связать два представления, кото-
рые вертятся около одного срединного понятия прежде
еще, чем мы испытаем необходимое количество предложе-
ний и тожественность посредствующего понятия. Пра-
вильное суждение и правильное вымеривание сродни
Друг другу. Посредствующее понятие, как и мера (ар-
шин), которою меряют, должно быть удерживаемо с точ-
ностью» (ib., S. -65, §
83).
Мое. Основная деятельность — сравнение; основная
способность — чувство сходства и различия: первая
ступень — примеры сравниваются сами непосредствен-
но; вторая — посредником сравнения двух предметов
служит третий, более или менее знакомый предмет; тре-
тья ступень — несколько посредствующих предметов;
но чаще я чувствую сходство^ а потом уже подыскиваю
посредников.
89
Гербарт отличает «логическое признание> (logische
Beifall) от эстетического. Логическое не состоит, как
эстетическое, в предпочтении, противоположность ко-
торого есть отвержение, но в признании, причем пред-
мет может нравиться и не нравиться. С признанием
однако связано чувство особого рода, в котором соеди-
няются насилие принуждения и удовлетворение требо-
вания независимо от того, приятно или нет это при-
знание. Вот уж доказательство,
как способность позна-
вания и чувствования связаны одна с другой» (ib., S. 63,
185).
58. Отличие человека от животных
У Гербарта животные существенно ничем не отли-
чаются от человека, а только у человека представления
более развиты и осложнены и приведены к единству,
чем у животного. И две главнейшие причины такого
преимущества он видит в том,что человек обладает а) ру-
ками и б) даром слова (Herb., Erst.Th.,§ 46,S. 61),в)ме-
нее подчинен телу (§ 47), да еще г) в большей
зависимости
животного от инстинкта (ib., S. 51, § 65).
В настоящее время Гербарт едва ли бы сделал эти воз-
ражения.
Во-первых, что касается рук, то они есть у обезьяны,
у медведей передние лапы заменяют руки. Сам Гербарт
замечает, что молодые животные «стремятся употреб-
лять свои передние лапы как руки, но не могут пересту-
пить границ их организации» (ib., S. 52). Но где же эти
границы? Дарвин доказал, что таких границ нет; а по
Шопенгауэру, если бы животные хотели
иметь руки,
т. е. если бы им нужны были руки, то в ряду большего
или меньшего количества и числа поколений руки бы
у них и образовались. Дело, следовательно, в том, что
человеку понадобились руки. Следовательно, появ-
ление у него рук есть следствие его особенности, а не
причина ее и, следовательно, причины рук, а не рук, не
было у животных.
Во-вторых, то же самое следует сказать и о языке:
у животных есть все средства выработать язык; если же
90
у них нет языка, то не потому, чтобы не было средств
(попугай говорит; у обезьян голосовые мускулы сильно
развиты). (Сверху каранд.: по факту,— но не было по-
буждения иметь язык; не было причины языка).
В-третьих, малость животного мозга (ib., S. 47).
Но мозг, как и всякий другой орган, развивается по
потребности, след., у животных нет большого мозга
потому, что нет потребности в нем; нет в них причины
большого мозга.
В-четвертых,
животные более подчинены влиянию
органических возбуждений (ib., S. 47). Этого мы не ви-
дим: телесных потребностей у людей не меньше.
В-пятых, что касается до преобладания инстинкта
у животных, то он, как показал Дарвин, тоже увеличи-
вается и усложняется вследствие развития: человеку
нужен был разум и у него развился разум; животному
нужен был инстинкт и у него развились инстинкты.
Гербарт говорит далее, что эстетических чувств, к
которым он относит и нравственные, у детей
и дикарей
так же мало, как и у животных. Это верно; но дело в том,
что у одних с развитием они развиваются, у других —
нет (ib., S. 51, § 65).
Но может ли одна потребность создать способ-
ность? — конечно, нет: нужно средство… Разве люди
никогда не ощущали потребности летать, и разве бы
крылатые люди не одержали верха над некрылатыми,
не распространились бы на счет некрылатых, по закону
Дарвина? Но нет средств и крылья не выросли.
Средство — задаток и в душе и в теле
-~ дает и
потребность, а не наоборот. Вот чем мы отличаемся от
Шопенгауэра. Это факт, a ne мечта.
По Бенеке человек отличается от животного особен-
ной крепостью (Kräftigkeit) первичных сил и только.
Но степень не различает, а соединяет предметы.
«У животных также есть и воспитание (Ziehen); но
оно останавливается на первых ступенях, потому что
следы, остающиеся от его восприятий и деятельностей,
слишком слабы и призрачны (schattenartig), чтобы че-
рез их взаимные ассоциации
могла быть -достигнута.
91
значительная высота. Тогда как в человеке это взаимное
нарастание (Aufeinanderbildung) — где темное слово,
там, верно, скрыта ложь, — идет в бесконечность и
делает человека духовным существом» (Benecke’s Erz.
und Unterr., § 8, S. 34).
Тут-то и запрятаны порвавшиеся концы теории!!
Что же это за следы, сохраняемые памятью; но раз-
ве у животных плоха память?
(Ф. 316, папки № 25, 26, 28, 29, 31).
59. Рассудок — язык
Для чего нужен
рассудку язык.
Понятия
«Язык так же необходим человеку, чтобы развивать
и преследовать собственные свои мысли, как и для того,
чтобы сообщать их другим» (Eiler, т. II, Lettr. XXXII,
р, 339), т. е., как и я объяснял,—для означения понятий.
«Души, составив раз отвлеченные понятия, соот-
ветствующие словам — доброта, добродетель, свобода,
человек и т. д., подставляют тотчас эти слова вместо ве-
щей, которые ими представляются» (ib., р. 344).— Это
не совсем верно, ибо тогда
можно бы говорить бессмыс-
лицу, что и случается, если настоящее значение слова
не понимается нами.
Потом у Эйлера подробное рассматривание всех ро-
дов силлогизмов (ib., Lettr. XXXIV—XI). Он очень_
наглядно выражает их фигурами:
и т. д.
Гербарт совершенно справедливо упрекает психоло-
гов, что они, следуя за логикой, восходящей от прос^
того к более сложному, от понятий к суждениям и от
суждений к умозаключениям, признали в душе различ-
ные способности — понимание,
суждение, разум (Ver^
92
stand, Urtheilskraft und Vernunft), Herb. Schriften, T. I,
S. 59, § 78.
Понятие как логическая категория и понятие как
психическое явление — две вещи разные. «Вместо того,
чтобы, как следует по логике, представлять каждое об-
щее понятие по его содержанию и смотреть на его при-
ложение к предметам, в него входящим, как на нечто
случайное: люди назвали словом известные общие впе-
чатления многих сходных предметов, — и значение
этого
(принятого) слова, которое ничуть не определено
строго, помогает только при употреблении его преиму-
щественно обращать мысль, довольно неопределенную,
на известные признаки» (ib., S. 60, § 79).
Из этого уже видно, как нелепо представление вро-
жденных понятий.
Определены понятия только в науках, но там ясно,
как они образовались.
Кондильяк говорил,что наука есть почти не что иное,
как «une langue bien faite» (MillVLogic, Th. I, p.200).
Признавая всю важность языка как
средства, даю-
щего нам возможность припоминать и сообщать наши
мысли, и оценивая вполне, сколько человек обязан этому
средству, Милль говорит: «Как искусственная память,
язык действительно является орудием мысли; но одно —
быть орудием, а другое — быть исключительным пред-
метом, над которым упражняется орудие. Действитель-
но, мы по большей части думаем посредством имен,
но то, о чем мы думаем, суть вещи, называемые этими
именами; и не может быть большей ошибки, как вооб-
ражать,
что мы можем мыслить одними именами —
или что мы можем заставить имена (слова) думать за
нас» (ib., В. I, Gh. II, р. 200).
Прекрасное выражение… Но может быть такая же
ошибка — это воображать, что впечатления мозга мо-
гут думать за нас; или:как у Гербарта, что представле-
ния сами думают.
Бэн весьма удачно говорит: «Без формального ученья
язык, в котором мы выросли, учит нас всеобщей фи-
лософии века» (ib., В. IV, Ch. III, р. 205).«Он направ-
93
ляет нас наблюдать и знать вещи, которые мы бы про-
смотрели; он дает нам уже готовую классификацию. Чи-
сло нарицательных имен в языке и степень общности
этих имен свидетельствуют о науке эпохи-и о том интел-
лектуальном воззрении, которое есть унаследованное
право того, кто родился с этим языком» (см. также у
Милля В. V, Ch.,П, р. 207).
(Ф. 316, папки № 25, 26, 28, 29, 31).
60. Рассудок — суждение. Логика. Язык
Надо бы особую главу
о сравнении (кар.).
Связь логики и грамматики выражена чрезвычайно
ясно в логике Милля, который свою логику начинает
логическим разбором предложения (Mill’s Logic, Book
I, Chap. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII). Вся первая
книга его — логика. Близкое изучение ее необходимо
для каждого учителя русского языка.
Милль отвергает прежний, исключительно формаль-
ный характер логики и справедливо:
«Понятие, что для логики всего важнее в предложе-
нии отношение между двумя идеями,
соответствующими
подлежащему и сказуемому (вместо отношения между
двумя явлениями, которые выражаются этими идеями),
кажется мне самой гибельной ошибкой, которая только
когда-нибудь была введена в философию логики, и глав-
ной причиной, почему теория этой науки сделала такие
незначительные успехи в продолжение последних двух
столетий» (ib., В. I, Ch. V, р. 98).
Эта же мысль руководила и мной, когда в первой кни-
ге для чтения («Детский мир») я хотел связать рассмат-
ривание
общеизвестнейших явлений природы в системе,
изучение языка и логику (см. в кн. часть — «Детская ло-
гика»). См. Предисловие и еще яснее статья моя в Воен-
ном сборнике 1863 г.*.
* Педагогический сборник 1864 г., кн. 1 и 2, «О первоначаль-
ном преподавании русского языка», то же в собр. сочинений
Ушинского, т. V, стр. 333 (Ред.).
94
По словам Гоббеса в каждом предложении выражает-
ся уверенность говорящего, что подлежащее есть на-
звание того же самого предмета, названием которого есть
и сказуемое, и если это правда, то предложение верно
(ib., р. 99). Так: все люди живые существа — предложе-
ние верное; все люди шести футов росту — предложе-
ние неверное.
Но Милль говорит, что это собирательные слова и
что следует поверить, верно ли они собраны (connotative
Words,p.
101). «Сократ мудрец» — это два имени одного
и того же существа; но надобно было спросить себя,
как они сделались двумя именами одного и того же су-
щества? (Ib., р. 102).
Мое. Ясное дело, что здесь наведение, а в основе на-
ведения лежит сравнение.
«Слова: птица, камень, человек или мудрец выра-
жают только, что человек имеет такие-то и такие-то
атрибуты» (ib., р. 102).
Верно.
Когда мы говорим, что человек смертен, то выражаем
только, что всякое существо, обладающее
одним рядом
атрибутов, обладает и этим — смертностью (ib.).
Определение предложения как помещения предмета
в класс или исключения из класса: «Кай человек» и т. д.
То же самое — ив сущности только приписывает пред-
мету признаки, из которых состоит понятие класса (ib.,
р. 104).
Верно.
Но из этого заблуждения вышла вредная привычка—
все мышление «ограничивать классификацией и наимено-
ванием» (ib., р. 106).
«Предмет уверенности в предложении, говорит
Милль, есть
сосуществование или последовательность
двух явлений» (ib., р. НО) — или вернее: связи во мне
двух душевных состояний.
Следовало сделать Миллю еще один шаг — и он бы
пришел к тому, к чему пришел и я, что весь процесс со-
знания есть процесс сравнения, отыскание сходства или
различия между душевными ощущениями или собра-
95
Из черновых рукописей К. Д. Ушинского
96
ниями душевных ощущений и выражение этого сходства
и различия в логической форме отношения и граммати;
ческой форме предложения.
Замечателен разбор предложения (по этому поводу):
«благородная личность достойна уважения». Понятие
«благородная личность* составлено из явлений; понятие
уважения — тоже; явления эти находятся в такой
связи, что первые вызывают в душе вторые — и вот эта-то
связь явлений и выражена в предложении (ib., р. НО).
Но
где же здесь сравнение? Непременно: самое поня-
тие благородства мы составили из явлений, вызывавших
в нас чувство уважения, следовательно, по сходству;
самое чувство мы отличили от явлений, его вызывавших;
нашли, что явления вызывают чувства, следуют за ними;
и выразили это отношение в предложении: «благород-
ная личность достойна уважения», т. е. по нашему
мнению, т. е. мы уважаем благородную личность;
т. е. известные явления пробуждают в нас чувство
уважения; т. е. между
чувствами и ощущениями та-
кими-то и такими-то — вот какая связь и какое раз-
личие.
Этот разбор миллевского определения предложения
надобно непременно привести там, где говорится о су-
ждении.
Вот почему у меня и у Милля утверждается одно:
«Если есть какая-нибудь темнота или трудность в
предложении, то она лежит не в мнении предложения;
но в значении имен, из которых оно составлено, в очень
сложном значении (connotation) многих слов; в бесчис-
ленном множестве и длинных
рядах фактов, которые
часто составляют явление, означаемое именем» (ib.,
Ch. III).
Это то же утверждение, что и у меня, что ошибки не
в заключениях рассудка или сознания, а в фактах, из
которых выводится это заключение.
Милль предупредил меня, но как доказать, что я у
него не занял? А зачем доказывать? Лучше воспользо-
ваться авторитетом Милля для истины (красн, кар.: но
у него есть и противное этому).
97
Но кроме предложений, утверждающих сосущество-
вание и последовательность явлений, Милль признает
еще предложения, выражающие просто существование
и связь причинности (ib., р. 112), но впоследствии, я
полагал, он и их разложит в атрибуты к сосуще-
ствованию и последовательности.
Странное отношение Милля к понятию сходства.
Он везде от него уклоняется, называя его то «неизъ-
яснимым», то «специфическим» фактом. Особенно ясно
выражено
это: Book I, Ch. V, § 6.
Здесь, не имея возможности удалить из предложений
понятие сходства, он дает предложениям, основанным на
сходстве, особенное, исключительное место, помещает
их последним, пятым родом предложений: «существо-
вание, сосуществование, последовательность, причин-
ность, сходство: то или другое непременно отрицается
или утверждается в каждом предложении, которое не
только словесно» (fb., р. 115).
Я же утверждаю, что сходство и различие есть осно-
вание
всех предложений, а, следовательно, и всей рас-
судочной деятельности. «Сходство, говорит он, есть та-
кой признак, который мы нашли невозможным анализи-
ровать, так как для него нельзя найти никакого основа-
ния (fundamentum), отдельного от самого предмета»…
«Логика, говорит он далее: не принимает на себя обязан-
ности разлагать душевные факты на их первоначаль-
ные (ultimate)* (ib.).
Но такой отказ невозможен. Делает же он этот ана-
лиз везде… Отчего же останавливается
перед сравне-
нием! Я почти уверен, что он попробовал, но и отошел
от этого явления, потому что оно повело бы его к громад-
ной ломке в его миросозерцании.
«Сходство между двумя явлениями, говорит он, по-
нятнее само по себе (а сам же выше назвал его неизъяс-
нимым), чем могло бы его сделать какое-нибудь изъяс-
нение, и в классификации мы должны его специально
отличать от обыкновенных случаев последовательности
и сосуществования (ib., р. 112).
98
Он как бы проводит мою мысль и отчасти на нее на-
падает; но это нападение слабо.
«Иногда говорят, что всякое предложение, в котором
сказуемое есть нарицательное имя, в сущности утверж-
дает или отрицает сходство. Всякое такое предложение
утверждает, что предмет принадлежит к определенному
классу; но так как вещи классифицированы по сходству
(нет,— и по различию); то потому и может быт> ска-
зано, что, утверждая, что золото — металл, или
что
Сократ человек, утверждают, что золото походит на дру-
гие металлы, а Сократ на других людей, (нет, — этого
вовсе не утверждают, иначе бы утверждали, что Сократ
походит на всякого глупца); или ближе, что они — пред-
меты, которые походят на предметы, содержащиеся в
том или другом классе».
«Есть некоторая степень основательности в такой за-
метке, но только некоторая. Распределение предметов
по классам, каковы класс металлов или класс людей,
основывается действительно
на сходстве между пред-
метами, помещаемыми в один и тот же класс, но не на
общем сходстве (but not on a mere general resemblance).
Говоря, золото есть металл, я хотя и говорю (by im-
plication), что если есть другой металл, то он должен
походить на золото (нет, я этого вовсе не говорю); но
если бы не было никакого другого металла, то я мочг бы
сделать то же предложение с тем же самым значением,
как и теперь. (Неправда: ясно, что если бы не было дру-
гих металлов, кроме золота,то
золото не было бы металл,
а просто золото: так предполагаемый физиками эфир
не есть ни жидкость, ни газ… а просто эфир и только);
а именно, что золото имеет различные свойства, входя-
щие в слово металл (но тогда бы и слово металл не суще-
ствовало бы); точно так, как может быть сказано: «хри-
стиане люди» даже если б не было других людей кроме
христиан. (Нет,— тогда бы это положение имело бы со-
вершенно другой смысл: оно бы уже не вводило христи-
ан в класс людей, а приписывало
всякому человеку ат-
рибут христианства, т. е. совокупление атрибутов,
означенных этим именем). Таким образом предложения,
99
в которых предметы относятся к какому-нибудь классу,
потому что они обладают атрибутами, составляющими
этот класс, так далеки от того, чтобы утверждать только
одно сходство, что, собственно говоря, они вовсе не
утверждают сходства» (ib., р. 113).
Замечательно, как ясный язык Милля тускнеет,
когда доходит до сравнения.
Разберем эту путаницу. Вся она основана на неточ-
ности выражения: золото есть металл. Это сокращенное
предложение,
полный смысл которого будет таков:
«золото есть один из металлов*. Т. е. здесь утверждаются
два факта: а) что в золоте есть признаки, из которых
люди составили понятие металл; а составили они его
потому, что заметили одни и те же признаки, принад-
лежащие множеству разнообразных предметов в классе
минералов; если бы не было там особого рода минералов,
то не было бы и понятия металл, а тогда не было бы и
суждения — золото металл; б) кроме того, утверждается,
что золото имеет
свои особые признаки: если бы оно их
не имело, то оно было бы — железо, медь и т. д., но не
золото — самого слова золота не было бы или бы оно ис-
чезло, как только бы люди поняли, что золото и железо—
одно и то же.
Следовательно, в таких предложениях разом утвер-
ждается и различие и сходство предметов, и кроме разли-
чия и сходства ничего не утверждается.
И эта форма сближения по сходству и удаления по
различию так присуща всякому суждению, что из него
не следовало делать
особой и какой-то исключитель-
ной и необъяснимой формы суждения; но положить ее
в основание всех суждений; так что все другие будут
только вариациями этой основной.
Возьмем по порядку все формы суждений, перечис-
ленные Миллем, и докажем это:
а) Суждения, выражающие существование. Таких
суждений в строгом смысле слова нет. Есть бег. Есть
тело. Есть материя. Что говорят эти суждения? Ни-
чего кроме того, что строят уравнение между декартов-
ским cogito, ergo sum — и каким-нибудь
предметом,
100
т. е. собранием каких-нибудь атрибутов. Понятие суще-
ствование взято нами из чувства собственного (своего)
существования, — и мы говорим, что между нашим
самочувствием и данным предметом то сходство, что они
оба существуют; а то различие, что оба они суще-
ствуют независимо одно от другого; что тело есть не
только моя фантазия, но что действительно есть, как
и мое сознание, но только отдельно от него. Вот истин-
ный смысл слов», есть бог;
есть материя; есть душа, т. е.
существует не созданное моим сознанием и суще-
ствует, сознаю я его или нет.
б) Суждения сосуществования, которые сам Милль
заменяет иногда словом порядок места (order in place,
p. 115). Эти суждения выражают также сходство и раз-
личие и ничего, кроме сходства и различия. Так, напр.,
«человек смертен» выражает не более, как уравнение
между (рассудочное уравнение, ибо математическое вы-
ражение только сходство; а рассудочное, словесное —
и
сходство и различие разом: вот преимущество слова
перед математической формулой, но отсюда же и его
неточность) двумя ассоциациями признаков — между
ассоциацией, которая означена словом смертен, и ассо-
циацией, которая означается словом человек. Все, что
входит в ассоциацию «смертное существо», входит в ассо-
циацию человек. Качества предметов живых, уми-
рающих, поразившие наги ум, приравниваются к атри-
бутам, составляющим понятие человек, и вводится но-
вый атрибут. Но
вследствие чего составляется понятие
смертен? — вследствие сравнения впечатлений, очень
разнообразных, но имеющих то сходство, что во всех
жизнь прекращается; точно так же образовалось и по-
нятие человек и в этом уже сложном суждении мы анали-
зируем только, как составилось понятие и говорим, что
в числе атрибутов человека есть атрибут смертно-
сти,— выражаем сознание сходства между двумя ассо-
циациями — смертное существо и человек. Положим,
что мы не знали бы, что человек
умирает; но видели
бы умирающих животных и составили бы себе понятие
о смертном существе, не применяя его к человеку.
101
Потом мы увидели бы, что и человек умер; тогда мы ска-
зали бы: «а, и человек смертен!» — Говоря же теперь
то же самое, мы уже только анализируем, разлагаем
составившееся понятие: это не новый процесс, а распа-
рывание по швам. Для логики же первейшая важность
доискаться образования суждений, чего и сам Милль
держится, вооружаясь против формальной логики,
поровшей по швам и не всегда по швам, потому что она
и хотела посмотреть, как шилось.
Но
что же в этом восклицательном предложении,
кроме сравнения: «а, и человек смертен!» — Ясно,—
сравнение и ничего кроме сравнения.
«Вершина Чимборазо бела» — тут то же самое. Ощу-
щение я назвал белым: взглянув на гору, я ощущаю
сходство или то чувство, которое Милль назвал «специ-
фическим чувством» (ib., р. 112),— чувство сходства.
Тогда бы следовало бы признать еще и другие специфи-
ческие чувства — «чувство различия», — да и не ста-
вить их каким-то особняком, но положить
в основание
всему рассудочному процессу.— Разве без этого чув-
ства — чувства сходства и различия возможно наведе-
ние, на котором Милль основал всю свою Логику! Что
же такое наведение как не сознавание сходства и раз-
личия между явлениями?
в) Суждения, основой которых является последо-
вательность. Это не что иное, как соединение двух раз-
личных явлений во времени: между молнией и громом то
сходство, что они являются в один короткий период
времениr а различие то, что
молния бывает прежде
грома, но гром не бывает прежде молнии и что одна
блестит, а другой гремит: здесь два различных ощуще-
ния связаны сходством и различием во времени.
г) Связь причины. Причина по Миллю есть связь по
последовательности, след., относится к 3 разряду.
Таким образом мы видим, что при образовании про-
стых имен, названий простых ощущений, из которых
складываются все остальные: белый, синий, теплый и
т. д., сознание действует, различая и сравнивая свои
два
состояния; что при образовании из этих имен имен
102
предметов: липа, дуб и т. д., мы действительно опять
сравниваем и различаем] что при образовании имен
классов — дерево, камень, металл — то же самое; при
образовании суждений — то Же; в силлогизме — то же;
в науке опыта, в индукции — то же.
Из этого мы видим, как близорук был Милль, ото-
двинув чувство различия и сходства куда-то в сторону,
как пятое колесо.— Разлагая же уже образовавшееся
суждение, т.е. дедуктируя, мы идем только по готовому
уже
пути и если попадаем на шов, то кричим: истина]
(кар.: потому, что ощущаем легкость движения анализа:
большую чуткость в этом отношении и составляет фи-
лософский гений).
(Ф. 316, папки №? 25, 26, 28, 29, 31).
б) Обзор теорий происхождения языка
61. (VIII, 3—7). Образование языка (из Лотце)
(художественного чувства также)
Исходя из той мысли, что всякое чувственное возбу-
ждение, выходящее извне,представляет собой определен-
ную величину физического движения, которое по
за-
кону инерции не может перейти само собой в покой,
если не будет сломано каким-нибудь противодействием
(?) или не исчезнет, переходя на окружающее, Лотце
принимает, что «всякое нервное возбуждение, дойдя
до центра, вызывает в нем деятельность, выражающуюся
во внешнем мире» (Microkosm, Т. II, S. 210 и 211).
Эта деятельность нерва может перейти или на другие
чувствующие нервы, или на растительные, или на дви-
гательные (ib.).
Если возбуждение возбуждает в душе определенное
чувствование,
то оно и выражается в соответствующих
движениях, например, при гневе стискиваются кулаки.
Но если душа подчиняется только неопределенному
потоку удовольствия или неудовольствия, то тогда на-
чинаются преимущественно разнообразные изменения
дыхания. При каждом поражении души дыхание или
103
замедляется, или ускоряется, или делается глубоким,
или коротким, которое, задевая голосовые связки, вы-
ражается в стонах, криках, всхлипываниях (ib., S. 213).
Все эти движения легких имеют ту особенность, что,
работая над воздухом, не имеют никакой другой цели,
как простого выражения, которое делается ясным еще
более и оттого, что с проходом воздуха из легких при-
рода связала голосовые связки. (Мое. Неужели и здесь
не видна целесообразность?).
Из этого Л отце выводит
весьма основательно, что человек не произвольно
выбрал способ душевного <проявления>, а способ этот
уже обусловлен был прежде в устройстве организма
(ib., р. 214).
Далее Л отце задается вопросом, откуда происходит
то явление, что многие животные обладают голосом и
ни одно не обладает языком? В ответе у него важная
ошибка. Он думает, что содержание языка есть у живот-
ных, но в их организации недостает средства для превра-
щения голоса в язык, и
что преимущество человека в
этом отношении основывается на особенной, лучшей ор-
ганизации. «Язык, по мнению Лотце, развивается из
голоса через расчленение; а способности к членораздель-
ности или вовсе нет у животных, или (она) ограничи-
вается незначительными отрывками» (ib., S. 215).
При этой ошибке однако Лотце очень метко указы-
вает на то явление, не лишенное странности, что тогда
как многие птицы подражают слову человека, ни одно
млекопитающее не может произнести ни
одного слова,
несмотря на то, что у многих из них образование рта,
зубов, языка, глотки гораздо ближе к человеческому,
чем у птицы» (ib).
Это действительно очень странное явление, кото-
рое едва ли можно разрешить. Не потому ли, что птица
обладает более тонким слухом? Что она, видимо, сама
наслаждается своими звуками? Что она при врожден-
ной подражательности почти не имеет другой возмож-
ности подражать? Наконец, вообще не потому ли, что
внутреннее ее состояние выражается
почти единственно
в звуках?
104
Л отце думает, что различные, отдельные согласные и
гласные имеются у млекопитающих, но разделены па
породам, не соединяясь в одной и той же породе в слож-
ные звуки. Собака ясно выражает свое р и грубое х,
кошка знает ф, корова и овца носовое н, и мы не можем
сомневаться, что многие положения рта (замечательно,
что в отношении животного нельзя сказать уст, а должно
сказать рта), необходимые для произношения звуков,
возможны и для животного,
возможны механически, но
что нет побуждения для мускулов и для фантазии жи-
вотного связывать эти звуки (ib., S. 216).
Но не противоречит ли Лотце здесь сам себе? Следо-
вательно, не органический недостаток, как он утверж-
дал выше, а душевный мешает животным говорить.
Но тут же он опять возвращается к прежней своей мы-
сли и, припоминая,что даже обезьяна и собака не издают
ни одного звука, а птицы сами по себе остаются при сво-
их нерасчлененных звуках, думает, что причины
этого
скрываются, ВО-1-Х, в несовершенстве слуха, а во-2-х,
в недостатке органически подготовленного соответствия
между представлением звуков и мускульными движе-
ниями*.
Но ведь это чистое предположение, не основанное ни
на каком анатомическом или физиологическом наблюде-
нии, и которое делается и невозможным, когда мы по-
думаем, что птицы, увлекаемые подражанием, произно-
сят слова и поют музыкальные отрывочки, но все же
не произносят ни одного слова. Следовательно,
органи-
ческая возможность звуков есть, есть и соответствие
мускульных движений звукам,, но нет чего-то другого.
По-моему нет самосознания и с ним соединенного произ-
вола/Птица подражает, потому что слышимый ею звук
сильно отражается в ее нервной системе и оттуда в соот-
ветствующих мускулах языка, но сама не наблюдает
этого подражания.
У птиц, говорит Лотце, попадаются случайно вер-
ные музыкальные сочетания звуков, но это только слу-
чае ибо птица ясно не предпочитает
этих верных тонов
другим, неверным (ib.? S, 216),
105
Следовательно, скажу я, птица не потому не музы-
кант, чтобы не могла быть им по своему организму физи-
ческому, а потому, что недостает чего-то в ее душевном
организме: недостает художественного мерила и недо-
стает самонаблюдения. Человек, без сомнения, также
случайно нападал на музыкальные сочетания звуков;
но, наблюдая все, какие произносит, и сравнивая их
относительное действие на свою душу, невольно оста-
навливался над музыкальными
и предпочитал их дру-
гим. Здесь кроме возможности самонаблюдения врож-
ден человеку вкус, оказывающийся в выборе при срав-
нении.
Но, скажут, почему у восточных народов музыка
не пошла далее нескольких верных сочетаний, утонув-
ших в массе неверных? — Потому, что история, пред-
рассудки остановили их критику, потому что человек
потерял доверие к себе, уничтожился перед преданием
и доволен той психической деятельностью, которую вы-
работала для него история. Причина здесь
— общая
остановка развития. Но выучите азиата европейской
музыке, и он не воротится к своим диким звукам: заста-
вить же европейца, развитого музыкально, полюбить
азиатскую музыку, невозможно.
Известна трудность, говорит далее Лотце, которая
является, когда хотят записать звуки, издаваемые жи-
вотными. Хотя, говорит он далее, если мы разделим лай
или вой собаки в бесконечно малые частички времени,
то каждая из этих частичек будет занята определенной
гласною или согласною;
но «почти никогда положение
рта животного не остается в продолжение измеримого
периода времени в одном и том же положении и каждый
определенный характеристический звук, как только он
хочет выясниться, переходит в другой» (ib., S. 217).
Так определяет Лотце членораздельность, и это вер-
но. Но видна ли здесь органическая невозможность к
членораздельности? Почему же собака не остановится
fia одном звуке, а потом на другом, или не поместит ме-
жду ними периода времени, не наполненного
звуком?
Почему, словом, она »е разложит-своего^р лая, ворчанья
106
или воя в звуки, его составляющие? Потому что не на-
блюдает над собственными своими звуками. В звуках,
издаваемых кошкой, мы заметим почти все коренные
гласные и даже согласные*, м, и, р, с, ш, ц, п… Но жи-
вотное само этого не замечает.
Вероятно* что и у людей вначале элементарные зву-
ки сливались, как и теперь они сливаются у неразви-
тых людей и в неразвитых языках. Только у народов,
много говорящих и любящих музыку, как, например,
у
итальянцев й у русских и французов, членораз-
дельность выработалась совершенно. Даже у молча-
ливого и немузыкального англичанина — она очень
мала.
Итак, членораздельность звуков есть следствие само-
наблюдения и музыкального вкуса: человек сам любит
вслушиваться в свои собственные звуки и разнообра-
зит их: в этом анализе звуков и потом в комбинации их
душа его находит удовлетворяющее ее занятие.
Таким образом, по моему мнению, членораздельная
речь есть произведение,
во-первых:
1) органической способности, общей и человеку и
многим животным, и
2) особенных только человеку принадлежащих спо-
собностей:
а) самонаблюдения и вытекающего из него произ-
вола,
б) музыкального вкуса, руководящего выбором и
сочетанием звуков, и
в) неутомимого стремления души к деятельности в
анализах и сочетаниях,
3) строго общественных, общих человеку и живот-
ному.
Лотце ясно смешивает развитие языка как орудия
речи с развитием гармоничности
в языке, что совер-
шенно другое (ib., S. 219). Английский язык очень не
гармоничен и очень развит.
Лотце ясно колеблется между психической и орга-
нической причиной языка (ib., S. 220). Но разве органы
физические не развиваются от упражнения? Если бы
107
обезьяна начала говорить,то и у нее орган бы речи усо-
вершенствовался.
Лотце нападает на верную мысль, но тотчас же от
нее уклоняется. Он говорит: «В организации птицы ле-
жат основания, в силу которых представление тонов (я
бы сказал впечатление тонов) непосредственно действует
на голосовые нервы и га птицу то самое выполняет,
чего бы она сама не могла выполнить. Для человеческого
дитяти естественен только этот второй способ изучения
языка.
Оно не видит слов выходящими из нашего рта
(?), но изучает их, тогда как его представление звуков
руководит его голосовым органом» (ib., S. 222). Если бы
Лотце постарался выразиться яснее, то скрытая мысль,
толкавшая его на прямую дорогу, высказалась бы окон-
чательно.
У дитяти точно так же, как у говорящей птицы, есть
непосредственный переход мозгового потрясения зву-
ками в движение голосовых органов, и это свойство ув-
лекает детей подражать звукам невольно, как подра-
жает
и птица; но у человеческого дитяти есть еще нечто
другое, а именно способность наблюдать над звуками,
им издаваемыми. Но было бы большой ошибкой припи-
сывать здесь все одному невольному подражанию: птич-
ка, и воспитанная в одиночку, станет петь, когда
прийдет пора, хотя, может быть, не так хорошо, как
воспитанная в обществе певцов своей породы. Пение есть
прежде всего необходимый рефлекс внутреннего чув-
ства, и потом уже подражание, а у человека, кроме
этих двух причин,
и произвол.
Лотце справедливо обращает внимание на тот «чрез-
вычайный интерес, который находит дитя в упражнении
своих голосовых органов и как упорно он покоряет их
своей воле» (ib., S. 222). «В то время, говорит Лотце,
когда у дитяти движение прочих членов тела далеко не
достигает того же совершенства, какого у других живот-
ных в том же возрасте, появляется у дитяти, вместе с иг-
рой физиономии, <охота> забавляться самыми стран-
ными движениями губ, рта и языка, к чему
уже впо-
следствии только присоединяется подвижность горла
108
(Gaumen) и задней части полости рта. Это наблюдение
может нас совершенно наглядно убедить в деятельно-
сти того физиологического природного стремления, ко-
торое в этом случае ясно побуждает внутреннее состоя-
ние души (Gemeingefühls) выражаться именно в этой
форме» (ib., S. 222).
Это замечание очень верное. Деятельность личного
нерва у младенца замечательна. Но мы никак не думаем,
чтобы ребенок забавлялся этими своими гримасами.
Скорее
мы готовы принять за невольные рефлексы того,
что совершается в душе ребенка, безустанно работаю-
щей над усвоением впечатлений, идущих из внешнего
мира.
Все это, как замечает и сам Лотце, показывает только
врожденное человеку стремление «к музыкальной игре
голоса» (ib., S. 224) и могло сделать человека певцом и
только: «Язык же начинается со значением, которое
придают звуку» (ib., S. 225). Следовательно, Лотце так и
не показал рождения языка. Теперь значение звуков,
составляющих
слово, совершенно условное, и едва ли
можно добраться, почему те или другие звуки выбира-
лись для означения того или другого чувства. Лотце
полагает даже, что, смотря по различной восприимчи-
вости души, индивидуальной и постоянной или времен-
ной, возбуждение могло выражаться и различными зву-
ками (S. 225) и «различные звуки с одной и той же фи-
зиологической необходимостью становятся именами од-
ной и той же вещи» (ib., S. 226).
Едва ли это так, тогда бы и улыбка могла
выражать
страдание, а наморщенные брови и стиснутые зубы —
ласку.
«Довольно однообразное обозначение мы можем ожи-
дать только для тех предметов и событий, которые силь-
но действовали на человека и возбуждали в душе каж-
дого одинаковое движение» (ib.).
Это верно; но, без сомнения, эти сильные возбужде-
ния облеклись первыми в слово. Когда же эта первая
потребность выражения была удовлетворена, тогда вни-
мание было привлечено к более тонким различениям
109
ощущений и чувств, возбуждаемых внешними впечатле-
ниями. Это и во всем так.
Кроме того, Лотце признает еще один источник
слова — звукоподражание. Это верно.
Но Лотце признает за известное (gewiss), что уже и
вначале язык не был «собранием диких, страшных кри-
ков, но стремился выражать и покойные состояния
души» (ib., S. 226).
Но откуда же это gewiss?
Лотце оспаривает мое мнение на том основании, что
если бы слово родилось из чувства,
возбуждаемого
вещью, то оно носило бы характер этого чувства. Но он
забывает многовековую уже логическую историю язы-
ков и их смешение; а кроме того, и то, что мы не знаем,
какие звуки выражают какие чувства, не можем и заме-
тить отпечатка чувства в названии предметов.
Другое опровержение Лотце основывается на том,
что у каждого предмета множество признаков, и нет ни-
какого правила, по которому бы наше внимание должно
было переходить ряд этих признаков (ib.). Но мы ча-
сто
называем и теперь предметы по одному признаку,
отчего и синонимы в языке; так : см. Буслаев: горница,
светлица, покой.
В конце концов Лотце оставляет этот вопрос нерешен-
ным, — след., о происхождении (не звуков) языка ни-
чего не говорит и пускается в филологические изыска-
ния (ib., S. 227).
62. (VIII, 1—2). Язык. Его происхождение
(Теория Бенеке)
Бенеке называет язык «рефлексом формирования рас-
судка» (Erz. und Unter., Т. I, § 36, S. 143).
Первый крик, по Бенеке,
есть не более, как перенос
на мускулы голосового органа новых впечатлений,
т. е. на теперешнем языке — простой рефлекс (ib.,
S. 144).
«Всякое сильное внутреннее возбуждение уравнове-
шивается в ту или другую сторону, а если оно очень силь-
но, то во все. В этом мы находим правильное разреше-
110
ние спорного вопроса о происхождении языка. Язык на-
чался, как и теперь начинается он у каждого дитяти, пе-
реносом внутренних возбуждений по законам выравни-
вания (Мое: или проще, рефлекса). Они точно так же
переносятся и на другие системы: дают главу блеск,
производят игру физиономии, перемену места, движение
членов; точно так же переходят они и на.голосовые ор-
ганы, через возбуждение которых происходят движе-
ния, делающиеся потом
доступными слуху. Через ча-
стое повторение эта передача фиксируется более и бо-
лее, а основавшаяся таким образом ассоциация заме-
чается и прилагается далее. Вот очень простое и есте-
ственное возникновение и первое образование языка»
(ib., § 36, S. 144).
Внизу Бенеке замечает, что такая передача вообще
яснее замечается в детях, у которых вообще все раз-
дражительнее и подвижнее.
Так и потом они не могут удержать крика радости
и повторяют имя вещи, которую видят, без
всякой осо-
бенной цели. «Даже переноса умеренного внешнего воз-
буждения достаточно, чтобы инстинктивно привести в
движение их голосовые органы» (ib., S. 144, Anmerk.).
Сначала эти звуки очень неопределенны, так. что
кажется, что в одних и тех же тонах они выражают же-
лание, боль, страх, радость и т. д. Но это только так
кажется, ибо «известное различие должно уже иметь
место при самом начале». Вообще крик боли резче и
яснее, тоски — тупее и сдержаннее (?) (heiser und gezo-
gen),
ужаса — внезапно прекращается и т. д. … Окру-
жающие дитя инстинктивно угадывают их различное
значение (ib., S. 145).
Мое. Но разве это язык? Это крики-рефлексы чувств,
замечаемые и у животных.
Но вот рождается и язык:
«Скоро замечает дитя, что вследствие его криков
удовлетворяются его потребности; и тогда скоро, даже и
тогда, когда нет непроизвольного и неудержимого по-
буждения изнутри к голосовым проявлениям, они по-
являются уже только для того, чтобы достичь, чего
дитя
111
желает. Таким образом ассоциация, установившаяся
между удовлетворением и потребностью, укрепляется
и это ясно делается из практических побуждений, при-
чем ассоциация образуется в обратном порядке (?)».—
Этот обратный порядок Дресслер объясняет так:
«сначала шла потребность и ва нею следовало удов-
летворение, а теперь в силу установившейся ассоци-
ации удовлетворение, как желание, предшествует, и
потребность, которая без того оставалась
бы еще не-
возбужденной, следовательно, уже после пробуж-
дается» (ib., S. 145).
Так объяснил Дресслер это загадочное слово в об-
ратном порядке, а между тем в этом слове и лежит
ключ к объяснению всего вопроса.
Но как же это так? Ребенок кричит, чтобы его пе-
ревернули, когда ему еще не хочется, чтобы его воро-
чали? Но ведь тут просто нет смысла. Правда, предста-
вление предмета часто возбуждает в нас желание; но
точно так же желание возбуждает представление пред-
мета,
а в теории, которая не признает врожденных же-
ланий, — это не имеет смысла.
Другим мотивом образования языка служит, как и
у меня сказано выше, — симпатия. «При звуках, кото-
рые дитя слышит от других людей, воспроизводятся
в его душе чувствования боли (?), недостатка (?), удо-
влетворения, радости и т. д., которые он прежде сам в
себе испытывал и с теми же тонами связал» (ib., § 36,
S. 145).
Третьим деятелем в образовании языка Бенеке при-
знает стремление к подражанию,
что тем страннее, что
Бенеке вообще не признает никаких «врожденных стре-
млений» (ib., S. 146).
При этом Бенеке признает такую связь между слу-
ховым органом и голосовым, что уже слышимый звук
затрагивает и соответствующий голосовой мускул;
но это едва ли можно признать, так как тогда необъяс-
нима была бы постепенность усовершенствования в
языке. Соотношение, должно быть, есть, но оно разви-
вается упражнением.
112
Все эти мотивы образования языка действительно
существуют; но из действия всех этих мотивов вместе
и по одиночке — языка не произойдет.
Чтобы создать слово, нужно обратить внимание не
на предмет, а на представление предмета; не на то, что
возбуждает чувство, а на самое чувство, и связать его
с звуками слова.
Этому соответствует и то постепенное развитие язы-
ка у детей, на которое справедливо указывает Бенеке.
Так «для ребенка сначала
каждая женщина —
мать; каждая старуха — бабушка; каждый мальчик —
Карл; каждый цветок — роза, и т. д.» (ib., §37, S. 151).
Но потом следует участнение, а как же оно совер-
шается? Именно вследствие самонаблюдения, когда дитя
начинает замечать, что представления и чувства, ими
возбуждаемые в отношении разных лиц, которых он
называет мамой, различны, — и вот он начинает гово-
рить чужая мама, тетя и т. д.
Чем далее идет приобретение представлений и чем
глубже идет самонаблюдение,
тем и язык разнообразнее,
обильнее, определеннее — и у дитяти, и у народа. Ког-
да дитя начинает уже кстати употреблять наречия,
предлоги и союзы,— тогда это показывает значитель-
ное развитие самосознания. «In dem Zwar», говорит
Жан-Поль Рихтер: «steckt ein kleiner Philosoph» (Levana,
2. Aus., S. 697).
Некоторое значение имеет педагогическое правило
Бенеке, «чтобы самостоятельное внутреннее образова-
ние всегда предшествовало развитию языка» (ib., §37,
S. 154).
Т.
е. чтобы дитя не привыкло наслаждаться звуками,
смысла которых не понимает.
63. (VIII, 12). Язык. Вообще о чувствованиях и их
разделение. Аффекты. Название чувствований. Вундт
Вообще у Вундта о чувствованиях — и мало (всего
три первые главы 2-го тома) и плохо, несмотря на то,
что он признает всю важность этих психических явле-
ний (Т. II., S. 2).
113
Главный характер чувствований субъективность
«и как только субъективность их разрушена, так они и
перестают быть чувствованиями» (ib., S. 3).
Но отсюда вдруг такой вывод:
«Если отношение к чувствующему субъекту характе-
ризует чувствования, то ясно, что они не могут быть
первоначальными состояниями души и предполагают,
по крайней мере, образование сознания» (ib., S. ö). Но
почему же? Я же думаю, что страдание был первый ду-
шевный акт.
Но это потому, что у Вундта само я слож-
ный продукт.— Следовательно, мне больно — по-
сылка. Это дичь!
Он предполагает такое первоначальное состояние
души, когда чувствование и ощущение были нераз-
дельны. Это вероятно; но прежде были чувствова-
ния, а потом уже от них отделились причины чув-
ствований — ощущения, когда чувствование успокои-
лось. При сильном чувствовании мы и наблюдать их
не в состоянии и не можем отделить одно ощущение
от другого.
Вундт говорит,
что «язык, который вообще изобра-
жает степень нашего рассудочного отделения вещей,
не делает в сфере жизни чувствований далеко такого
множества тонких различений, как в области позна-
вательного развития». И мы, заимствуя слова из физи-
ческого мира, говорим о гнетущем горе, о жгучей любви,
о грызущей тоске и т. под. (ib., S. 21).
Мое. Но это понятно. Чувства, точно так же, как и
ощущения, мы выразить словами не можем; но на при-
чину ощущения мы можем указать, а чувствования
пе-
редаются только воплощением; но я думаю, что первые
ощущения выражались названиями чувствований, вну-
шаемых ими, а потом наоборот. Вообще ни чувствова-
ний, ни ощущений язык не может выразить, а описывает
одни другими. Он выражает только отношение психиче-
ских явлений, а не их сущность. Что такое любовь или
гнев, такой же безответный вопрос, как и вопрос, что
такое тепло или зеленый цвет. Вот мы и говорим о теп-
лых цветах.
114
64. (VIII, 8). Разделение устных звуков (Мюллер)
Мюллер справедливо замечает, что не все звуки про-
изводим устно, употребляя в речи, так как не все удоб-
но связываются с другими (Man. de Phys., Th. II,
p. 237).
Справедливо говорит он также, что разделение зву-
ков должно быть сделано физиологами и что попытки
грамматиков неудачны (ib.). Разделение грамматиками
звуков по органу, их производящему, неверно физио-
логически.
Различие
гласных от согласных гораздо менее, чем
полагают, ибо гласные точно так же, как и согласные,
можно сделать беззвучными, т. е. можно произносить
и гласные устно, не прибавляя к ним звуков голоса,
т. е. шопотом. Различать буквы должно именно произ-
нося их шопотом (ib., р. 238). Напротив, многие звуки,
признаваемые согласными, могут, как и гласные, про-
износиться шопотом, или громко.
Изучая шопотом звуки, Мюллер разделяет их на
два рода. Одни тихи и совершенно неспособны соеди-
няться
с голосом; другие тихи, но могут соединяться с
голосом (произноситься голосно), могут голосить.
Другое верное различие состоит в том, что одни
производятся быстрыми изменениями в положении ча-
стей уст, в одно мгновение, и не могут быть продол-
жаемы; тогда как другие выходят без перемен в поло-
жении частей уст (?) и могут быть продолжаемы по про-
изволу, насколько позволит скопление воздуха в легких
(ib.). Все звуки первого рода по природе шопотны
(muets) и не могут соединяться
с голосованием, не
могут быть голосованы.
65. Мы встретимся с книгой г. Гейгера (Ursprung
und Entwickelung der menschlichen Sprache und Ver-
nunft, von Geiger, Stuttgart, 1868) при изложении тео-
рии языка в 3-м томе (т. VIII, стр. 453).
66. Даль в предисловии к словарю говорит: «Без
слов нет сознательной мысли; а есть разве одно только
115
чувство и мычанье. Дух не может быть порочен, в
малоумном та же душа — ума много, да вон не идет.
Отчего? Вещественные снаряды служат ему превратно,
они искажены; дух ими пригнетен, он под спудом, а
без вещественных средств этих в вещественном мире дух
ничего сделать не может, не может даже проявиться».
(В первом предисл. стр. III).
Инстинкт — побудок (Даль).
(Ф. 316, № 69, «Записная книжка», стр. 81).
в) О возникновении речи у человека
67.
(VIII, 10). Образование языка. (Мое мнение)
Материал языку дали рефлексы чувства, кото-
рые были не только мимические, но и фонетические,
т. е. мимико-звуковые, условливаемые самым сродством
этих двух форм выражения, как это мы видели, изучая
нервные орудия языка. Невольная, рефлективная ми-
мика уст, сопровождаемая такими же невольными реф-
лективными движениями легких и потрясениями голо-
совых связок, — вот физический источник речи. Само-
наблюдение же, свойственное только
душе человека,
есть его психический источник. Человек тогда произ-
нес первое слово, когда заметил в воспоминании своих
чувств и действий, что известное, конечно, сильное
чувство сопровождается определенным звуком и, желая
другому сообщить об этом чувстве, употребил этот звук,
и другой его понял, потому что сделал над собой то же
самое наблюдение. Так рефлективный звук, выражаю-
щий то или другое чувство, превратился в условное
выражение чувства, в слово. К этому присоединились
естественно
слова звукоподражательные — трах, грох,
свист, шип и т. п.
Конечно, первые слова были немногочисленны, и все
должны были выражать или чувство, или звук природы
и сопровождаться усиленной мимикой.
Слова эти не были никакой частью речи, это были,
по нашему нынешнему понятию, междометия, или, ско-
116
рее, корни слов, из которых могли образоваться й гла-
голы, и существительные, и прилагательные. Части речи
стали уже образовываться в разговорном языке, когда
понадобилось выразить различные отношения говоря-
щего или слушающего к предмету. Важный шаг уже
был сделан в языке, когда появилось прилагатель-
ное, т. е. когда человек оторвал качество оъ предмета,
который еще не имел названия. Из прилагательных
образовались существительные и
глаголы, последние —
когда потребовалось обозначить не предмет, а явление
и его совершаемость во времени. Затем началось
сочетание слов, потребовавшее предлогов и союзов.
Может быть предлоги есть обрывки древних корней, став-
ших выражением отношений. Спряжение образовалось
из прибавки личных местоимений и глагола быть. На-
речия = — слова, оставшиеся в одной форме от ча-
стого употребления.
Когда в процессе самонаблюдения человек получал
возможность анализировать процесс
образования сужде-
ний, тогда началась грамматика.
Склонение по окончаниям, вероятно, образовалось
из предлогов, прибавляемых к концу слова для выра-
жения отношений между предметами; а в других языках
из приложений к началу, что составило члены.
Чем лучше язык выражает логические отношения
понятий, тем он бесцветнее, но тем он логичнее; чем
лучше язык выражает породившие его чувства, тем он
первобытнее и живописнее. В нашем языке форма
чувства и стремительность выражения
преобладают над
логикой. Отсюда трудность разбора наших предложе-
ний. Но логика языка везде одна и наши филологи на-
прасно стараются оторваться от общей человеческой
логики. Задача языка примирить логику с чувством,
не утратив свежести последнего.
68. Физический аппарат воли и к рождению языка
(Мюллер)
Об аппарате мускульном мы говорили уже в 1-й час-
ти: теперь следует еще сказать об аппарате нервном.
117
Мимика. «Недостаток изолирований движений дела-
ет физиономию незначительной и усовершенствованию
этой способности следует приписать выразительность
черт лица» (M. de Phys., p. 48). Но не противоречит
ли Мюллер сам себе, говоря в другом месте, что соот-
ветствие определенных мимических движений с опреде-
ленным состоянием души врождено и принадлежит
= =з =5» причине. Вернее было бы выразиться так, что
мы научаемся оказывать произвольное
влияние на эти
мимические рефлексы.
Очень верно то место, в котором (ib., В. II, р. 82)
Мюллер говорит, что «некоторые группы мускулов жи-
вотной системы постоянно расположены к непроизволь-
ным движениям, по причине легкости, с которой возбуж-
даются их нервы, или скорее по причине возбудитель-
ное™ тех частей мозга, из которых эти нервы выходят.
Все дыхательные нервы, включая в число их и личной,
находятся в таком положении. Всякая резкая перемена
в состоянии души способна
вызвать в продолговатом
мозгу истечение нервной силы в эти нервы. Даже при
отсутствии страсти всякая быстрая перемена идеи,
как, например, той, которая возбуждает в нас смех,
вызывает это излияние, которое выражается тогда в
мускулах лица и в дыхании» (ib., р. 82).
Дыхательная часть нервной системы в особенности
подвергается невольному влиянию страстей. Всякая
резкая перемена в мозгу, простирающаяся в продолго-
ватый мозг, тотчас же изменяет дыхательные дви-
жения, деятельность
всех дыхательных нервов в тесном
смысле и влияние дыхательного нерва лица» (ib., р. 83).
М. Из этого можно вывести, что так как личной нерв
производит определенное мимическое движение в ответ
на определенное состояние души, то при усиленном и
определенном тоже движении легких должен был вы-
ходить определенный звук, всегда соответствующий дан-
ному чувствованию. Так, напр., наше слово выть и не-
мецкое weinen и слово увы и heu — должны быть од-
ного корня в, выражаемого нижней
губой, прижатой
к верхним зубам, что и теперь ясно у детей, когда они
118
плачут. Слова — хохот, смех, lachen имеют в корне
звук ху— очень ясный рефлекс при всяком хохоте.
Слова сердиться, s’irriter, zornig, anger ясно напирают
на звук ррр, выражающий гнев у собаки. Англий-
ское слово anger имеет, кажется, созвучие с нашим —
гнев — звуки г и н ясно слышатся при глухом, еще не
взорвавшемся гневе.
(Следовало бы купить лексиконы — латинский, гре-
ческий Шимкевича, нет ли какого славянского и санс-
критский)
.
Страх, crainte, effroi, schrecken — имеют также об-
щий звук р и, кажется, я, или ф.
Припомнив, что в 1-й части было сказано о наслед-
ственности личной мимики, можно понять, почему у од-
них народов в выражении чувств преимущественно вы-
давался один звук, у других другой.
(С лексиконами можно было бы справиться в публич-
ной библиотеке).
NB. При выговоре слова смех рот принимает
форму улыбки. А свет?
В разделении и разъяснении страстей Мюллер сле-
дует Спинозе,
говоря прямо, что его анализ стра-
стей не превзойден никем (ib., р. 83). Вот почему Мюл-
лер делит страсти на возбуждающие и подавляющие.
«В страстях возбуждающих, говорит Мюллер, про-
исходит напряжение и часто даже конвульсивные дви-
жения мускулов и именно мускулов, находящихся в
зависимости от нервов дыхательных и личного. Не
только расстраиваются черты лица, но изменяются и
движения дыхательные до того, что производят слезы,
вздохи, икотку. Можно плакать от радости,
от печали,
от гнева, от бешенства. (Как же тут с моей теорией реф-
лективных корней?) В страстях подавляющих, каковы
тоска, страх, ужас, все мускулы растягиваются, ибо
двигательные влияния большого и спинного мозга
уменьшаются, ноги не поддерживают тела, черты опус-
каются, глава становятся неподвижными, голос падает».
119
Потом Мюллер говорит о страстях смешанных и их сме-
шанных выражениях, но неудачно, ибо страсти у него
анализированы плохо (ib.).
Дрожь членов и частей лица Мюллер приписывает
тому, что произвольные движения мускула наполовину
парализованы страстью и он не вполне повинуется влия-
нию воли. «Это в особенности испытываем мы в муску-
лах лица, когда хотим их двигать, будучи под влия-
нием подавляющей страсти. Они дрожат тогда, как и
голосовые
органы, и когда мы хотим говорить, то голос
нам изменяет» (ib., р. 84).
Это верно; но можно заметить, что члены и черты
лица продолжают дрожать и тогда, когда мы не усили-
ваемся их двигать. Может быть, это борьба с тем нор-
мальным напряжением мускулов, в котором она по-
стоянно находится у живого человека, оставаясь в со-
стоянии покоя, и влиянием страсти или какой-нибудь
физической причины, которая стремится их парализо-
вать, умертвить, или стянуть или растянуть.
Самый
чувствительный проводник страстных со-
стояний души есть личной нерв…
(Ф. 316, папки № 25, 26, 28, 29, 31).
69. О происхождении языка
…На чем основывается возможность появления у
человека таких понятий, как, напр., рост, цвет, движе-
ние и т. п., а вследствие того и создание слова, как вы-
ражающего всегда или отвлеченный уже признак:
красный, сладкий, сильный, или соединение отвлечен-
ных признаков в одно отвлеченное понятие: дерево,
вверь, лист и т. п.? Эта способность,
как мы думаем,
основывается единственно на человеческой способности
самонаблюдения. Только обращая внимание на свой мы-
сленный процесс, человек мог создать отвлеченное по-
нятие и вместе с тем слово, так как в формации слова
мы видим формацию отвлеченных понятий.
Нет сомнения, что слово есть произведение общежи-
тия: человек, выросший в одиночку, останется немым,
120
как вверь, только определенными звуками выражая
чувства боли, голода и т. п. Если же человек захочет
выразить другому то, что совершается у него в душе, то
должен обратить внимание на самый процесс этого со-
вершения и найти средства какими-нибудь знаками или
звуками возбудить тот же самый процесс в душе слу-
шателя. Из этого стремления и рождаются слова языка.
Мы, конечно, не внаем, как родились первые слова; но
можем по аналогии судить
об этом, замечая, как рож-
даются последующие. Если человек, как мы уже гово-
рили выше, видит новое явление и хочет другому выра-
зить то, что он видел, то он обратит внимание на впечат-
ление, произведенное в нем самом новым явлением,
и на то соотношение, в которое вступило в его уме это но-
вое явление с прежними, общими и ему, и слушателю.
Таким образом является потребность обобщения явле-
ний, а вместе с тем и возможность обобщения, а вместе
с тем и самое обобщение, т.
е. понятие и его представи-
тель — слово. Попробуйте рассказать другому о новом
явлении,— и вы создадите новое понятие, а, может
быть, придумаете и новое слово.
Вот почему все слова языка находятся между собой
в таком соотношении, в каком для нашего сознания на-
ходятся явления в мире, и если бы мы могли вполне про-
следить историю языка в человечестве, то мы просле-
дили бы историю образования понятий, историю отвле-
чения признаков и их обобщений в понятия.
Имеют ли
животные эту способность самонаблюде-
ния, это, конечно, узнать невозможно; но если бы они
ее имели, то создали бы язык, потому что способность
к членораздельным звукам, приписываемая обыкновен-
но людям, есть пустое преимущество, которое действи-
тельно уже могло развиться от усилий и от упражнений.
Попугай производит же членораздельные звуки; у ди-
каря эта способность очень слаба; даже у обрадованных
народов учение и упражнение имеют ясное влияние на
усиление способности
к членораздельным звукам.
Сообразив все это, мы, кажется, можем прийти к заклю-
чению, что первые люди едва ли были способнее живот*
121
ных к членораздельным звукам. Если уж какая-либо
способность может разрабатываться, то, конечно, более
всего способность к членораздельным звукам. Что чле-
нораздельность есть не более как привычка, это яс-
но видно при учении глухонемых. Они сначала испус-
кают звуки совершенно животные, но потом, мало-по-
малу, приучаются к членораздельности. Мнение же не-
которых естествоиспытателей, напр., Фогта, что у жи-
вотных есть дар слова, показывает
только, что эти ес-
тествоиспытатели не понимают, что такое дар слова.
Если бы у животных был язык, то мы могли бы выу-
читься этому языку, как выучиваемся языку дикарей,
потому что язык есть обобщение явлений, а обобщение
может быть только одно и, следовательно, общее для
человека и для животного.
Способность самонаблюдения, или иначе — самосо-
знание, находит себе прямое выражение в слове, и где мы
не находим такого выражения, там не имеем никакой
причины предполагать
и самосознания. Но, конечно,
признание такого отличия человека от животных, —
отличия, подтверждаемого фактами вроде слова, науки
и искусства, не годится для материалистической фило-
софии (т. 111, стр. 432—434).
70. Об историческом возникновении языка в человече-
ском роде и об усвоении его ребенком
Не нужно большой наблюдательности и большой
учености, чтобы видеть, что язык, которым мы обла-
даем, не есть что-нибудь прирожденное человеку и не
какой-нибудь случайный дар,
упавший человеку с неба,
но плод бесконечно долгих трудов человечества, начав-
шихся с незапамятных времен и продолжающихся до
настоящего времени в наследственной передаче от пле-
мени к племени и от одного поколения к другому. Фи-
лология доказывает несомненно, что многое в том языке,
которым мы теперь обладаем и который называем рус-
ским и нашим, было выработано теми отдаленнейшими
предками нашего племени, которых и имени мы не знаем
и которые были в то же время предками
греков и римлян,
122
и множества других народов, говоривших и говорящих
языками, повидимому, совершенно чуждыми нашему.
Медленно, в продолжение многих тысячелетий, совер-
шалось это сознательное творчество человечества, в ко-
тором оно вырабатывало себе послушное орудие для
выражения своих чувств и мыслей, вырабатывало из
тех немногих, прирожденных ему, невольных звуков,
которыми первобытный человек, наравне со многими
животными, выражал, и сам не зная, как
и почему, свои
чувства и желания.
Нет сомнения, что вся эта выработка свободного
языка ив невольных звуковых рефлексов чувства, остатки
которых мы слышим и теперь в наших междометиях,
совершалась сознательно и свободно, вследствие само-
сознания и свободы, которыми творец отличил человека
от всех прочих живых тварей земного шара. Но не так
совершалась и теперь совершается передача приобретен-
ного уже словесного капитала от предков к потомкам,
от одного поколения к другому.
Всякое дитя, одарен-
ное слухом, усваивает уже готовый, прежде его создан-
ный язык. В этом отношении мать, няня, словом, семья
являются первыми наставниками ребенка в отечествен-
ном языке. Когда доходит дело до учителя, то дитя уже
обладает громадным сокровищем, даже превышающим
детские потребности. У шестилетнего дитяти уже гораздо
более слов и оборотов для выражения чувств и мыс-
лей, чем самых чувств и мыслей. Он во многом только
по врожденной человеку переимчивости перенимает
язык
взрослых, но сам еще не вырос до этого языка,
так что множество слов и оборотов, уже усвоенных дитя-
тей в виде следов механической памяти, в виде нервных
привычек, еще не сделалось вполне его духовным достоя-
нием.
Из такого отношения дитяти к полуусвоенному им
языку, созданному самосознанием и свободной волей
бесчисленного множества предшествующих ему поко-
лений и усвоенному ребенком скорее вследствие вро-
жденной ему подражательности и вследствие заразитель-
ности
нервных рефлексов, чем вследствие понимания
123
потребности того или другого слова и выражения, легко
выводятся разнообразные обязанности первоначаль-
ного наставника в отечественном языке. Перечислим
их кратко:
1. Наставник обязан заботиться о том, чтобы дитя
все более и более вступало в духовное обладание теми
сокровищами родного слова, которые оно усвоило толь-
ко подражанием, полусознательно, а иногда даже вовсе
бессознательно, механически, почему и употребляет
их часто некстати,
не зная настоящего, точного значе-
ния употребляемых им слов и оборотов. Чрезвычайно
ошибочно было бы думать, что это может быть дости-
гнуто легко и скоро. Вникнув в дело глубже, мы найдем,
что во всех нас и во всю нашу жизнь продолжается та-
кое, более или менее деятельное, духовное усвоение
языка, которым уже обладает наша память. И несмотря
на это постоянное усвоение, самый развитой человек мо-
жет убедиться, что он все же употребляет множество
слов и оборотов, строгое
значение которых не вполне
им сознано. Но тем не менее эта работа постепенного
сознавания полусознательно или совершенно бессозна-
тельно, через подражание только усвоенного родного
языка, должна начаться с самых первых дней учения и
по своей первостепенной важности для всего развития
человека должна составлять одну из главнейших забот
воспитания. Какой-то великий мыслитель (Кондиль-
як, если не ошибаемся) сказал, что сама наука есть не
что иное, как хорошо выработанный язык,
и это выра-
жение, если не вполне справедливо, то имеет много
справедливого. В языке каждого развитого народа
слагаются результаты жизни, чувства, мысли бесчислен-
ного числа индивидов не только этого народа, но и мно-
жества других, язык которых он унаследовал: и все
это громадное наследство душевной жизни бесчислен-
ного числа людей, копившееся многие тысячелетия, пе-
редается ребенку в родном языке! Немудрено же, что
дитя долго, а, может быть, и никогда не справится
вполне
с этим громадным наследством, — не сделает
его действительно своим духовным богатством.
124
2. Язык, перенимаемый детьми у взрослых, не всегда
бывает безукоризненен: богатый в одном отношении, он
бывает иногда чрезвычайно беден в другом; бывает,
кроме того, испещрен неправильностями, недомолв-
ками, провинциализмами и барбаризмами. Чем теснее
и беднее та сфера,’ в которой выросло дитя, тем скуд-
нее его словесный за пас; но не должно думать, чтобы эта
скудость слов и оборотов условливалась непременно
бедным социальным положением
дитяти: часто дитя бо-
гатого класса беднее в этом отношении дитяти крестья-
нина. Кроме того, в язык ребенка входит из окружаю-
щей его среды множество уродливостей и, в низшем
классе, провинциализмов, а в высшем — чужеземных
слов и оборотов. Наконец, очень часто в той обществен-
ной среде, в которой ребенок усваивает родной язык,
многие слова и обороты, имеющие тесное значение,
употребляются в смысле более обширном и, наоборот,
словам и оборотам, имеющим обширное значение,
при-
дается часто какой-нибудь особенный, узкий смысл.
Отсюда возникает для наставника обязанность исправ-
лять и пополнять словесный запас дитяти сообразно о
требованиями его родного языка и притом вводить эти
исправления и пополнения не только в знание дитяти,
но и в число его привычек, выполняемых с той легкостью
и быстротой, которых требует речь словесная и даже
письменная.
3. Дитя усвоило язык подражанием, но язык, как
мы сказали, создан не подражанием (кому же человек
мог
подражать?), а самосознанием, т. е. наблюдением
человека над тем, что совершается в его душе и что он
выражал сначала невольно, как и животное, теми или
другими звуками и той или другой связью этих звуков.
Пройти этот путь самосознания и составляет собственно
дело филологии, или языкоучения. Филология, так ска-
зать, распутывает ту сеть звуков, которую создало чело-
вечество из первоначальных звуковых рефлексов в про-
должение многовекового своего существования и среди
бесчисленного
множества исторических случайностей;
она старается открыть те душевные законы и те истори-
125
ческие влияния, на основании которых самосознанием
человечества выплеталась эта сеть, покрывшая земной
шар сотнями языков, тысячами наречий. Понятно, что
такая наука должна быть безгранично обширна и что
она далеко еще не прошла всего предстоящего ей пути.
Но тем не менее филология, т. е. сознание душевных за-
конов и исторических влияний, при которых создавался
и существует язык, начинается уже с самых первых лет
учения, — начинается с
той минуты, когда ребенок со-
знает связь подлежащего с сказуемым или согласование
прилагательного с существительным. Таким образом,
грамматика является началом филологии и в то же время
началом самонаблюдений человека над своей душевной
жизнью. В этом отношении грамматическое изучение
имеет чрезвычайную важность: отрывая внимание детей
от внешней природы, оно направляет его на их же соб-
ственные душевные состояния и душевные процессы.
Многие науки обогащают только сознание
дитяти, да-
вая ему новые и новые факты: грамматика, преподавае-
мая логически, начинает развивать самосознание чело-
века, т. е. именно ту способность, вследствие которой
человек является человеком между животными. Вот по-
чему грамматику не без основания причислили к числу
наук, очеловечивающих человека (humaniora) (т. VII,
стр. 239—243).
4. СВОБОДА ВОЛИ
а) Идея свободы воли
71. Произвольный рассудочный процесс свойствен
только человеку: только человек, часто с заметным
на-
силием для своего нервного организма, ищет различий,
сходств, связи и причин там, где их и не видно: переби-
рает с этой целью свои произвольно или непроизвольно
составленные представления и понятия, связывает те,
которые связываются, разрывает те, которые должны
быть разорваны, ищет новых. Источник этой свободы в
рассудочном процессе человека находится в свободе его
126
души, а источник свободы его души — в ее самосознании;
ибо свободную волю, как это мы увидим впоследствии,
может иметь только то существо, которое имеет спо-
собность не только хотеть, но и сознавать свой душев-
ный акт хотения: только при этом условии мы можем
противиться нашему хотению. Эта связь рассудочного
процесса в человеке с духовными особенностями челове-
ческой души помешала нам изучить вполне этот процесс
в человеке, что мы можем
сделать лишь тогда, когда бу-
дем изучать его духовные особенности (т. VIII, стр. 672).
72. Если существование двух первых образовате-
лей (факторов) характера (наследственности и сре-
ды. — Ред.) не подлежит сомнению, хотя границы их
действия и неопределенны, то самое существование
третьего фактора, а именно личной воли человека,
признаваемое одними, отвергается другими. Одни при-
знают, что несмотря ни на какое влияние, идет ли оно
из прирожденных особенностей человека,
или из впе-
чатлений жизни, точно так же от него не зависящих,
как и врожденные особенности, человек может свободно
вырабатывать свой характер. Другие, наоборот, утвер-
ждают, что самое направление, или вернее — содержа-
ние воли совершенно условливается двумя первыми
факторами и что, следовательно, помимо их, человек не
может внести никакого нового элемента в свой характер.
Вопрос этот по самому содержанию своему относится
к третьей части нашей антропологии, где нам при-
дется
говорить о свободе воли, которая, если и может
быть признана, то только как результат самосознания,
следовательно, исключительной принадлежностью че-
ловека, его духовной особенностью (т. IX,стр. 449—450).
73. Неужели человек сам не принимает никакого
участия в образовании собственного характера, из ко-
торого потом, как математические выводы, вытекают
все его желания, решения и поступки? К такому безот-
радному и унизительному выводу должна притти вся-
кая психология, отвергающая
свободу воли в человеке»
127
Для такой психологии вся жизнь человека есть средняя
математическая Линия, проводимая между двумя влия-
ниями: влиянием врожденных особенностей темперамента
и влиянием случайностей жизни. Если бы наше изучение
психических явлений остановилось на той ступени, ко-
торой мы достигли теперь, то мы и должны были бы
признать этот роковой фатализм в образовании каждого
человеческого характера, из которого поступки выра-
стают как плоды на дереве.
На такой ступени и действи-
тельно остановилась опытная германская психология;
на такой ступени остановилась бы и психология Бэна,
если бы в противоречие самому себе и в удовлетворение
своему верному национальному чувству Бэн не призна-
вал власти человека над характером в отдельных слу-
чаях, в то же время отвергая ее в принципе. Но уче-
ние о свобода или несвободе воли, или вернее — о свободе
души должно найти себе место в третьей части нашей
антропологии (т. IX, стр. 474).
74.
Рид нападает на вечный и неразрешенный воп-
рос о свободе воли, опровержение которого обыкновенно
покоится на том, что всякое действие имеет причину, а
следовательно, и действие нашей воли. Если реши-
мость воли имеет свою причину, то она уже не свободна,
а есть просто результат данной причины (см. Бэн). Од-
накоже тем не менее и материалисты, напр., «Современ-
ника», только и делают, что бранят людей за то, что они
поступают, по их мнению, дурно; следовательно, при-
знают,
что люди могли бы поступать хорошо, если б за-
хотели, следовательно, признают свободу воли. Если
бы материалисты действительно не признавали сво-
боды воли, то им незачем было бы и издавать жур-
нала.
Но на чем основывается опровержение свободы воли?
На простой уверенности, что все имеет свою причину, а,
следовательно, и всякое решение воли. Но на чем осно-
вывается самая эта уверенность? Ни на чем и менее всего
на опыте, который беспрестанно показывает нам явле-
ния,
причины которых мы не знаем.
128
Такая же самая уверенность есть и уверенность в сво-
боде воли. Свобода воли есть не что иное, как прирожден-
ное человеку ощущение, что он может взять то или другое
решение для своих действий. Конечно, не без причины
он берет то или другое решение, но при этом выборе он
всегда сохраняет уверенность, что мог бы взять то,
которое отверг, и отвергнуть то, которое взял. Если бы
не было свободы воли, то мы иначе не могли бы ее и сфан-
тазировать.
Как только человек выбрал решение, он
уже не свободен, но в самом акте выбора он свободен.
Верно или нет это чувство свободы, — это другой воп-
рос, но что оно есть, что оно факт, — это не подлежит
сомнению и от этого факта не может отвертеться самый
упорный материалист. Это принцип деятельности чело-
века и человечества.
Уверенность в свободе воли — психологический факт,
но спрашивается, справедлива ли эта уверенность? Она
так же справедлива и так же несправедлива, как и
уве-
ренность в том, что все имеет свою причину. Эту послед-
нюю уверенность берут обыкновенно для того, чтобы
разбить уверенность в свободе воли, но эти уверенности
совершенно равносильны и одна другую разбить не мо-
гут. Они могли бы разбить друг друга, если бы они
покоились на основаниях разума, но так как они оба не
более как верования, присущие душе человека, не осно-
ванные ни на законах разума, ни на опыте, ни на умоза-
ключении, то нам остается видеть в них психические
фак-
ты такие we, как притяжение земли солнцем, столь же
подтверждаемые опытом и столь же необъяснимые для
разума. Какую бы теорию мы ни приняли, мы всегда
сохраним чувство свободы нашей воли точно так же, как
уверенность в существовании причины каждого явления.
Эти две великие уверенности — принципы, двигающие
человечество в его познавании и в его деятельности.
Странно поэтому читать, напр., у Вундта, что хотя сво-
боды воли у человека нет, но он всегда сохранит уве-
ренность
в этой свободе. Спрашивается, что же такое
сам Вундт? Выше он или ниже человека, если он полу-
чил уверенность, что свободы воли нет? — Это уж значит,
129
считать всех дураками, а себя одного умницей, переде-
лавшим в себе человеческую природу. Вот до каких аб-
сурдов доводит инстинктивное стремление к материа-
листическим убеждениям. Это напоминает мне тех гер-
манских писателей, которые доказывали, что для чело-
века необходима и неизбежна вера, хотя она ложна в
своем основании, и которые таким образом вычеркивали
самих себя из списка людей.
Итак, мы пришли к убеждению, что в человеке живут
две
уверенности: первая уверенность в причине, вторая
уверенность в свободе воли.
(Ф. 316, № 69, «Записная книжка», л.л. 48—50).
75. Противоречие идеи причины и идеи свободы
Противоречие причины. Мы уже несколько
знакомы с противоречием причины, но считаем нелиш-
ним выяснить его еще более. Животное точно так же, как
и человек, замечает связь между явлениями, и в явлени-
ях, постоянно предшествующих другим явлениям, может
признать причины, а в явлениях, постоянно следующих
за первыми, последствия. Этим только можно объяс-
нить многие рассудочные действия животных, когда
они, наученные опытом, отвращают причины, послед-
ствия которых им не нравятся, или вызывают при-
чины, последствиями которых желают воспользо-
ваться. Но как только желание животного удовлетво-
рено, так и его исследование причин прекращается.
Животное, если можно так выразиться, верит в беспри-
чинность явлений, и только из случайных опытов, узнав
причины некоторых явлений,
пользуется своим знанием
для удовлетворения материальных потребностей. Не
так поступает человек: узнав по опыту причины немно-
гих явлений и не видя причин гораздо большего числа
других, он, тем не менее, продолжает верить, что нет яв-
лений без причины, — отыскивает причину за причи-
ною, а где не находит их, — там предполагает, или со-
знается, наконец, что причина ему неизвестна, но не хо-
чет успокоиться на том, что есть явления без причины.
130
Откуда же берется эта уверенность, противоречащая
опытам и наблюдениям, которые показывают нам го-
раздо более явлений без причин, нежели с причинами?
Конечно, уж не из опытов и наблюдений, которые про-
тиворечат этой уверенности, предшествующей всяким
опытам. Не выражают ли нам самые древние мифоло-
гии, что человек не верит в вечность гор и морей, суще-
ствовавших задолго до появления человека, в вечность
солнца, которое обливало своим
светом землю, когда еще
человека на ней не было, в вечность звезд, которые све-
тили уже тогда, когда сама земля еще не отделилась от
массы солнца? Не естественнее ли всего было человеку
считать эти явления вечными и беспричинными? Сле-
довательно, противоречие идеи причины с выводами
опытов входит в рассудочный процесс откуда-то изнутри
человеческого существа, т. е. из человеческого духа.
Легко видеть, как благодетельно действовало это проти-
воречие, вносимое духом в рассудочный
процесс, на ожи-
вление этого процесса, на поддержание в нем беспрестан-
ной деятельности и вообще на развитие рассудка: отыс-
кивая причину за причиною, человек создает науку и
уже побочным образом улучшает свой материальный
быт до той высокой степени, до которой не может улуч-
шить своего быта животное, хотя оно только и делает,
что заботится об удовлетворении своих материальных
потребностей.
Противоречие личной свободы.
Не признавая беспричинных явлений, хотя опыт убеж-
дает
человека ежеминутно в существовании таких яв-
лений, человек в то же время самым странным образом
противоречит самому себе и своей науке, признавая в
самом себе свободу воли, т. е. явление без причины. Это
убеждение человека в свободе своей воли так велико,
что без ущерба себе выносит напор своих очевидных до-
казательств, представляемых рассудком в области всех
наук, что свобода воли не существует и что она невоз-
можна как явление без причины.
Последняя философская система
(гегелевская) уничто-
жает свободу воли, хотя и хочет ловким софизмом увер-
131
нуться от этого. По мнению этой системы, свобода воли
объясняется тем, что дух человеческий действует не по
чьим-либо чужим, а по своим собственным законам,
следовательно, подчиняется только самому себе, а по-
тому и свободен. Но если эти законы так же неизбежны
и неизменны, как законы математические, то какая же
это свобода? Конечно, эта философская система при-
знает, что дух человеческий сам и предписывает себе
эти законы, но это противоречит
фактам других наук.
Геология говорит, что было время, когда человек не
существовал^ природа уже устраивалась и развивалась;
но так как в природе, по сознанию гегелевской системы,
те же законы, что и в духе, то, следовательно, законы
развития духа существовали прежде, чем существовал
этот дух, следовательно, эти законы не его создание, и,
повинуясь им, он повинуется не самому себе, следова-
тельно, — не свободен, и чем разумнее человек посту-
пает, тем несвободнее, а если поступает
неразумно, то
также несвободен, ибо подчиняется страстям, влияниям
телесного организма и внешних обстоятельств. Вот по-
чему гегелевская система вычеркивала геологию из списка
наук. Гегелевская философия не могла признать, что
было время, когда не было человека (субъективного
духа): признав это, она разрушилась бы до основа-
ния.
Последняя психологическая система (система Бенеке),
слагая все психические явления из следов ощущений,
не зависящих от человека, тем самым уже
уничтожила
всякую возможность свободы воли. Всякое человече-
ское желание и всякое хотение, с ловом, всякий акт воли,
объясняется следами, из которых он составился: он есть
необходимый результат этих следов, следовательно,
появляется так же не свободно, как не свободно вспы-
хивает порох от упавшей на него искры.
Об естественных науках и говорить нечего. Самое
выдающееся стремление в их современном направлении
состоит именно в том, чтобы объяснить все психические
акты
— и разума, и воли — законами материи, которые,
конечно, исключают всякое понятие о свободе. Не го-
132
воря уже о материалистических тенденциях доказать,
что поступок человека зависит от того, что он съел и вы-
пил; но и в книгах гораздо серьезнейшего содержания
мы видим то же самое стремление, хотя оно не выражает-
ся в такой цинической и грубой форме.
В науках исторических заметно то же стремление
объяснить все действия человека и народов неизменными
законами природы. Статистика указывает на равномер-
ное распределение в каждом году браков,
самоубийств,
даже писем без адресов, брошенных по ошибке в почто-
вые ящики, и более или менее ясно намекает, что дей-
ствия человеческие, кажущиеся наиболее произволь-
ными, суть только неизбежные последствия независя-
щих от человека физических причин.
Но, признав всеобщую причинность законом,не имею-
щим исключений, мы прямо выйдем на опасную и пе-
чальную дорогу восточного фатализма. Если всякое
действие человека есть только правильное следствие
прежде существовавшей
причины, а эта ближайшая
причина опять есть только следствие предыдущих,
дальнейших, то таким образом мы неизбежно дойдем
до положения, что вся жизнь человека, всякая мысль
его и всякий поступок определены уже до мельчай-
шей подробности прежде его рождения на свет. При-
меняя к человеку то, что сказал Милль о целом мире,
мы можем сказать при таком воззрении, что если бы
воротить человека к минуте его рождения, то он опять
прожил бы так, как он прожил, и сделал опять все то
же,
что он сделал. Не говорим уже о том, что при таком
взгляде всякая ответственность человека перед своей
совестью, перед обществом и перед законом будет лжи-
вым вымыслом; но не подействует ли такое убеждение
вредно на самую деятельность человека? Разве восточ-
ное убеждение в фатализме не имело такого действия?
Приведем по этому поводу поучительные слова
Вундта, который только яснее других высказал, что
кроется в каждом учении, не признающем в душе чело-
веческой исключений
из закона причинности. Присту-
пая к изложению учения о воле, или, вернее сказать,
133
неволе человеческой, Вундт делает следующую ого-
ворку:
«Прежде всего мы должны ясно выразить, что все
нравственные моменты, которые выводятся обыкновенно
на арену борьбы за свободу воли, не имеют здесь места.
Думают, что побудительные причины, склоняющие нас
принимать свободу человеческой воли, суть также и
доказательства этой свободы. Это вполне и совершенно
несправедливо. Если бы дело действительно было в та-
ком положении, что отрицание
свободы воли подвергало
бы опасности обязательность совести и основы всей мо-
рали, и если бы, несмотря на то, можно было дать дока-
зательства, ясные, как солнце, что воля не свободнаго
наука, не обращая внимания ни на что, должна была бы
идти своей дорогой, не пугаясь истины». При этом, очень
обыкновенном обороте, употребляемом теперь особенно
часто, невольно вспоминаются слова Руссо: «Ни-
когда, — говорит философы, — истина не может при-
нести людям вреда. Я верю в это
так же, как и они, и ду-
маю, что это самое может служить сильным доказатель-
ством, что то, чему они учат, не истина» *.
Однакоже эта замечательная смелость скоро поки-
дает Вундта, и он спешит прибавить, что «к счастью,
дело совсем не в таком дурном положении: одержит ли
победу та или другая теория, — практика может оста-
ваться спокойною».
В чем же находит Вундт такое успокоение для прак-
тической жизни?
«Уже Кант сказал, — говорит он далее, — что каж-
дое существо,
которое может действовать не иначе, как
при идее свободы, по тому самому уже совершенно сво-
бодно в практическом отношении, т. е. для него имеют
силу все законы, которые нераздельно связаны с сво-
бодою, точно так же, как бы его воля сама по себе и со-
гласно с философскою теориею была признана свобод-
ной». «Несомненный факт, — продолжает Вундт да-
лее, — что мы обладаем сознанием свободы, делает не-
* Emile, р. 355.
134
возможным какой бы то ни было фатализм, принимая
даже, что самое это сознание свободы будет признано
включенным в общую связь причинности» *.
Если это не пустые фразы, не скрывающие в себе ни-
какого смысла, то что же это за два антагонистические
убеждения, уживающиеся мирно в душе человека и не
опрокидывающие друг друга, когда по смыслу своему
они должны бы необходимо вступить в борьбу на жизнь
и смерть? Для нас этот вопрос важен здесь
не в своем
метафизическом, а в своем психологическом значении,
и потому мы имеем право предложить Вундту и всем
тем ученым, которые, не признавая свободы воли в че-
ловеке, в то же время признают в нем неколебимость со-
знания этой несуществующей свободы, следующий воп-
рос: к какому же сорту существ причисляют себя са-
мих эти ученые? Если они тоже люди и к ним применимо
то, что они говорят вообще о людях, то,значит,в их душе
уживаются два убеждения, совершенно противоречащие
друг
другу: одно — во всеобщей безысключительной при-
чинности, другое — в свободе их личной воли. Положим
вместе с Миллем, Вундтом и другими писателями того
же направления, что убеждение в причинности вытекло
из наблюдений и опыта и окончательно есть плод науки,
везде открывающей причину; но второе… откуда взялось
второе? Откуда веялось оно и откуда почерпает силу,
чтобы противостоять всем опытам, наблюдениям, всем
доказательствам науки во всех ее отраслях? Неужели
же и на это
можно отвечать, что оно веялось ив опытов,
ив наблюдений и науки, которым оно противоречит?
Тогда уже нет нелепости, которой нельзя было бы
утверждать, прибегая к туманности фраз там, где нет
смысла.
Однакоже, есть ли в самом деле доказательства,
«ясные, как солнце», что свобода воли в человеке не су-
ществует? Есть ли фактические доказательства, что вся-
кое решение человеческой воли имеет предшествующую,
необходимо условливающую его причину ? Можем ли мы
* Thier- und
Menschenseele, В. II, 25-ste Vorlesung, S. 409.
135
для всякого человеческого решения указать такую без-
условную причину в прежних действиях человека, era
жизни, образовании, обстоятельствах, или, наконец, в
его телесном организме? Надобно совершенно не знать
границ науки, и в особенности тесных границ современ-
ной физиологии и психологии, чтобы отвечать на этот
вопрос утвердительно.
Отрицание свободы воли до сих пор основывается
на уверенности в безысключительности закона причины,
также
не доказанной наукою, для которой остается еще
много явлений без причин. Следовательно, смотря навесь
этот спор с психологической точки зрения, мы выводим
из него действительно «ясный, как солнце, факт», что в
душе человека обнаруживаются два великие убежде-
ния, прямо противоречащие одно другому: убеждение
в общей причинности явлений и убеждение в свободе лич-
ной воли человека. Одно из этих убеждений служит осно-
ванием науке, другое — практической деятельности че-
ловека
и человечества. Указать факт, подтверждаемый
собственным сознанием каждого человека, даже и
того, кому, по какой бы то ни было причине, этот факт
не нравится, — вот все дело психолога.
Но один ли Вундт доказывает собственною личностью»
несостоятельность своего учения? По какой-то странной,
непонятной причине именно те личности, те партии и те
учения, которые теоретически отвергали свободу чело-
веческой воли, оказывались на практике особенно
ревнивыми к охранению этой свободы.
Так, протестан-
тизм и в особенности кальвинизм, отвергавшие свободу
человеческих поступков и принимавшие предопределен-
ность спасения, оказывались на практике ревностнейши-
ми защитниками человеческой свободы и суровыми гони-
телями притеснений всякого рода, несмотря на их пре-
допределение. Так и в новое время материалистическое
учение, доказывающее нелепость идей личной свободы, и
требование неограниченной свободы для всякой лично-
сти, сходятся не только в одних и тех
же рядах полити-
ческих деятелей, но часто в одном и том же лице и на
страницах одной и той же книги*
136
Так неудержимо льются из области человеческого
духа в рассудочный процесс два диаметрально противо-
положные убеждения, из которых каждое противоре-
чит опытам и наблюдениям, и, кроме того, оба противо-
речат друг другу. Можно бы, кажется, показать исто-
рически, как эти великие противоречия, вносимые ду-
хом в процесс мышления, могущественно двигали впе-
ред и науку, и практическую жизнь человека (т. VIII,
стр. 641—648).
б) Исторический
обзор различных направлений
в решении вопроса о свободе воли
76. (I, 19). Этика Аристотеля. Воля. Исполнение.
Свобода
Аристотель называет такое действие «вынужденным,
причина которого заключается вне действующего» (Eth.,
В. III, Сар. I, §2).
Но если действие совершается ив страха, напр. при
угрозах тирана, то он же не может назвать это действие
несвободным; ибо был выбор (ib., § 6). Он называет та-
кие действия смешанными, но ясно, что здесь смешение
невозможно. Римляне
так же определяли, кто может
умереть…
Если человек раскаивается в том, что сделал, то зна-
чит, он сделал несвободно, а если не раскаивается, то —
свободно (ib., § 13).
Но разве можно определить причину действия по по-
следствиям? Раскаяние может быть принято к смягче-
нию только на том основании, что, значит, у человека
есть добрые начала, которые только временно были пода-
влены.
Незнание правого, того, что хорошо, Аристотель не
признает признаком недобровольности
действия, «ибо
в том-то незнании и обвиняется действующий» (ib., § 15);
а признает только незнание факта, если действующий не
знал, что делал (ib., § 15).
137
Но не сам ли Аристотель говорил выше, что можно
знать, что такое добродетель, и не поступать доброди
тельно?
«Если кто, говорит Аристотель, приятное и прекрас-
ное также причисляет к принуждающим причинам,
ибо они лежат вне нас и могут нас вынуждать к дей-
ствию, тогда следует признать, что все, что мы делаем,
делаем по принуждению, ибо прекрасное и приятное
суть мотивы всех человеческих действий» (ib., § 11).
Мы скажем, что это будет
совершенно верно, и что
Аристотелю не удалось логически отделить свободного
от несвободного действия; а отделяя, он присматривался
к практическим целям; вот почему он далее признает,
что и «страсть не делает действия из страсти несвобод-
ным» (ib., § 21), и к удивлению моему прибавляет, «ибо
с этим вместе уничтожились бы все свободные действия
животных и детей» (ib., § 22).
Следовательно, по Аристотелю свободой в действиях
обладают и животные и дети!! Значит, древние не имели
понятия
о том, что мы называем свободным.
Назвавши же всякое действие свободным, ближай-
шая причина которого лежит в действующем, мы, ко-
нечно, должны причислить к свободным действиям дей-
ствия животных и младенцев.
77. (1, 28). Исполнение. Воля. Свобода воли
Руссо разделяет движения на сообщенное, причина
которого вне движущегося предмета, и самостоятель-
ное, или произвольное, причина которого в самом пред-
мете, и говорит по этому поводу:
«Vous me demanderez, si les mouvements
des animaux
sont spontanés; je vous dirai, que je n’en sais rien (я то же
самое); mais que l’analogie est pour l’affirmative. Vous
me demanderez encore, comment je sais donc, qu’il y a
des mouvements spontanés; je vous dirai, que je le saie
parce que je le sens. C’est en vain qu’on voudrait raisonner
pour détourner en moi cesentiment,il est plus fort que toute
évidence; autant voudrait me prouver que je’n’existe pas»
(Emile, p. 303).
138
«Я так уверен в том, что естественное состояние
материи есть покой, что если вижу тело в движении, то
я тотчас заключаю, что это или одушевленное тело, или
движение ему сообщено» (ib.).
«Как воля производит физическое действие, я не
знаю; но я испытываю в самом себе, что она произво-
дит. Воля известна мне в своем проявлении, а не по при-
роде своей»… Но не надобно забывать, что «действие
моей воли на тело так же для меня непостижимо,
как
и действие наших ощущений на душу. Нахожусь ли я
в страдательном или активном состоянии, средство сое-
динения двух субстанций мне одинаково и вполне непо-
стижимо» (ib., р. 305).
«Mon pire tourment, quand je succombe, est de sen-
tir, que je pus résister» (ib., p. 311).
Вера в свободу воли не может быть разрушена.
Очень важно
«Je ne connais la volonté que par le sentiment de la
mienne; et l’entendement ne m’est pas mieux connu»
(ib., p. 313).
Действительно,
если, как говорит Бок ль, мы в этом
случае не можем положиться на наше сознание, то по-
чему же мы должны положиться на него во всех других
случаях? Ведь непосредственное сознание, в конце кон-
цов, общая основа всех наших знаний.
«II n’y a point de véritable volonté sans liberté» (ib.,
p. 314).
Верно! без свободы — воля ненужное слово.
78. (1, 29). Эйлер о свободе воли
«Свобода так же присуща существу духовному, как
пространственность или непроницаемость телам, и как
невозможно
даже всемогуществу божию лишить тело
этого качества, так же невозможно отнять у духа свобо-
ду; ибо дух без свободы не будет более дух, так как тело,
не занимающее пространства, не будет более телом»
(Euler L., B.II, Let. XVII, p. 285).
«Можно сомневаться в свободе других, но никогда
в своей собственной» (ib., Let. XVIII, p. 288).
139
«Как только человек считает себя свободным, так он
и действительно свободен» (ib.). :
Но предестинации, уничтожающей волю, Эйлер не
мог опровергнуть, хотя и пытался (ib.). Но сама преде-
стинация — богословская фантазия.
Рождение зла Эйлер признает непостижимым (ib.,
Let. XXI, p. 299) и гадает только, что оно, вероятно,
необходимо для существования мира (ib., р. 300).
— Но разве возможна свобода без свободы делать
ело!
79. (1,4).
Свобода воли
«Кант уже принимал, что все временное существова-
ние человека подчинено закону природной необходимо-
сти. Чтобы спасти свободу, он переносил ее в мир, недо-
ступный постижению, как член веры для нравственного
человека.
«Если можно себе позволить понимать Канта лучше,
чем он сам себя понимал, то весьма легко выяснить,
чего собственно хотел Кант. Должно было спасти вме-
нение. Но это можно сделать и без всякого учения сво-
боды», говорит Гербарт (Erster Theil,
S. 98, § 141).
Однакоже спасает очень плохо, как мы это уже ви-
дели.
80. Исполнение. Упражнение в детях влияния воли
на задержание распространения чувств
Согласно своей системе Бэн думает, что влияние
воли на остановку чувствований приобретается, как и
вообще влияние воли на мускулы, упражнением, уста-
новляющим связь между центральными мозговыми
органами и мускулами, которыми мы задерживаем чув-
ства. Это только, конечно, гипотеза; но факт тот, что
под влиянием страха
или ожидаемого удовольствия
дитя действительно приучается мало-помалу задержи-
вать в себе взрывы крика, смеха или рыданий» (ib.,
р. 407). Первые и самые важные упражнения над го-
лосовыми мускулами.
140
Следовательно, и власть над выражениями, а, следо-
вательно, и органическим распространением чувство-
ваний, приобретается упражнением. И это не только
важно, как средство скрывать свои чувства; но и как
средство подавлять их ими, по нашему, — как средство
не давать чувствам душевным переходить в органи-
ческие.
Но между этими двумя актами большая разница, ко-
торую Бэн обходит: скрытое чувство вовсе не значит по-
давленное чувство.
Совершенно
справедливо замечает Бэн, что «если мы
встречаем личность, замечательную по неумению управ-
лять своими чувствами, то мы должны еще узнать,
зависит ли это от необыкновенной силы чувствований
(чувственные волны) или что связь воли слаба от при-
роды или не укреплена привычкой».
«Слабая же воля нуждается в том, чтобы ее разрабо-
тать сильными мотивами: в этом случае следует прибе-
гать или к большей суровости страданий, или большей
привлекательности удовольствий. Это можно видеть
постоянно
в управлении детей в семействе и в школе,
а равно в человечестве» (р. 408).
Но кто может привести в движение мускулы, совер-
шенно противоположные тем, которые возбуждаются
волной чувства, тот показывает уже значительную силу
воли. «Если кто, снедаемый внутренней печалью, может
улыбаться, или, кипя гневом, смотреть ласково, или,
наоборот, любя дитя, смотреть сурово, тот показывает
уже большую силу воли» (р. 408).
«Обыкновенное состояние выражения внутренних
чувств состоит
в равновесии между распространяющейся
силой волны чувства и силой воли. Степень дозволенного
для наших разнообразных выражений страдания, удо-
вольствия, печали, гнева, страха, самоуважения — уп-
равляется мотивами, действующими через органы воли»
(р. 409).
(Ф. 316, папки № 25, 26, 28, 29, 31).
141
81. Исполнение — воля. Начало движения
Говоря о воле в смысле Гербарта, Бенеке и Бэна, мы
будем всегда говорить о воле как об исполнении, так что
свобода воли, или просто нравственная свобода, имеет
(общее) с волей только то, что через нее действует, но че
рез волю действует и чувство.
Что же такое воля в этом последнем смысле? Суще-
ствует ли она даже отдельно от желания, или только она
есть стремление, дозревшее, усилившееся в форме
же-
лания до того, что все представлявшиеся сопротивле-
ния его выполнению преодолеваются им и оно делается
действием? Стремление есть слепая воля; желание есть
зрячая, но еще бессильная воля; воля есть зрячее стре-
мление, до того усилившееся, или положительно, или
отрицанием, падением, препятствием, что переходит в
действие, в исполнение.
Следовательно, признав существование стремле-
ния и связь его с чувством, превращающим его в жела-
ние, мы уже не имеем никакой надобности
признавать
особенной способности воли.
Стремление составляет корень, из стремлений раз-
вивается чувство и мысль; через посредство же этих форм
стремление делается волей.
Стремление, обработанное чувством, т. е. опытом
удовлетворения стремления и мыслью или прямым пред-
ставлением, вытекшим из этого опыта, — непременно
перейдет в выполнение: особенной категории, особен-
ной способности воли здесь нет места. Вот почему мы
обвиняем в непоследовательности те теории, которые,
отвергая
нравственную свободу человека, принимают
особую главу — воля. По крайней мере, немедленно же
следовало объяснить, что это не более как выполнение
желаний. Эту ошибку делает и Бэн, почти повторяю-
щий в своей книге о Воле (The Will) то же, что он сказал
в двух других (The Senses and the Intellect и the
Emotion). ..
В книге о Воле и в самой воле Бэн ставит два элемен-
та: первое — «самостоятельное стремление выполнять
142
движения независимо от стимулов ощущений и чув-
ствования; второе — связь между совершающимся дей-
ствием и совершающимся чувством, через что одно посту-
пает под контроль другого» (The Will, p. 327).
Еще в первой своей книге он доказал, что движение
предшествует ощущению и вначале независимо от внеш-
них стимулов и что движение есть наиболее коренное
и неотделимое свойство нашей организации, чем какое—
нибудь ив наших ощущений» (ib.).
Мы
вполне с этим согласны, только самой логикой и
опытами вынуждены были предпослать стремление.
Но у Бэна движение, конечно, выходит из накопле-
ния нервной энергии (избытка пищи), которая ищет
себе выхода и находит его в движении. Сначала направ-
ление этого выхода энергии случайно; но при этих вы-
ходах получаются ощущения^ которыми впоследствии
руководится уже дальнейший исход нервной энергии
или человеческие движения.
«Самостоятельность, на факте, есть ответ (нервной и
мускульной)
системы на питание, — исход силы, для
которой пища есть стимул» (ib., р. 328).
«Мускулы, напитанные свойственной им пищей, и
нервные центры, заряженные своей особенной силой»,
готовы уже действовать и нет никакой причины предпо-
лагать, чтобы такое действие не произошло без всякого
внешнего стимула, но факт, доказывающий это, найти
трудно: «может быть, наиболее ясные факты дают нам
первоначальные движения детства и вообще непрестан-
ная деятельность первых лет, как у людей,
так и у жи-
вотных» (ib., р. 329).
Кроме того, известно, что мускулы всегда остаются
в некотором напряжении, даже в совершенном покое,
даже во сне, и это напряжение прекращается только
смертью (ib.).
Но отчего же накопляемые силы не обращаются в
животном на рост членов, почему это накопление не за-
медляется и не упраздняется? Словом, опять тот же веч-
ный вопрос, почему животное не растение?
Мне кажется, что Бэн тут просто забывает, что кроме
143
внешних стимулов могут быть внутренние стимулы, что
кроме внешних ощущений есть внутренние ощущения
внутренних состояний нашего организма и что, следо-
вательно, накопление физических сил, особенная пол-
нота их может ощущаться душой. Это мы испытываем
и теперь. Следовательно, накопление сил есть только
стимул движения.
Но, спрашивается, почему душа знает, что движе-
ние освободит ее от тяжелого ощущения накопившейся
силы? Потому же,
почему знает, что голод удовлетво-
ряется пищей.— Это врожденное стремление души, это
вечный х.
Мы же имеем основание думать, что самое накопле-
ние сил организмом поставлено в полную зависимость
от движения тем, что, не вызывай душа движений,
то и накопление сил прекратилось бы. Не движение
вызывается накоплением сил; но, наоборот, движение
вызывает накопление сил; само же движение выходит
прямо из врожденного стремления души жить, которое,
внося движение в организм животного,
вызывает в нем
непроизводительное для роста накопление сил и вводит
в экономию организма лишний расход — трату сил на
движение, на жизнь.
Нет сомнения, что человек приучается опытами
к изолированности и координации своих движений;
но Бэн уж слишком далеко простирает владычество
опыта, Бэн простирает владычество опыта далее рацио-
нальных пределов, когда говорит, что и дышать мы вы-
учиваемся опытами (ib., р.357). Дыхание, как и сосание,
есть уже готовый механизм рефлексов,
которые приво-
дятся в движение помимо воли и даже могут и помимо
чувства животного (возникнуть)—первый прикосно-
вением воздуха к легким; второй прикосновением груди
или пальца к губам младенца. Это рефлексы, принад-
лежащие к числу установленных природой, которые
могут быть и сознаваемы и несознаваемы.
Главная трудность в науке движений, побеждаемая
действительно бесчисленными опытами ребенка, есть
Изолировка движений.
144
«Невозможно начертить, говорит Бэн, и даже трудно
себе вообразить анатомический механизм, который
служит для изолировки движений, в токе исходящей
мозговой силы. Различие нервных путей есть одно
существенное условие; другое же, относящееся к внут-
ренней организации мозга, мы не можем начертить».
Т. е. Бэн, признав, что движение исходит прямо
из накопления нервной энергии, как движение или
разрыв аппарата от накопления электричества, или
движение
аэростата от накопления газа более легкого,
чем воздух; признав также, что из такого машиналь-
ного движения возникают чувствования и ощущения,
из которых образуется опыт, которым пользуется
тот же нервный ток и идет уже не куда попало, только
чтобы выйти, а именно туда, где по опыту он избегает
страданий и получает удовольствие,— признав все
это, он не знает, как ему быть с тем фактом, что нервный
ток уходит, а с ним вместе уходит и его опытность и на
его место является другой,
неопытный. Чтобы избежать
этой бессмыслицы, он дает опыты не току, а мозговой
организации, которая уже направляет токи, куда ей
лучше по опыту. Тогда вместо души и тела, являются
на сцену токи и мозговая организация, условия которой
нам неизвестны: т. е.— что же выиграла наука? тот
же дуализм; те же два неизвестных: х — мозговая ор-
ганизация вместо души и у — нервные токи, т. е. фи-
зические силы, вырабатываемые телом. Выигрыша ни-
какого, а проигрыш ясен: вместо души, организацию
которой
мы испытываем сами в себе, выходит на сцену
мозговой организм, организация которого, условли-
вающая душевные отправления, нам неизвестна, а та
организация, которую мы знаем, не только не условли-
вает душевных отправлений, но прямо противоречит
им, как мы видели это выше. Выигрыша для науки нет,
проигрыш же ясен: мы закрываем себе и последний путь,
который вел нас к изучению наших душевных явлений,
изучению их в самих себе.
«Факт, каким образом центральный мозг проводит
свои
силы (почему они его? свои?— они только ведь
145
проходят через него) в уединенные потоки для возбуж-
дения отдельных движений и почему этот ток выбирает
один исход, когда все ему открыты, остается «необъ-
яснимым» (ib., р. 333—334).
Отчего иные люди двигают ушами, как и животные,
а другие не могут, хотя в ухе и есть мускулы и следует
предположить и нервное сообщение, если некоторые
могут двигать,— Бэн объясняет тем, что самостоятель-
ный ток у одних людей не попадает на этот путь, а
у дру-
гих попадает; а у кого уже не попал, тот уже никакими
усилиями воли не может заставить свое ухо двигаться.
Следовательно, Бэн объясняет случаем; но случай объ-
ясняет все, т. е. собственно говоря, ничего не объяс-
няет (ib., р. 334).
Второй элемент воли, начинающийся, следовательно,
машинальными действиями токов, появляется уже из
чувств (чьих? токов?) и придает воле характер цели
(ib., р. 339).
Но мы видели уже, что самые чувства предполагают
необходимо волю
определенную или определенное
стремление. В огне нет ничего болезненного: болезнен-
ность в нас. В сахаре ничего сладкого: сладкость в нас;
в пище ничего привлекатального: привлекательность
пищи — в голоде. Следовательно, опыты воли услов-
ливаются стремлениями души, но эти-то стремления
и составляют волю.
(Ф. 316, папки № 25, 26, 28, 29, 31).
82. Исполнение. Усилие. Воля
Происходит ли усилие вследствие желания, когда
стремление, составляющее содержание, возрастет и
преграды,
его удерживающие, рушатся, или для этого
нужен еще новый посредник — воля? Не чувствуя в
себе этого посредника, мы не видим также, для чего
мы должны бы были его гипотизировать, если отвергнем
его свободу? Это кажется нам положительной ошибкой
во всех психологиях, отвергающих свободу воли и при-
знающих волю. Это совершенно лишний термин. Если
146
стремление в форме желания или вне ее достигло доста-
точной силы, чтобы опрокинуть препятствия, или если
препятствие по какой-либо другой причине понизится
до того, что стремление их опрокидывает, то необходимо
произойдет действие, передвижение физических сил,
а вследствие этого передвижения и действие.
Желание, как и заметил Спиноза, есть не что иное,
как сознаваемое стремление; а усилие есть не что иное,
как сознаваемое передвижение
сил, как производимое
возрастающим стремлением.
Если внутренние причины души не дают стремле-
нию средства одолеть другие, живущие в душе стрем-
ления, то стремление не вызовет передвижения физи-
ческих сил, не нарушит их равновесия, и если это стрем-
ление сознанное, то останется в форме желания, не
вызывающего усилия. Если другие душевные стремле-
ния уступили первенство этому новому; если внутрен-
нее равновесие души нарушено, то оно необходимо
вызовет и нарушение в
физическом равновесии сил;
а это нарушение выскажется в движении мускулов,
если только физические препятствия не удерживают
этого движения; если же удерживают, то произойдет
усилие, но не произойдет движение — бесплодное уси-
лие, бесплодное передвижение физических сил.
Физические препятствия движению могут быть опять
внутренние и внешние. Внутренние препятствия состоят
в затрате физических сил в различных работах орга-
низма,— вызов их оттуда сопровождается таким состоя-
нием
нервного организма, которое отзывается в душе
чувством усилия. Усилие есть очень ясное ощущение
передвижения сил: извлечение их из оборота в многораз-
личнейших процессах тела и обращение к тем муску-
лам, движение которых решено нарушением равновесия
в душе — или одолевшим стремлением. Ощущение
усилия неприятно и приятно в одно и то же время:
приятно там, где силы прибывают, неприятно там, от-
куда они уходят, и тем неприятнее, чем из большей
глубины они вызывают, чем важнее
для организма те
процессы, из которых они отвлекаются, чем менее они
147
однородны с требуемой силой и чем, следовательно,
более должны вынести превращений. Чем более в теле
и чем менее их требуется в данном движении, тем не-
приятное чувство усилия слабее: если же есть силы
лишние, ищущие себе исхода, то движение сопровожу
дается даже приятным чувством выхода избытка, о ко-
тором говорит Бэн (The Will, p. 474).
Но иногда может быть, что усилие, само по себе
неприятное, может быть нам приятно по идее — или
движения,
которому мы придаем веселое для нас зна-
чение: тогда неприятность усилия нейтрализуется при-
ятностью движения; или, сознавая пользу передвижения
сил для организма, мы с удовольствием подверга-
емся неприятностям усилия, как с удовольствием чув-
ствуем, действие горчичника, пиявок, едкого лекарства
на больном зубе, холодной воды на коже. За передви-
жением и тратой сил следует утомление во всем теле,
голод и жажда, и если нам есть чем удовлетворить их/
то вот уже одна из
причин приятности неприятного
чувства усилия. Кроме того, опыт убедил нас, что бес-
численные органические процессы, из которых извле-
чены наши силы в движениях, тем с большей жад-
ностью поглощают эти силы, когда вновь появляются
в теле в виде пищи, этого запаса физических сил при-
роды, поглощаемого нами. Это чувство жадного погло-
щения сил организмом так приятно, что мы помимо
уже положительного удовольствия деятельностью,
подвергаемся ей уже из одного ожидаемого удоволь-
ствия
— жадного поглощения сил организмом. Наконец,
опыт убеждает нас и в том, что передвижение сил
и трата их полезны для здоровья, развития и укрепле-
ния организма, что ткани тела, из процессов которых
были извлечены силы движениями, поглощают их потом
более, чем поглощали их прежде, и таким образом креп-
нут, растут, получают возможность вмещать более
сил, чем вмещали прежде, что не только те мускулы,
которыми мы двигали, но и все тело, хотя в меньшей
степени, здоровеет, крепнет
от такого перемещения сил,
от возобновления материала тканей и сил природы,
148
входящих в нас в этом материале. Вот достаточное
число причин, чтобы сделать нам приятным неприят-
ное ощущение, помимо других, положительных пел ей,
которые достигаются этим усилием; вот причина чистого
удовольствия телесных упражнений без примеси других,
Но если усилие было чрезмерным, если извлечение
сил из тканей организма было так велико, или так про-
должительно, что в самих тканях произошло болезнен-
ное изменение, то мы теряем
аппетит, т. е. ткани не тре-
буют жадно пищи, или требуют ее мало, понемногу,
опять привыкая к ней,— это уже дурной признак.
Однакоже силы нашей души над телом так велики, что
мы можем разрушить, надорвать организм чрезмерным
усилием, что было бы чисто невозможно, если бы
душа и организм, силы души и силы организма были
синонимы. Можем ли мы представить магнит или элек-
трическую машину, подорвавшие самих себя собствен-
ными усилиями? Это возражение едва ли переварит
материалистическая
система.
Таким образом, до сих пор мы видели, что нарушение
равновесия в телесном организме через посредство
нервной системы отзывается или ощущениями или ор-
ганическими чувствами в душе; а теперь видим, что
и наоборот, нарушение равновесия стремлений в душе,
совершающееся под влиянием ли внешних ощущений,
пробуждаемых в ней организмом, или под влиянием
ее собственной внутренней жизни, переработки прежде
уже полученных ею ощущений,— вызывает нарушение
равновесия физических
сил организма, а вследствие
этого и передвижение их, сосредоточение их на тех му-
скулах и тех нервах, работа которых должна усилиться
и выразиться нарушением равновесия в физическом
мире — или движением материальным, или остановкой
движения, или переменой в направлении движения.
Естественное напряжение мускулов в живом орга-
низме, продолжающееся и в совершенном покое и в глу-
боком сне и уничтожающееся только с прекращением
жизни и то не в первую минуту,— выражает собой
то
равновесие физических сил в организме, которое должно
149
быть нарушено, чтобы произошло движение тела. На-
рушающая причина может быть или внешняя — толчок-,
прикосновение электрической проволоки, укол, дей-
ствие кислоты и тогда может произойти без всякого
участия души и ее сознания движение автоматическое;
рефлекс. Это автоматическое движение может сопрово-
ждаться, может и не сопровождаться сознанием. Но если
нарушение равновесия физических сил организма про^-
исходит вследствие нарушения
равновесия представле-
ний в душе (по Гербарту), то произойдет, так называ-
емое, произвольное движение.
Душа ощущает нарушение равновесия в физических
силах тела и отвечает на них разнообразными ощуще-
ниями и внутренними чувствами; а тело испытывает
(не ощущая) нарушение равновесия в силах души —
представлениях, понятиях, идеях — и выражает его
в соответствующем нарушении равновесия своих соб-
ственных физических сил, которое выражается или во
внутренних, скрытых движениях,
сопровождающих
всякое представление, всякую фантазию, всякую мысль,
всякое желание,— и во внешних движениях — членов,
физиономии и т. д.
(Ф. 316, папки № 25, 26, 28, 29, 31).
83. Воля. Усилие (Материалистическое объяснение
усилия)
На полях: к свободе воли (кар.)
«Но что же непосредственно предшествует проявле-
нию сил в действии? Есть ли сознание, сопровождающее
усилие, будет ли оно приятно, или неприятно, будет
ли оно крайним усилием, или будет ли оно выходить
из
избытка энергии,— единственное обстоятельство,
предшествующее (усилию) и дающее силы, выражаемые
мускульной системой, делающие чувствующее существо
первым механическим двигателем, источником власти
«ад природой?— Без всякого сомнения — нет. Сознание
присутствует; но только как аккомпанемент материаль-
150
ного организма в его активных операциях» (Bain,
The Will, p. 475).
He значит ли это утверждать, что человек мог бы
жить, питаться, плодиться, строиться в общества, со-
здавать города, делать историю — без сознания, без
этого аккомпанемента, который звучит в нем, бог знает
зачем. Это уже значит не только, как говорит Декарт,
что животные — машины без сознания; но итти гораздо
далее, — утверждать, что и человек мог бы быть такой
машиной
и продолжать жить, как он теперь живет;
так что если бы во всем человечестве ва исключением
одного человека вдруг потухло сознание, то бедняга,
оставшийся с сознанием, и не заметил бы этого, потому
что все шло бы своим чередом, и история совершалась,
как она и теперь совершается^ города и улицы,* дороги
строились бы, хотя некому было чувствовать удобства
городов и железных дорог; портные бы шили теплые
платья, хотя некому бы было чувствовать холода, а
в кафетериях делались
бы мороженые, хотя нечем
было бы чувствовать жара, медики лечили бы людей,
не чувствующих боли, а профессора читали бы с кафед-
ры модные нелепости и заслуживали бы рукоплеска-
ния, хотя ни сами ученые мужи сами себя не понимали,
ни слушающие не понимали их…, словом, делалось бы
все то же, что делается теперь, без сознания, данного,
^кажется, нам только затем, чтобы нас мучить.
Но пойдем далее за Бэном.
«Органическая энергия есть общий и основной факт;
сознание же случайный
и акцессуарный факт, с ним
связанный; Организм должен быть постоянно пополняем
пищей, чтобы возобновлять траты, производимые от-
правлениями воли (— зачем, спрашивается, тут воля?—).
Когда земледелец выходит утром пахать поле, то он
находится под влиянием воли и в этой воле есть извест-
ное сознание — назовите его «усилием», «волей», или
как-нибудь иначе; но не сознание само по себе побуждает
земледельца браться за плуг. Сильное излияние
-(expenditure) мускульной и нервной
энергии, происхо-
дящее в конце концов от хорошо переваренной пищи,
151
и здоровое дыхание — вот настоящие источники, истин-
ные предшественники всей этой мускульной силы>
(ib., р. 475).
Пусть акцессуарное явление прекратится, пусть
потухнет в работнике сознание,— и он так же отпра-
вится на поле и будет пахать. Вот до какой нелепости
можно договориться, задавшись материалистической
теорией в психологии.
Или далее:
«Превращение пищи и тканей суть условие sine
qua non; а сознание случайная принадлежность»
(the
accidental part) (ib., p. 476).
Конечно, без физических сил не будет физических
движений; конечно, физическое движение может быть
вызвано физической же причиной, но без участия со-
знания; но из этого никак еще не выходит, чтобы кресть-
янин мог пахать, потерявши сознание. И мы самыми
очевидными наблюдениями убеждались, что равновесие
физических сил организма может быть нарушено не
только физическими причинами, но и душой: непони-
мание же того, как нарушение равновесия
сил душевных
может вызвать нарушение равновесия сил физических,
а через то произвести материальное движение, позво-
ляет нам еще строить нелепые гипотезы, по которым со-
знание является лишним в мире.
Впрочем, несколько ниже в противоречии с самим
собой Бэн говорит, что «сознание есть, без сомнения,
власть, определяющая, какое именно действие между
многими возможными должно иметь место, или в какой
точке должна проявиться общая энергия; но сама эта
общая энергия есть атрибут,
присущий нервным центрам
и мускулам, напитавшимся, свежим и неистощенным,
Без этого органического условия нет результата; й
произведенный эффект совершенно пропорционален
^материальной потере и совершенно непропорционален
умственному душевному раздражению. Произвольные
‘действия отличаются от рефлективных направляющим
152
вмешательством чувства; и это явление во всяком слу-
чае замечательно = =. Номы называем его особенным
и исключительным (peculiar and exemptional) даже в че-
ловеческой = = организации; тогда как представлять
его как механическую силу, происходящую из чистого
сознания, есть ошибка» (ib., р. 477).
Правда намешана с ложью. Признав, хотя исклю-
чительным фактом, направляющее влияние чувства,
т. е. сознания, психологи должны были бы остановиться
на
этом факте, отличающем живые процессы от меха-
нических. Признав такое направляющее влияние со-
знания, психолог должен бы был признать источник
силы не физической, но способной давать направление
физическим силам. Разве без силы можно изменить
направление чего бы то ни было? Душа, следовательно,
имеет силу, специальное значение которой состоит
в том, что она может производить передвижение физи-
ческих сил организма: сама же по себе передвигать без
посредства сил физических
что-нибудь в материальном
мире она не может. Это ее специальное значение: маг-
нит имеет специальное отношение к железу и на осно-
вании этого специального отношения двигает и дерево,
прикрепленное к железу, сам же по себе магнит дерева
не двинет.
Что материальное движение нисколько не пропор-
ционально душевному раздражению, это несправед-
ливо: мы видим, что чем сильнее душевное раздражение,
тем сильнее может быть истощающее усилие души над
телом. Что эффект пропорционален
материальной потере
телесных сил, это верно; но телесные силы не пропор-
циональны эффекту,— вот в чем дело: наевшийся и
сильный человек может остаться неподвижен, пока
чрезмерный избыток сил не пробудит тяжелого ощуще-
ния в его душе; а если бы он в ту минуту потерял со-
знание, то так бы накопленные им силы и остались, не
произведши никакого видимого эффекта в движении;
напротив, произвели бы всюду застой, стали бы пре-
вращаться в другие силы, а не в видимое движение,
Произвели
-бы воспаление, паралич, смерть, разложение
153
тела, но не выразились бы сами родом движений, кото-
рые вызываются и направляются обыкновенно созна-
нием, душой.
Без организма — нет питания) без питания — нет
физических сил; без физических сил нет возможности
физических движений; без нарушения равновесия физи-
ческих сил организма нет физических движений; но
самое это передвижение может быть или под влиянием
других физических сил, от чего происходят как дей-
ствия автоматические,
так и ощущения в душе; автомати-
ческие действия могут также ощущаться или не ощущать-
ся сознанием; но кроме этих движений есть другие,
средством которых являются тоже физические силы и их
передвижения; но причиной этих передвижений, без
которых они не произойдут, будет душа. Но для этого
душа должна иметь сама силу, и эту силу, способную
передвигать и направлять физические силы организма,
мы называем волей.
* *
В картине потери сознания миром следует доба-
вить,…
что вот один человек из целого человечества
остался с сознанием. Но не так ли это и действительно?
Не я ли один сознаю; а все прочие и животные и люди
— машины? Что же такое, что они говорят? Это только
искусные машины? Почему же не перенести на людей
декартовского взгляда на животных? Следовательно,
сознаю только я один,— в этом уже я не ошибаюсь,
в отношении других людей я верю только, что они со-
знают, а могу и не верить.
Из этого вывод тот, что собственно сознание человека—
высшее
свидетельство и что вера — ингредиент науки,
да кроме того, что презрительный отзыв Бокля о соб-
ственном сознании человека в отношении свободы воли
есть нелепость. Выше собственного сознания мы не знаем
ничего и везде выходим из той уверенности, которую
оно нам в чем-нибудь дает,— сомнение уже является
потом.
(Ф/316, лапки № 25, 26, 28, 29, 31).
154
84. Исполнение. Воля; влияние ее на чувства через мускулы
«Совершенно известен тот факт, что мы можем раз-
нообразно сдерживать и направлять течение наших
чувствований. При обыкновенных обстоятельствах мы
можем остановить развивающееся возбуждение мускула
и принудить его к внешнему спокойствию, когда огонь
пожирает его изнутри. Это самый простой и прямой
способ влияния воли над душевными возбуждениями.
Мускульная часть волны чувства (emotional
wave)
может быть встречена противоположным потоком, иду-
щим к тому же самому мускулу. Поднятие вверх руки
и остановка глаза под влиянием удивления могут быть
предотвращены, если есть достаточное побуждение
оставаться спокойным. Оба потока, будучи однородны,
т. е. принадлежа к одному и тому же роду стимулов
произвольных мускулов, могут так подействовать один
на другой, что тот, в котором более силы, одолеет»
(Bain, The Will, p. 399).
Без сомнения, это все не более как
гипотетическая
схема; никто не наблюдал физиологически этих токов,
никто не мог следить за их борьбой.
Но эта схема переходит границы возможной гипо-
тезы. Как один ток узнает другой, ему враждебный?
Как они меряются силами, когда вся эта сила в мысли,
в доказательствах, в убеждениях? Кто отправляет вто-
рой, сильнейший ток туда, куда уже отправлен первый?
Гипотеза нервов, задерживающих рефлексы, уже яс-
нее; но и там остаются те же вопросы; только вместо
слова мускулы
следует поставить нервы,— ибо опять
же сила будет в токах.
Влияние воли на чувства совершается по Бэну
двумя путями: или через прямое влияние на мускулы,
или через направление внимания и подбор представле-
ний. О последнем мы уже говорили в главе «О внимании».
Здесь же заметим только, что, желая поддержать свою
гипотезу о влиянии воли только на мускулы, Бэн
должен признать, что й в деятельном воображений
играют роль мускулы и что и на нервную систему воля
155
действует через мускулы. Хотя это непонятно, зачем
мозгу мускулы, чтобы действовать на непосредственно
связанные с ним нервы,—но надобно было отыскать
физиологического представителя разделения двух раз-
личных деятельностей мозга под влиянием чувств и под
влиянием воли, подавляющей чувства. Эта борьба не-,
сомненный психический факт; но как объяснить ее
физиологически? Бэн выдумывает для этого мускульное
влияние на воображение; а Сеченов
придает своим задер-
живающим рефлексы нервам то же значение. Мы не
спорим, что должен быть посредник таких задержек;
но для нас важна инициатива этих задержек;— не
возжи, а сила, управляющая этими возжами.
Известно, что мускулы разделяются на такие, на
которые имеет влияние наш произвол, и на такие, над
которыми он подобного влияния не имеет (справиться
в физиологии); но это деление не резко и многие могут
иметь влияние на такие действия, которые у других
совершаются
совершенно вне произвола — рефлектив-
но. Бэн приводит индийских факиров, приводящих
себя в такое состояние, что их можно зарыть в землю, на
несколько недель,— и догадывается, что «средства та-
кого изменения органических условий скрываются
в каком-нибудь способе направления произвольных
органов» (ib., р. 400).
(Не мешало бы прочесть какое-нибудь достоверное
описание факирских штук: они для психолога очень
замечательны).
Бэн признает, что, останавливая разлитие эмо-
циональной
волны, мы останавливаем усиление чув-
ствования и, наконец, его совершенно прекращаем
(ib.^p. 401). Если же советуют обыкновенно дать исход
сильной печали, ибо это облегчает, то это потому, что
уж чувство очень сильно и мы только теряем силы
в тщетной борьбе с ним (ib., р. 401).
Тут, кажется, большая психологическая ошибка:
едва ли можно подавить чувство, подавляя его прояв-
ления. Если твердый человек останавливает слезы и ры-
дания, готовые вырваться,— то разве его сердце
внутри
156
не рыдает? Верно же здесь только то, что действительно
ребенок, расплакавшись, трудно унимается и т. п.
Но это уже переход душевного чувства в органическое,
которое действительно может быть задержано или до-
пущено по произволу, т. е., по крайней мере, вот на что
воля наша может иметь общее или менее сильное влия-
ние — «допустить действовать рефлексам или задержать
их, допустить рефлексам рыданий, всхлипываний,
смеха, гнева, боли и т.
п. так усилиться в нервной си-
стеме, что она начнет уже органически вызывать в нас
чувство гнева, смеха и т. д., — или нет. Вот истинное
значение «нервов, задерживающих рефлекс».
(Ф. 316, папки № 25, 26, 28, 29, 31).
85. Исполнение. Созревание воли. Действие страха
на волю. Страх
О необходимости воспитывать детей так, чтобы они
делали возможно более опытов над своими силами и
свойствами природы, прекрасная страница у Руссо»
которую можно привести в главу об исполнении
(Emile,
р. 117—118).
«Воля, говорит Гербарт, есть желание (Begirde),
с предположением получения желаемого» (Herb.,
Т. I, S. 154, § 223).
Чем же тогда воля отличается от желания? Зачем
тогда новое слово? Вообще следует в последней главе
II тома установить понятия — желание, решение, реши-
мость, воля, свобода и сила.
Следовательно, в этой главе следует говорить о воле,
но не о свободе, которая принадлежит к III части, ибо
человек может ее заметить только в самом себе.
«Воля
усиливается знакомством с опасностями и
лишениями» (ib., S. 155, § 225).
Объясняет это Гербарт тем, что знание опасности
сливает ее представление с другими представлениями;
но ясно, что это — вздор. Не знание опасности укреп-
ляет волю, но знание возможности ее избегнуть. Знание
же опасности, как мы видим у. Бокля, еще может уси-
лить страх к ней*
157
Привычка же к лишениям действительно избавляет
нас от лишних страхов. Это психологически выразилось
на Руссо: он лучше хочет отказаться от удобств цивили-
зации и общества людей, чем стеснить свою свободу.
«Из повторенных выборов в подобных случаях обра-
зуется мало-помалу общая воля* (ib., S. 155, § 226).
(Ф. 316, папки № 25, 26, 28, 29, 31).
86. (I, 20). Исполнение. Усилие. Материализм.
Исполнение. Сила. Мнение Гершеля
Идея силы,
идея причины взяты из психического
мира и перенесены на физический.
Очень важное замечание знаменитого астронома
Джона Гершеля, подкрепляющее высказанное нами
мнение в главе о материализме.
В своем Treatise on Astronomy (Ch. VII, Bain, The
Will, p. 473) Дж. Гершель говорит:
«Наше непосредственное сознание усилия, — когда
мы употребляем силу, чтобы привести материю в дви-
жение, или для того, чтобы воспротивиться движению
и нейтрализировать силу,— дает нам это внутреннее
убеждение
силы или причинности^ насколько это от-
носится к материальному миру, и побуждает нас верить,
что везде, где мы замечаем переход тела из состояния
покоя в состояние движения, уклонение его с прямого
пути, или ускорение или замедление движения,— это
есть следствие подобного же усилия, где-нибудь прило-
женного, хотя и не сопровождаемого нашим сознанием».
Это следует привести в той лекции, где я говорю
о том, что идея материи и идея силы, и идея причины
взяты нами из психологического
мира.
Но вот внизу к этой выписке из Гершеля у Бэна
приложено важное примечание об усилии. Кому при-
надлежит это примечание? Должно быть Гершелю
(справиться в публичной библиотеке). «Гляди сочин.
Броуна (Brown on Cause and Effect)— сочинение заме-
чательное по тонкости анализа, но в котором ход мыслей
испорчен огромным просмотром; а именно просмотром
158
особенного и непосредственно личного сознания причин-
ности, в его перечислении этого последнего явления,
посредством которого воля души оканчивается движе-
нием. Я (кто это — я?) думаю, что сознание усилия есть
вещь совершенно отличная от желания или хотения,
с одной стороны, и от спазмодической контракции
мускулов, с другой» (Brown, Third Edition, Edinbourg,
1818, p. 47).
Чье это замечание? Но оно противоречит, Бэну
и не лишено верности.
Усилие
— глубокая вещь, в которую стоит вду-
маться.
Мы, подымая каменъ, ясно ощущаем усилие; подымая
более легкий, ощущаем меньшее усилие, — можно,
следовательно, измерить усилие. Если бы мы были сама
подымающая сила, как утверждает Фехнер (см.) и ма-
териалисты вообще, то это измерение усилия было бы
невозможно: как может сам себя измерять ток силы,
превращающейся из теплоты в движение?
Мог ли бы ток сам делать усилие? увеличиваться?
Конечно, нет. Он поднял бы что мог, и только!
Можно
предположить, что тяжесть усилия зависит
от того, что силы — теплота, электричество и др., за-
траченные в деятельности нашего организма, при усилии
выделяются из своих областей и стремятся туда, куда
зовет их усилие, и превращаются в ту силу, которая
требуется, и это выделение сил из областей их нормаль-
Ной деятельности ощущается организмом как тяжесть
усилия.
Положим: но что же заставляет токи оставлять по-
прище своей обыкновенной деятельности и устремлять-
ся туда,
куда зовет .их наша воля? Если сама воля —
ток, то это явление становится совершенно невозмож-
ным. Почему ток А потянет токи В, В, Г, а не наоборот?
Остается предположить раздражение мозга — идею,
из которой выходит движение…
Но раздражение мозга такое ли сильное физиологи-
ческое явление, чтобы повернуть токи из их обыкновен-
ных <потоков>. Кроме того, тогда усилие не может быть
159
ощущаемо: раздраженное место естественно—бее усилий
понесть на себе токи — мы могли бы ощущать (как)
боль — вроде нарывающей болячки, но не усилие.
Но, признав душу и ее власть над телом, мы легко
объясним себе принуждение, в которое она ставит тело
своими требованиями, и чувство усилия все увеличи-
вается, чем более воля требует затраты сил и вызова
их из более необходимых мест работы. Это насилие
воли может итти до повреждения организма
и чудес
факирских.
87. (I, 1). О свободе. Кант. Дробиш
Дробиш говорит, что нравственная свобода не нуж-
далась бы в метафизических доказательствах, если бы
была «известным фактом сознания». Но таким фактом
не признает ее сам Кант, принимая ее за необъяснимый
(intelligible) акт воли, лежащий вне опыта и самонаб-
людения; поэтому он и называет эту свободу транс-
цендентальною свободою. «По Канту, человек есть двой-
ственное существо, который одною своею половиною
принадлежит
чувственному миру, а другою — к миру
непостижимому. Как чувственное существо стоит он
в ряду явлений, которые понимаются или внешними
чувствами, как вещи и перемены в пространстве, или
внутренним чувством, как временные события и состоя-
ния в нас самих. Как разумное существо, является он
членом только (?) непонятного мира вещей самих по
себе (an sich), свойство которых и связь остаются для
нас совершенно непостижимы. В чувственном мире по
Канту нет ни малейшего следа свободы.
Все совер-
шается здесь по необходимости закона причины. Но так
как свобода является морально необходимым предпо-
ложением, то и остается ей место только в непости-
жимом мире вещей» (Drobisch, Moralische Stat, S. 66
и 67).
Но, совершенно наоборот, скажем мы: если бы
свобода была понятием, созданным человеком, то она
и могла бы быть выведена метафизически; но именно
потому, что она факт психологический, который мы все
160
сами в себе наблюдаем, она и не поддается объяснению,
как факт притяжения к материи.
Чувство свободы было в людях прежде, чем Кант
или какой-нибудь другой философ постарались дока-
зать ее метафизически. Не понятие нравственной сво-
боды образовано философами для оправдания вменя-
емости поступка, а вследствие того и морали; а факт,
Сменяемости, существующий уже с тех времен, как
человечество себя помнит, и факт моральных стремле-
ний,
выразившийся в древнейших религиях и зако-
нодательствах,— вырос из врожденного человеку чув-
ства свободы. Попытки же философов объяснить этот
факт, а не установить его, состоят только в попытках,
до сих пор неудачных, примирить его с требованием
причинности — этого основания науки. Нигде жизнь
и наука не встречались так резко, как в этом вопросе,—
и вот почему он так мучил гордых мыслителей всех
веков.
Мнение же Гербарта и Дробиша, что идея свободы
не нужна для вменяемости,
и следовательно, для
морали,— показывает только их близорукость срав-
нительно с Кантом, который пришел к совершенно
верному убеждению, что идея нравственной свободы
есть условие sine qua под нравственности и вменяе-
мости.
Попытки утвердить начало нравственности на чем—
нибудь другом, кроме свободы, очень слабы. Вот как
она выразилась, например, у верного гербартианца Дро-
биша:
«Человек, говорит Дробиш (ib., S. 72), имеет способ-
ность (не отвергают ли Гербарт и
гербартианцы всякую
врожденную способность?), прежде чем он начнет дей-
ствовать, убеждаться, рассуждать,— позволено или не
позволено, право или неправо, похвально или же стыд-
но то, что он хочет сделать или допустить. В употреб-
лении этой способности есть уже самообладание. Ибо,
кто перед делом убеждается, тот может, по крайней
мере, временно удержать свои стремления, страсти,
желания» (ib., S. 73).
161
Но неужели Дробиш не видит, что для того, чтобы
приостановиться с решением, нужна также причина;
а если эта причина опять извне принятая мысль, то
все дело решается борьбой представлений, которая про-
исходит и кончается по математическому закону борьбы
сил,— где же здесь место для вменяемости и для морали?
88. (I, 5 и 6). Исполнение. Свобода воли. Самооблада-
ние. Совесть. Самосознание
Вместо свободы воли Гербарт выставляет само-
обладание
и отличает истинное самообладание от того,
которое человек ошибочно самому себе приписывает
(Herbart, Erster Theil, S, 156, § 228).
Уже дитя предполагает себе в будущем какое—
нибудь действие, которое он считаем средством к дости-
жению цели; но когда будущее становится настоящим,
тогда он, может быть, уже и не хочет того, чего хотел.
«Только мало-помалу узнает человек, как легко он ста-
новится сам себе не верен» (ib., § 229).
Но прежде чем человек из опыта выведет правило
для
действий, что делается нескоро, уже есть законы.
«Из самосознания выходит совесть, ибо когда человек
становится сам для себя зрелищем, то произносит над
самим собою приговоры».
Гербарт, как и Руссо, не хочет привязать совести
к метафизическим знаниям (тогда бы только метафи-
зики могли быть люди совестливые), но привязывает
ее к мнениям.
«Порицание, которому нельзя представить оправ-
дание, действует неодолимо. Если же кто-нибудь ре-
шился переносить такое порицание, то
уже на него не
подействует никакое нравственное ученье (верно!),
это уже больной (почему же?), к излечению, т. е. рас-
каянию, его должно привести страдание» ( ib., S. 158).
Так ли, полно? Оно должно привесть его только
к ожесточению.
Истинное самообладание и возможность выполне-
ния человеком того, что он сам себе предположил,
основывается вообще на взаимодействии многих масс
162
представления. При этом проявляется общая воля,
если она уже образовалась; а место ее в какой-нибудь
одной массе представлений»,
(NB. Мое: следовательно, идеально свободным актом
человека будет тот, который выйдет из столкновения
всех его масс представлений и определится торжеству-
ющею массою: где же здесь свобода?)
При таком взгляде на самообладание Гербарт совер-
шенно справедливо говорит, что само по себе оно ни
добро, ни зло; ибо
здесь берется только относительная
сила различных масс представлений, а не их качество
(ib.,S. 159, §234).
«Для кого важно приобрести власть над самим со-
бою, тот более всего берегись от ослепления ложных
теорий, которые выставляют ему его собственную сво-
боду гораздо более, чем она есть на самом деле. Эти
теории не могут сделать человека свободным, но низ-
вергают его во все опасности ложной уверенности.
Напротив, пусть всякий познает в себе свои слабые
стороны и это-то
укрепляет» (ib., S. 159, § 234, Anmer-
kung).
Замечание чрезвычайно верное, но также верно и то,
что говорит тот же Гербарт немного далее:
«Для политика и педагога одинаково гибельна
мечта как о железной необходимости, так и абсолютной
свободе» (ib., S. 169, § 242). Здесь Гербарт, очевидно,
смешивает силу воли и свободу: я могу свободно выбрать
дорогу добра, но у меня может не хватить силы пройти
по ней — у меня есть свобода, но я ее не прилагаю каж-
дую минуту.
Гербарт
сам впадает в противоречие с собой, как
р всякий, кто захочет объяснить свободу — факт су-
ществующий, но необъяснимый.
В теории же Гербарта положительно свободы нет:
Это ясно видно там, где он уже из практических целей
хочет спасти вменяемость. «Самообладание, говорит
он* есть строго законное психологическое явление
и сила, которою оно обладает, имеет конечную вели-
чину; однакоже так, что никто не может утверждать,
163
что сила самообладания, которую проявил тот или
другой человек, есть высочайшая, к какой он способен.
Вот почему нравственное ученье справедливо предпо-
лагает вперед, что каждая страсть может быть по-
беждена, и если кто-нибудь не может одолеть своей
страсти, то ва эту слабость он справедливо заслужи-
вает порицания» (S. 160, § 235). То же развито в его
Allgemeine practische Philosophie in 2 Cap des I Buchs.
Нетрудно открыть здесь яркое
противоречие.
Если человек в данный момент решился на данный
поступок, то значит у него не было силы противостоять
этому решению, значит в это время масса представле-
ний, назовем ее А, одолела. По какому же праву мы
будем укорять его в слабости? Если завтра, может быть,
всплывет наверх другая масса представлений, назовем
ее В, то это будет завтра — и завтра А—В удержали
бы его от преступления, но сегодня — нет. Возникнове-
ние же массы В совершается по законам душевной ме-
ханики
и, следовательно, должно было прийти не се-
годня, а завтра. Мало того (сам же Гербарт в другом
месте говорит это), само удовлетворение своей страсти
в преступлении уже ослабляет силу А, а только при
ослаблении этой силы — она могла уступить свое место
в сознании силе В. Следовательно, где же здесь вина
человека?
Кроме того, вменяемость у Гербарта и всей новой
германской психологии — основана на предположении,
что «никогда нельзя знать, всю ли уже силу своего
самообладания
проявил человек в данном поступке».
Следовательно, это значит основывать вменяемость
на невозможности проникнуть в душу человека…,
но на этом скорее может быть основана невменяемость.
Далее: сам Гербарт называет силу самообладания
конечною величиной, а предполагает ее бесконечною. Ну,
а если окажется конец ее? Тогда что? Преступление не
должно быть вменяемо человеку,— он не мог сделать
более.
Но и этого мало. По этой теории, чем необдуманнее
сделано преступление, тем
вменяемость его должна
164
быть сильнее, а чем обдуманнее, тем вменяемость сла-
бее,— ибо тем более вероятности, что человек употребил
всю силу, какую мог.
Итак, примирение этой теории с вменяемостью ведет
к абсурду. Как бы чувствуя сам эту слабую опору
нравственной вменяемости, Гербарт ищет другой для
юридической:
«Вопрос (о юридической вменяемости), — говорит
он: не касается учения о существе свободных действий;
но судья предполагает вперед, что если совершенно-
летний
преступник был здоров, то он должен был знать
вредные последствия своего действия (М о е: это знает
и безумный, стремящийся убить человека), что он не
пожелал бы подобного действия, если б оно было
направлено против него; что он образовал в себе общее
понятие этого нежелания (сколько предположений ни
на чем не основанных!) и что он знает, что гражданское
общество таких поступков не терпит. Это все должно
было удержать его от его поступка, если он честный
человек; а если он
не честный человек, то тем вернее
будет он наказан, чем крепче его злой характер и чем
вернее из этой злости выходят при каждом случае
злые поступки. Вопрос, следовательно, только в том,
был ли человек болен или нет?»
Но этот-то именно вопрос мы считаем совершенно
излишним, припоминая слова того же Гербарта, что
в психическом мире, как и в физическом, нет болезни
(см. ниже ib., S. 178, § 240), так как и в психическом
мире все происходит совершенно правильно вследствие
причин
неотвратимых или последствия других причин.
По этой теории и животное, и безумного надобно
наказывать одинаково — и только от детей следует
ожидать исправления.
Но в этом случае Гербарт еще имел оправдание,
приписывая человеческому суду — такую только внеш-
нюю справедливость; но он переносит то же и в суд бо-
жий. У Гербарта душа и после смерти страдает за
комбинации своих представлений, тогда как комбина-
ции составились по законам механики! За что же она
165
страдает?! (Ib., S. 173, § 250). Это уже совершенный
абсурд. Точно так же справедливо бы было кривой
северной березе мучиться совестью за то, что она крива.
Такое представление божества, как справедливо за-
мечает Руссо,— богохульство.
Но как же примирить вменяемость с законностью?
Они примиряются на факте; а философы пусть лучше
додумают о том, как бы примирить свои теории с фак-
том, а если нельзя, то поставить сократовское не
знаю.
89.
(I, 7). Самообладание и свобода воли. Рассудок.
Теория Гербарта
«Условие самообладания, а следовательно, и опре-
деление его конечной величины,— лежит в отношении
господствующей массы представлений к подчиненной»
(Herbart. Erster Theil, S. 162, § 236).
«Деятельность, духовная энергия лежит исключи-
тельно в массах представлений; а этих масс очень много
и они очень разнообразны, и все они могут действовать
как рассудок» (S. 163), вот почему Гербарт говорит,
что рассудков
у человека много.
Но откуда же берут силу эти гномы человеческой
души — представления? Если источник силы в их
смысле, то надобно, чтобы этот смысл был кому-нибудь
доступен и кем-нибудь оценен.
Гербарт выставляет идеал самообладания, когда
душа вполне организована, но властвующим является
нравственное самообладание (почему же?)1— это он
называет психическим организмом; лучше бы называть
психическою организациею, но она и тогда может быть
руководима безнравственною мыслью.
«Это цель воспи-
тания и самообразования* — нет, еще не цель: сам же
Гербарт говорит в другом месте, что самообладание
может быть и нравственное и безнравственное (S. 159).
Следовательно, тут, сталкиваясь с воспитанием, теория
Гербарта разбивается о практику и впадает в противо-
речие. Понятно, что самообладание «есть результат
целой протекшей жизни» (ib., § 239). Но если бы не
166
было мгновенного самообладания у то не выросло бы и
полное.
Правда, идею нравственности и религии Гербарт
относит к телеологическим понятиям» (ib., S. 166,
Anmerkung 1); но какое же душевное основание этих
телеологических понятий?
Гербарт отделяет совершенно метафизику, пси-
хологию и телеологию, куда относит всю художествен-
ную этику.
90. (I, 10—11). Исполнение. Воля
(Бенеке и мое)
Для Бенеке воля есть не что иное, «как желание,
к
которому примыкает группа представлений, в которой
мы желаемое (с убеждением) представляем впереди,
как уже осуществленное этим желанием» (Erz. und
Unt.,T. I, §72, S. 297).
Следовательно, воля не одна, а столько же волей,
сколько есть таких желаний о представлениями и убе-
ждениями их осуществления, а самое совершенство воли
зависит от совершенства этих двух ее элементов: оба
эти элемента, представление и желание, могут перво-
начально образоваться каждое само по себе, но
воли
не произойдет до тех пор, пока они не придут в соеди-
нение. Ожидание же осуществления воли происходит
преимущественно (?) из прежних опытов (ib., S. 298).
Что это объяснение воли шатко и не выдерживает
критики,— это видно само собою. Во-первых, тут
пропущен весьма существенный элемент,— это изме-
рение трудности, измерение того, во что обойдется мне
достижение желаемого. Я мог сильно желать вещи,
знать, что могу ее получить, и в то же время не желать
труда, который
я должен употребить для этого, и если
нежелание труда окажется сильнее, то я могу остаться
при одном желании с ясным представлением выполне-
ния и с полною уверенностью этого выполнения, если
я захочу] следовательно, существенный элемент воли—
это то, чтобы желание деятельности было сильнее от-
вращения от труда деятельности. Сила же желания ва-
167
висит, во-первых, от силы стремления, из которого же-
лание рождается, и, во-вторых, (от) того, насколько
предмет, желаемый мною, удовлетворяет, по моему мне-
нию, этому стремлению. Элемент уверенности в дости-
жении, т. е. в собственной своей силе, сравнительно
с силою преграды или в слабости преграды сравнитель-
но с моими силами (смотря по тому, на что более об-
ращено мое внимание)— есть, конечно, третий и столь
же необходимый элемент,
как и два первые.
Между элементами этими та разница, что сила
стремления зависит, во-первых, от прирожденной силы
души, которую воспитание не может ни уменьшить,
ни увеличить. В этом отношении мы видим чрезвычай-
ное различив между людьми: у одних все желания
стремительны, сильны, настойчивы, у других слабы.
Кроме того, много здесь зависит от сосредоточенности
силы: человек, у которого много различных желаний,
легче отказывается от одних, видя возможность удов-
летворить
другим. Ясность представления желаемого
приобретается опытом, идет вообще путем образования
и уяснения представлений; но при этом надобно за-
метить, что представление неясное чаще более напря-
гает наше желание, чем ясное: мы по свойству челове-
ческой природы, замеченному еще Цезарем,— верить
в то, чего желаешь,— ожидаем часто большего от пред-
ставления, чем оно дать может. Элемент уверенности
в своих силах, как мы уже (видели), у человека вначале
безграничен,— и ив этой
грубой массы опытами высе-
кается настоящая уверенность — пропорциональность
уверенности о препятствием, причем может образо-
ваться или безумная смелость, часто впрочем имеющая
успех по своей безумности, по своей непостижимости
для других здравомыслящих людей, или ничтожная
трусость. Вот на эти-то опыты более всего, а отчасти
на сосредоточение стремлений и уяснение представле-
ний, может иметь влияние воспитание; на самый же
источник — силу стремлений — никакого прямого.
В
педагогических же выводах из уяснений воли мы
вполне согласны с Бенеке*
168
Чтобы выработалась воля, надобно дать ей упраж-
нение и руководить этими упражнениями так, чтоб
чувство победы препятствий не было подавлено чув-
ством неудач. В самом стремлении человека к совер-
шенству лежит уже залог того, что успех ободряет его
даже независимо от своего содержания: «я это сделал»;
«я этого достиг»…в этом есть наслаждение независимо
от содержания того, что сделано и достигнуто.
Вот почему воля крепнет от деятельности.
«Ломать
волю» потому только, что она воля дитяти,
а не наставника, есть величайшее безумие^см. у меня
об упрямстве).
Но к чему же особое слово для этих психических
деятельностей, когда для них есть уже название; когда
только это сложный акт уже других сил? И действитель-
но, это употребление только сбивает,— тут нет никакой
особенной способности воли, тут только желание, ос-
ложненное уверенностью в возможность его достигнуть
и победившее своей силой силу отвращения от труда
деятельности.
Нам кажется гораздо лучшим ограни-
чить понятие воли пределами власти души над телом;
так что по нашему определению воля есть не что иное,
как власть души над телом (заметьте, не свобода — а
воля) и в таком смысле это есть непременно особая
способность души, без которой душа могла бы желать,
представлять желаемое, и не быть в состоянии двинуть
ни одним мускулом, ни одним нервом, подобно тому, как
это бывает тогда, когда исчезают или парализируются
силы тела, так что душе,
и имеющей способность воли,
нечем распоряжаться.
Но так как душа не творит физических сил и не мо-
жет их замещать своими, а без этих сил не может дви-
гать телом, то мы и можем сказать, что воля есть способ-
ность души* направлять силы тела по своему жела-
нию: так, например, употребить на движение рук
и ног ту силу, которую выработает пищеварение
и которая без того пошла бы, быть может, на утуч-
* Это верно. Что такое воля? (Замечание автора на полях).
169
нение тела или обратно, даже во вред здоровью
и т. д.
Сила эта имеет, во-первых, свои непереходимые
пределы в силах тела, но кроме того в опыте пре-
делы сил тела узнаются опытом; опыты же преодоле-
вают трудности дают нам настоящую уверенность
в наших силах души и тела. Вот почему един-
ственный путь образовать волю в человеке есть
опыт, т. е. деятельность воли. Бенеке видит в этом
какое-то таинственное собрание «задатков воли», мы
же
просто — ясное каждому возрастание уверенности
в своих силах.
Бенеке приводит ив Ботштетена (Briefe an Matthisson,
Zürich, 1827, S. 245), как подействовала на автора
этих писем единственная победа над собой, как он,
услышав в полночь шум в церкви, к которой шел,
пустился бежать, но потом принудил себя воротиться
и убедился, *что это ветер стучал веткою. «В моем сердце,
говорит он, я чувствовал сильную радость от этой по-
беды над самим собою. Так наши ощущения делаются
основанием
нашего внутреннего существа. Никогда
не забывал я этой победы, и при каждом подобном при-
падке страха это воспоминание действовало на меня,
как волшебное заклинание» (Benecke, § 75, S. 317,
Anmerk.)
(Этот рассказ следовало бы поместить в «Детский
Мир»).
91. (I, 16). Свобода
Если наши внешние чувства обманываются, говорит
Бэн, то почему же мы можем положиться на то чув-
ство, которое говорит нам, что мы свободны? (The
Will, p. 556, 557).
Но мы держимся мнения Милля,
что чувства никогда
не обманываются, иначе нам не на что было бы и по-
ложиться. Может быть, и все наши чувства обманыва-
ются; может быть, и вовсе нет ничего того, что мы
чувствуем; но для нас естъ только чувства — из них
170
мы все строим, что для нас: по необходимости мы
должны им верить.
Бэн приводит, например, частную слепоту, т. е.
когда, например, индивиду кажутся зеленые цвета
красными; но он для него и есть не что иное, как крас-
ный, ибо производит в его нервах тот самый процесс,
который дает душе ощущение красного цвета; мир не
имеет ни цветов, ни звуков, ни тепла, ни холода, ни
скорого, ни тихого… все это ощущение.
Если мы не положимся на наше
ощущение, нам не
на что больше положиться.
Отказавшись от свободы воли, которую он не мог
примирить с идеею причинности, которую он берет
не в миллевском ограниченном, но в ньютоновском
неограниченном смысле (ib., р. 547 и 548), Бэн хо-
чет все же утвердить понятие нравственности и нрав-
ственной ответственности, но, конечно, это ему не
удается, как не удавалось еще и прежде сотням других
мыслителей, которые не могли примирить веру в при-
чину с верою в свободу — и которых
самое это чувство
свободы заставляло искать оснований для вменяемости
человеку его поступков.
«В обширном смысле, говорит Бэн, я моральный
(т. е. ответственный) деятель, если я действую по по-
буждению моих собственных чувствований (но что зна-
чит моих собственных?-^ точнее <следовало>—приятных
или неприятных) и, наоборот, я не моральный деятель,
если я принужден силою. Всякий поступок, выходя-
щий из побуждений приятного или неприятного состоя-
ния, или их ассоциаций,
есть свободный акт, и это все,
что следует разуметь под названием морального агента.
Каждое животное, преследующее цель, подходит под
это понятие» (ib., р. 564).
To-есть — это уже совершенная глупость— всякое
действие, которое я ощущаю, свободно; и всякое, ко-
торого я не ощущаю, не свободно.
Слово вменяемость он заменяет словом накавыва-
емость (р. 564). Но тут не одно наказание, а также и бла-
годарность и любовь, которую, как сам же Бэн говорит
171
в другом месте, мы чувствуем к человеку, который мог
бы сделать, а мог бы и не сделать нам добро, потому что
не может иначе.
Вообще вопроса о вменяемости он не решает.
92. (I, 17). Свобода воли
«Может случиться, говорит Бэн: что на минуту про-
тивоположные притяжения уравновешиваются и реше-
ние замедляется. Это равновесие может продолжаться
даже долго; но когда решение произошло, то и факт,
й общее мнение говорят, что в душе появилось
какое—
нибудь соображение, придавшее более энергии моти-
вам той стороны, которая перевесила> (Bain, The
Will, p. 549).
Бэн, конечно, то же, как и Милль, старается оста-
вить слово свобода и выбросить слово необходимость;
но сущность дела от этого не меняется; и это примире-
ние оказывается несостоятельным.
«Если, говорит он, какое-нибудь другое лицо за-
ставляет меня действовать так или иначе, тогда может
быть понято, что я не имел свободы в выборе; но между
различными
мотивами моей собственной души нет
смысла в употреблении слова свобода. Различные по-
буждения, выходящие из настоящих или предвидимых
удовольствий или страданий, — сходятся, заставляя
меня действовать; результат же этого столкновения
состоит в том, что одна группа оказывается сильнее
другой — вот и все» (ib., р. 550).
«Тут вопрос не в свободе и в необходимости, а только
в том, принадлежит ли мне это действие или оно принад-
лежит другому лицу, для которого я был только ору-
дием»
(ib., р. 550).
Уловка здесь ясна! А если мой воспитатель внушил
мне ложные правила? Чье это действие — мое или на
мое? А если обстоятельства заставили действовать так
или иначе? Что это — мое или не мое? А если нельзя?—
и т. д. …Таким образом, разобрав всю деятельность^
человека, мы придем к убеждению, что она результат’
172
характера; а характер результат природы и внешних
обстоятельств,— и что в моих действиях ничего нет
моего.
Дело в том, что Бэн не признает личности, отдельной
от характера; а на каком основании?— на основании
немыслимости, которую Милль отнес к обильнейшему
источнику философских ошибок (см. гл. Fallacy).
«Невозможно, говорит Бэн, чтобы предмет был что—
нибудь более собрания своих собственных свойств;
если есть остаток, это значит только,
что исчисление
было не полно» (ib., р. 554).
Но можно спросить и наоборот, чему же принадле-
жат эти свойства? Одно другому, что ли? Тяжесть теп-
лоте и т. д.? Но все это бессмыслица.
Вопросы психологические нельзя решить метафизи-
чески, а только опытом: всякий же чувствует в себе свое
особое я, отдельное не только от внешнего мира, но и от
собственных его мыслей и желаний, которые это я может
делать предметом своего рассматривания,— вот пси-
хический факт,— с него и
начинайте.
«Нам иногда приходит в голову обидеться, что дру-
гой легко рассчитывает наши действия, и мы нарочно
сходим с нашей обыкновенной дороги, чтобы запутать
эти расчеты. Но это не что иное, как новый мотив, выхо-
дящий из чувства унижения ‘или гордости. Куда бы
мы ни обернулись, нигде, совершая какое-нибудь про-
извольное действие, мы не избежим предшествующего
мотива: избежали одного, мы попадаемся в руки дру-
гого» (ib., р. 585).
Верно — да переход-то наш? Эта-то
возможность
отказаться от всякого мотива, какой бы он ни был, хотя
бы только для того, чтобы доказать нашу свободу, и
есть свобода. Если я только для доказательства самому
себе своей собственной свободы отказываюсь от сильней-
шего мотива и выбираю слабейший или даже принуждаю
себя поступать, как не хочу, как бы то ни было, только
не так, как хочу, то этим я доказываю свою свободу.
Кроме того действия, мотив которого я подавляю, есть
много действий безразличных для меня, и
я выбираю
173
первое попавшееся не потому, чтобы желал его, но
только для того, чтобы проявить свою свободу; следо-
вательно, мотив действия лежал здесь не в самом дей-
ствии, безразличном для меня, а в желании проявить
свою свободу,— следовательно, мотивом была сама
свобода.
93. (I, 18). Свобода
«Понятие, что человек свободен в своих действиях,
появилось сначала у стоиков и потом в сочинениях Фи-
лона Иудейского» (Bain, The Will, p. 544).
Это
Бэн себя утешает, что он борется с теорией, а не
общечеловеческим чувством, которое живо и в нем
самом.
«Добродетельный человек был объявлен свободным,
а порочный рабом; этой сильною метафорою хотели
сказать комплимент добродетели и унизить порок;
хотя по большему праву можно сказать, что доброде-
тельный человек раб, а порочный свободен».
«Доктрина о свободе была выработана в метафизиче-
скую схему против доктрины необходимости св. Авгу-
стина против Пелагия; потом она
сделалась предметом
спора между арменианцами и кальвинистами; и целые
столетия служила предметом раздора между теологами
и метафизиками» (ib.).
94. (I, 21). Кетле. Свобода воли
Факты нравственной и умственной статистики, на
которых основывает Кетле свой вывод среднего чело-
века, очень шатки.
Он хочет определить эпоху, когда зарождается в че-
ловеке память, воображение и рассудок (T. II, р. НО),—
но мы уже видели, что это самый неверный психологи-
ческий взгляд, и
развитие воображения хочет опреде-
лить появлением драматических произведений.
* Да в таком случае у славян вовсе не окажется вообра-
жения! Где оно у турок? И неужели всякое напечатан-
ное сочинение идет в одно время? И разве тогда пишется
174
^ печатается драматическое произведение, когда оно
создается? I
А в статье преступлений?!
Да можно ли их взвесить, когда сам же Кетле гово-
рит в другом месте, что преступность действия опреде-
ляется намерением, а не фактом?
Статистика, например, считает воровство; но иное
воровство, будучи преступлением, может быть в то же
время нравственным подвигом. Вот высчитано, например,
влияние пьянства на число преступлений (ib., р. 135) —
<сделать>
это может и должна статистика — и в подоб-
ных исчислениях ее великая заслуга перед обществом.
Но это не может быть нравственное мерило общества.
Если мы уменьшим число кабаков и меньше будет пьяных,
а вследствие того и меньше преступлений, то неужели
это значит, что нравственность общества возвысилась?
Если в городе, где ночная темнота и отсутствие полиции
способствовали грабежам, мы заведем фонари и поли-
цию, вследствие чего, конечно, число преступлений
уменьшится, то неужели
это значит, что мы возвысили
нравственность общества? Не спорю, что и тот и
другой факт может влиять на возвышение нравствен-
ности, но сами не будут его непосредственными при-
чинами.
Кетле сам видит, что его теория ведет к отрицанию
всякого вменения и добрых и злых поступков, а потому
и оговаривается, что «все, что относится к человечеству
в массе, принадлежит к ряду фактов физических; чем
более число индивидов, тем более изглаживается инди-
видуальная воля, оставляя
место ряду общих фактов,
зависящих от причин, на основании которых существует
и сохраняется общество» (ib., T. II, р. 247).
Это совершенно верно, но к этому следовало приба-
вить, что личная, свободная воля также факт, вносящий
изменения в эти ряды физических фактов, управляющих
человечеством.
Впрочем и сам Кетле говорит на стр. 248, что он от-
вергает мысль о невозможности улучшения человечества:
«я верю, говорит он, что человек обладает нравственною
175
силою, способною изменить законы, им управляющие;
но что эта сила действует чрезвычайно медленно (de
la manière la plus lente), так что причины, влияющие
на общественный строй, не могут испытать никакой кру-
той перемены, и как действовали они в продолжение
ряда протекших годов, так и будут действовать в про-
должение грядущих, если не успеют их изменить» (ib.,
р. 249). Вот почему несколько строк ниже он сравни-
вает число преступлений,
дающих жертвы тюрьмам,
ссылкам и эшафотам, с денежным бюджетом, который
ежегодно уплачивается народами правительствам.
Однакоже первое, т. е. могущество природных при-
чин, он подтверждает фактами; второе выражает только
как веру, сохраненную им, несмотря на силу этих фак-
тов. Вот главная ошибка Кетле, которая гибельным об-
разом отравилась на Бокле, все книги которого состав-
лены под сильнейшим влиянием Кетле, и на наших ни-
гилистах!
Сам Кетле невольно гнется под фактами,
им приво-
димыми. Так, в конце своего замечательного сочинения
он высказывает определенно. Итак, «опыт подтверждает
со всею возможною очевидностью то мнение, которое
о первого раза может показаться парадоксом, что именно
общество приуготовляет преступление и что преступник
есть только орудие, его выполняющее. Из этого следует,
что несчастный, несущий свою голову на эшафот или
оканчивающий свое существование в тюрьме, есть неко-
торым образом очистительная жертва общества.
Его
преступление есть плод обстоятельств, в которых он
находится; а тяжесть его наказания есть, может
быть, новый плод их. Но если уже дело до того до-
шло, наказание есть тем не менее зло необходимое,
хотя бы даже как предупреждающее средство; жела-
тельно только, чтобы другие средства предупреждения
могли бы отныне сделаться достаточно сильными, чтобы
принуждены были менее прибегать к этому послед-
нему» (ib., р. 525, 526).
Но кто же не видит, что наказание, только
как пре-
дупреждающее средство, такая же нелепость и возму-
176
тительная несправедливость, как наказание сумасшед-
шего или человека, который, будучи столкнут с крыши,
задавил прохожего, и нелепость тем более возмутитель-
ная, что бесполезная: не сам ли Кетле показывает, что,
несмотря на существование наказаний, каждый новый
год дает одно и то же число преступлений? Не сам ли
предвидит он то же самое и в будущем?
Не очевидно ли, что мы или должны признать нелепо-
стью, противоречащею фактам науки,
всякую вменя-
емость и преступлений и добрых подвигов, или при-
знать, что факты науки еще недостаточны, чтобы сде-
латься единственными руководителями и индивида и
общества? — Факт собственной вменяемости для нас
сильнее всех этих фактов — тем более, что мы видим
их неполноту, а часто и их ложное толкование. За
многие ли годы собраны у нас эти факты? Разве и в них
мы не видим разницы? Правда, и в фактах физических
есть разнообразие; но разве сравнение что-нибудь до-
казывает?
Там это может зависеть от причин нам неиз-
вестных; а здесь от свободной воли, нами в самих
себе ощущаемой. Ложное же истолкование фактов и их
натянутое объяснение часто кидается в глаза. Так,
например, Кетле, а вслед за ним и Бок ль, называют
самоубийство «актом, который самым близким образом
связан с волею человека» (ib., р. 150) и удивляются
статистической регулярности его случаев. Не говорят
ли бесчисленные медицинские наблюдения, что само-
убийство чаще всего совершается
в припадках белой го-
рячки, ипохондрии или безумия?
Не сам ли Кетле несколько далее показывает ста-
тистическими данными, что летом одновременно возра-
стают и факты помешательства, и факты самоубийства
(стр. 152). Если же он причислил помешательство
в число физических фактов, то по какому же праву он
всякое самоубийство причисляет к фактам доброволь-
ным? Тогда как множество случаев предупрежденного
самоубийства беспрестанно открывают нам болезнь
в несчастном, который
посягал на свою жизнь? Но если
самоубийство не было предупреждено и совершится, то
177
статистика зачисляет его в число произвольных фактов,
т. е. случаи болезни назовет произвольными.
Можно ли полагаться на такие факты? Иногда
можно, иногда нет; но они слишком грубы, чтобы на
основе их опрокинуть веру человека в свою личную сво-
боду и личную ответственность ва свои поступки.
Кетле, правда, говорит, что «законы общие, отно-
сящиеся к массам, оказываются совершенно ложными,
если их прилагать к индивидам» (ib., р. 268); но
сам
часто забывает эту совершенно верную мысль и не под-
тверждает ее фактами и анализом.
95. (I, 22). Кетле. К воле. К прогрессу. Врожден-
ность человеку человеческого идеала. Средний человек
Теория нравственной статистики Кетле основана на
ложном психологическом взгляде о врожденности*:
«Человек при рождении приносит с собою зародыши
всех качеств, которые развиваются впоследствии и в
больших или меньших пропорциях: у одних преобла-
дает благоразумие, у других скупость,
у третьих вооб-
ражение и т. д.» (Sur l’homme et le développement de
ses facultés. Paris, par Quetelet,. 1833, t. II, p. 108).
Но замечательна мысль, которую проводит Кетле далее:
«Но тот факт, что все мы замечаем эти особенности
человека, когда они существуют, доказывает уже, что
мы имеем чувство общих законов человеческого развития
и что даже мы употребляем эти чувства в наших сужде-
ниях» (ib., р. 109).
Вот эту-то общую и шаткую оценку и хочет Кетле
обратить в определенные
очерки посредством статисти-
ческих данных, считая возможным определить «сред-
него человека нации и человечества*. В первом томе и
половине 2-го он изыскивает среднего человека физиче-
ского, а во 2-ой половине второго— среднего человека
нравственного.
* Так Кетле прямо говорит о врожденном стремлении к пре-
ступлению, которое развивается с возрастом (ib., р. 229).
178
Вот тут и главная ошибка Кетле; я думаю, да Кетле
сам с этим согласен (см. ib., р. 258, 274, 275), что сред-
ний человек, которого справедливо назвать человеком
статистики, меняется в истории народа и человече-
ства, и перемена эта происходит по какому-то другому
образцу, и, конечно, не по среднему же человеку.
Кетле ошибается, называя своего среднего человека
статистики совершенным человеком, идеалом человека,
а это он повторяет так часто,
что трудно ошибиться
в его мысли (ib., р. 276, 284 и т. д.); Он говорит, что
«личность, которая в данную эпоху сосредоточит
(резюмирует) в самой себе все качества среднего чело-
века, выразит в то же время все, что есть великого, пре-
красного и доброго» (ib., р. 276). Неужели Сократ был
средний человек современной ему Греции? Или Христос
современного ему еврейства, или Катон современного
ему Рима? Разве не потому и гибли эти личности,что
они вносили в мир или новые или уже
отжившие идеи?
Нет, средний или по-русски дюжинный человек эпохи
и народа будет пошляк, ибо его должно вывести из пре-
ступлений и добродетелей и т. д. Если же принять (его)
идеалом и всякое удаление от него уродством, то все
великое и прекрасное будет уродством. Теория боль-
шинства, которую развивает Кетле (а в психологии
Гербарт и еще более Бенеке, см. Диттес), — самая не-
верная теория, и против нее справедливо восстал
Милль в своем трактате о свободе.— Пусть человечество
давит
свое меньшинство и всякий прогресс остановится;
ибо шаг вперед делает один человек, а за ним уже сотни
и тысячи.
Что средний человек смешан у Кетле с идеалом че-
ловека, см. стр. 274 и 275. Правда, он допускает, что
средний человек меняется и не представляет абсолют-
ного типа добра и красоты, но сейчас же забывает это
ограничение, увлеченный своею господствующей идеей.
Отсюда и мораль — следовать большинству (ib., р.
284).
179
96. (I, 23). О свободе воли Бокля
Бокль считает «в высшей степени вероятным», что из
учения о случае, выходившем из незнания человеком
постоянства в явлениях природы, выросло учение
«о свободе воли» (Бокль, История цивилизации в Англии,
перев. Бестужева-Рюмина, 1864, стр. 7).
Но это мнение выведено из предполагаемой истории
человеческого развития. Но едва ли было учение о слу-
чае; мы видим самых диких народов, которые вовсе
не случаю
приписывают счастливые и несчастные со-
бытия своей жизни, а вмешательству духов, богов,
чародеев, в неурожае видя колдовство, в обогащении
человека также. Заглянуть так глубоко в мрак прошед-
шего мы не имеем возможности, и гораздо вернее судим
по диким, а у них, напротив, нигде случая, а все при-
чина; эта причина воля сверхъестественных сил. Эта же
воля ясно взята человеком и перенесена им из самого
себя. Он создавал эти сверхъестественные силы по соб-
ственному образцу.
«Полная
свобода, источник всех действий, сама по
себе ни из чего не исходит, подобно случайности есть
последний факт, не допускающий никакого объяснения»
(ib., стр. 9).
Конечно, если так смотреть на свободу, то она не-
лепость; но свобода есть не что иное, как свобода выбора
между мотивами, дающая перевес тому, к которому она
приложена; но все мотивы выходят из психической исто-
рии человека: только их на одно и то же действие бывает
не один, а множество, что всегда дает свободу воле.
«Погрешимость
сознания засвидетельствована всею
историею», говорит Бокль и выводит при этом, что со-
знание своей свободы также может быть ошибочно
(ib., стр. 11).
А внизу он делает примечание (стр. 13): «Сознание
непогрешимо относительно факта, им свидетельству-
емого, но погрешимо относительно истины.
Мы сознаем известное явление; это свидетельствует,
что явление существует в нашем духе или представля-
180
лось ему; но сказать, что это доказывает истину явле-
ния, это значит сделать шаг вперед и не только свиде-
тельствовать, но и произносить суждение. Как только
мы это делаем, мы вносим начало погрешимости,
ибо сознание и суждение, слитые вместе, не могут
быть правы, так как суждение нередко заблуж-
дается».
Здесь ошибка та, что сознание отделено от суждения.
Ошибка бывает в факте, а не в чувстве; здесь же само
чувство является фактом^
а следствием этого чувства
является действие воли, могущей остановиться, отка-
заться от мотива, выбрать другой, но не создать ника-
кого.
«Как может человек сознавать, что ничто не может
насиловать его волю? Это не сознание а суждение:
суждение о том, что может быть, а не того, что есть.
Если слово сознание имеет смысл, то оно должно огра-
ничиваться настоящим, не касаться того, что может или
должно быть в будущем».
Совершенно верно; но сознание свободы и есть со-
знание
настоящего своего положения ввиду нескольких
мотивов и прошедшего, того, что выбранный мотив мог
бы быть и не выбран нами.
Для Бокля, как для историка, признать случай—
значит подкопать свою науку или превратить ее в бес-
смысленный рассказ случайных событий; но как для
человека, в высшей степени гуманного и европейца до
конца ногтей, признать турецкий фатализм предопре-
делений возмутительно, и вот он говорит, что:
«К счастью для предмета нашего сочинения тот, кто
верит
в возможность истории, как науки, не обязан дер-
жаться одного ив двух учений о свободной воле или пре-
допределении. Положения, на которых он при настоя-
щем состоянии науки может согласиться, состоят в
следующем: когда мы совершаем что-либо, мы действуем
на основании одного или нескольких побуждений; по-
буждения эти суть результаты чего-либо предшествую-
щего; вот почему, зная все предшествовавшее и т. д.
(ib., стр. 13 и 14) (перепечатать из книги).
181
Но тут Бокль ясно стал на сторону фатализма:
если зависит от предшествующих явлений, то и пред-
шествующие в свою очередь зависят от предшествую-
щих им — и, следовательно, жизнь того или другого
человека, все его поступки и все его мышление, все его
счастье и несчастье — определены еще тогда, когда
и рода человеческого не было на земле.— Положим,
что это не «сверхъестественное’ предустроение», а есте-
ственное, т. е. бессознательное, лежащее
в материи…
Что же выигрывает от этого человек? Прихоть сверхъ-
естественного могла по крайней мере измениться; оно
могло тронуться мольбами, жертвами, — но материя
глуха ко всякой мольбе.— Итак — это фатализм, да
еще и странного свойства;
Но мы не обвиняем в этом Бокля: наука, изыски-
вающая причины действий, должна предполагать воз-
можность найти их везде; а практика, сама действую-
щая, должна выходить из принципа возможности сво-
бодного действия. Только при таком
настроении они
обе могут подвигаться вперед.— (Вот почему и Кант
отнес свободу к практическому разуму).
Если бы Бокль действительно не признавал свободы
воли, то он не говорил бы о действиях добродетельных
и порочных (ib., стр. 16)., *
Насколько верны статистические доводы Бокля,
трудно решить; но если они и верны, то они доказы-
вают только силу обстоятельств на человека, представ-
ляющих ему мотивы для действий.— Число убийств
почти одно и то же? (Ib., стр. 18). Потому
что число мо-
тивов и удобств убийства — одно и то же: заведите по-
лучше полицию, дайте средства заработка и убийства
уменьшатся.
Орудия к убийству (ib.) одни и те же: что же мудре-
ного, когда других нет! В стране, где нет стрихнина,
не будет и отравлений стрихнином. Ввезите стрихнин,
и начнутся. Но дело в том, человек, ввезший стрихнин,
действует ли по неизменному предопределению, как
машина, или мог бы и не сделать этого, если бы не за-
хотел? — вот в чем вопрос.
182
Самоубийство — следствие именно слабости воли.
По отношению к самоубийству Бок ль говорит, что
«оно продукт BcerV состояния общества и что отдельный
преступник только приводит в исполнение то, что яв-
ляется необходимым следствием предшествовавших об-
стоятельств» (ib., стр. 20).
Но то же, по теории Бокля, следует сказать и о вся-
ком преступлении: оно есть продукт всего состояния
общества; а это состояние в свою очередь есть продукт
предшествующего
состояния и т. д. дойдем, что в борьбе
элементов при образовании коры земного шара — уже
была готова история человечества и каждого человека
в отдельности, и каждый поступок его был записан
в этой огненной книге судеб,— чем же это не турецкий
фатализм?
97. (I, 23). О свободе воли Бокля. Дух
Но Бокль не приходит к такому резкому и, по на-
шему мнению, совершенно консеквентному выводу:
он смягчает его, но не объясняет причины этого смяг-
чения; так, по отношению ко всем
преступлениям он
уже не так абсолютно, как по отношению к самоубий-
ству, говорит:
«Преступления человека суть результаты не столько
пороков отдельного лица, сколько состояния общества,
в котором преступник живет» (ib., стр. 22).
Но так как пороки отдельного лица суть результаты
прежних, от него независящих обстоятельств, то резуль-
тат ясен.
Мое. Если в духе ангела тьмы было бы взбунтоваться
против бога,— то наказание его есть страшная неспра-
ведливость.
Надобно,
впрочем, заметить, что Бокль принимает
дух, как нечто отдельное от внешней природы. «С одной
стороны, говорит он (ib., стр. 15), у нас есть дух челове-
ческий, подчиняющийся законам собственного существо-
вания и развития в случае (?), если он находится вне
действия внешних сил, согласно с условиями своего
организма. С другой стороны, мы видим природу,-тоже
183
подчиняющуюся своим собственным законам, но по-
стоянно приходящую в соприкосновение с духом че-
ловеческим, возбуждающую страсти людей, подстре-
кающую их рассудок и, вследствие того, дающую их
деятельности такое направление, какого она не при-
няла бы без внешнего вмешательства. Таким образом
человек видоизменяет природу; природа видоизменяет
человека: все события суть естественные последствия
такого взаимодействия» (ib., стр. 15).
Из
этого мы видим, как шатки были философские
воззрения Бокля. Это признание отдельности от при-
роды человеческого духа с своим собственным организ-
мом и законами и с возможностью воздействовать на
природу,— верование, послужившее основой «самого
дорогого» для Бокля верования в бессмертие души, и
дало великому ученому право отвергать свободу воли;
но если бы он вникнул в законы духа, о котором он го-
ворит, то увидал бы, что один из этих законов и самый
основной — свобода,
как следствие самосознания, чем
дух и отличается от природы,— и имеет в собствен-
ность то, что им сделано.
98. (I, 24). Бокль. Свобода воли
Фактам об одинаковости преступлений и т. д., на
которые ссылается Бокль, нельзя всегда доверять. Он
часто ссылается очень неосмотрительно: так, например,
ч. I, глава IV, Бокль на стр. 147 в примечании 34-м
говорит: «Уважение русских к духовенству обратило
на себя внимание многих наблюдателей и так известно,
что не требует доказательств».
Но нельзя забывать, что
тут он сравнивает Россию с Западной Европой; но каж-
дый русский знает, что в Англии и Пруссии, не говоря
уж об Австрии, духовенство пользуется гораздо боль-
шим уважением, чем у нас.— Кюстин для Бокля на-
блюдательный и умный писатель о России (ib., прим.
35). Если его ссылки и доказательства так же верны,
например, относительно Индии, Китая, или исчезнув-
ших государств Америки (а почему же им быть вернее?).
184
то нельзя давать больше веры фактам, приведенным
в его книге.
Во всей своей книге Бокль постоянно противоречит
абсолютному пониманию своего учения о необходимости.
Так (ч. I, глава V, стр. 170) — что «в небольших
числах лиц и в короткие периоды торжествует личное
нравственное начало и мешает действию широких ум-
ственных законов».
Но откуда же выходят эти личные нравственные
стремления, нарушающие для общества бессильно, но
для
отдельного лица всесильно действия общих законов?
Нравственные начала и страсти Бокль считает прирож-
денными (см. выше стр. 167), но признает, что изменение
их зависит от неизвестных причин: следовательно, вот
отклонения, которые все одолеваются силою общих
законов. Где же причина таких отклонений? Неизвестно?
А я думаю, она и есть свобода воли.
Для отдельного поступка она имеет всесильное зна-
чение; для характера человека и результатов его инди-
видуальной жизни — очень
большое; для общества в дан-
ную эпоху — значительное; для государства во весь
период его развития и жизни — малое; для человече-
ства и его истории — почти незаметное; для мира —
может быть, никакого.— Но, воспитание и суд имеют
дело с индивидуальным человеком; а потому и понятно,
что Бокль, как историк, исходит из закона необходи-
мости; но моралист, педагог, судья исходят из закона
личной свободы;^да и история не Молох какой-нибудь,
а имеет в результате того же личного
человека.
Бокль везде там противоречит своей теории необ-
ходимости, где доказывает, что личные свойства того
или другого правителя на время только изменяют ход
исторических событий, а этих мест у него очень много
(наприм., ib., стр. 173), или где говорит о «естественных
и искусственных* средствах (ib., стр. 191) и т. п.
Так здесь он говорит,например: «По обстоятельствам,
для нас неизвестным, от времени до времени, являются
великие мыслители, которые, посвятив жизнь одной
цели,
могут предупредить развитие ^ода человеческого.
185
и создать религию или философскую систему, нередко
имеющие важное влияние». Но если эта система слишком
высока для общества, то они не окажут услуги в данное
время…
Но если человек только продукт общества (см. выше),
то откуда же являются эти люди — не продукты об-
щества? Если умственные способности не врождены, то
откуда же эти гении? — И таких противоречий у Бокля
нет числа.
в) Значение идеи свободы для человеческого
прогресса
и культуры
99. (I, 25). О свободе воли Бокля (вып. из Канта)
В конце главы Бокль сделал свод выписок из Канта
о свободе воли; но перевод очень дурен, надобно про-
верить: кажется, Бокль их привел с риторической целью
показать, что Кант сам путался и не верил в свободу
воли.
Вот места: 1) Metaphysik der Sitten (Kant’s Werke,
t. V, S. 20, 21). 2) Prolegomena zu jeder künftigen Meta-
physik (t. III, S. 268—270). 3) Theodicée (t. VI, S. 149).
4) Kritik der reinen Vernunft
(t. II, S. 24), (S. 419, 420).
Из этих выписок видно, что мнение Канта о свободе
воли было таково:
Что надобно отличать явления от сущности вещи
самой в себе; что всякое явление вытекает из сущности
вещи и как явление — не свободно; но относительно
самой вещи оно свободно, поскольку эта вещь действует
по своей сущности. Т. е. относительно человека это
будет так, что все действия духа, вытекающие из за
конов духа, свободны для него; а как явления они
имеют свою причину
в сущности духа.— Но нетрудно
видеть, что здесь свобода только кажущаяся свобода.
Духу кажется, что он свободен, ибо он хочет того, что
в него вложено, но в сущности он не свободнее всякой
вещи действовать своими свойствами на другие вещи.
Но свободен тот только, кто может действовать и в про-
тивность своей сущности,
186
«Я могу сказать, говорит Кант, не впадая в противо-
речие: все действия разумных существ, насколько они
суть явления (познаваемые опытом), подчиняются есте-
ственной необходимости; те же самые действия, отно-
сительно разумного субъекта и его способности действо-
вать на основании чистого разума, свободны».
— Не лучше ли сказать: не понимаю?
— Нет, — чувство ясно нам говорит, что мы обла-
даем вещью только тогда, когда имеем власть и упо-
треблять
ее и не употреблять и злоупотреблять ею.
По Канту, вещь будет отличаться от разумного суще-
ства только сознанием и самосознанием. Предположим
себе, что вещь одарена ими: тогда деятельность, происте-
кающая ив ее сущности, должна ей казаться свободным
ее действием; но это будет только призрак.
У нас образовалось понятие,что Бокль делал уступки,
хитрил и что выраженное им мнение, как например,
о духе, о бессмертии души — просто фразы, не имеющие
ничего общего с его сочинением.
Но это неправда: все
его великое сочинение построено на идее борьбы духа
и природы,— и если это понятие вынуть оттуда, то все
его сочинение должно быть переделано.
Так, например, он везде говорит о борьбе духа чело-
веческого с природою: так например (ч. I, гл. III,
стр. 114 и 115) он говорит: «в Европе человек стре-
мится подчинить себе природу, а вне ее — природа под-
чиняет себе человека». И это понятие он считает «ос-
нованием философии истории». «Если хотим понять
историю
Индии, говорит он, то должны начать изучение
с внешнего мира, который имел больше влияния на
человека, чем человек на него. Если, с другой стороны,
желаем понять историю Англии или Франции, то долж-
ны начать с изучения человека, ибо, при сравнительной
слабости природы, каждый новый шаг вел к господству
духа над деятелями внешнего мира* (ib., S. 115).
Выкиньте из всех этих предложений понятие о
духе человеческом, как о чем-то отдельном от материаль-
ной природы,— и что станется
с ними? В Индии человек
будет таким же продуктом природы индийской, а а
187
Европе — природы европейской, и можно только удив-
ляться, что природа индийская, такая сильная, создала
такого слабого человека; а природа европейская, такая
слабая, создала такого сильного. Что же касается до
победы над природой, то это слово будет иметь смысл
победы природы над самое собою, или лучше никакого
смысла.
Следовательно, понятие о духе человеческом легло
в основу сочинения Бокля; выдерните его — и все
сочинение развалится.
Вот
почему нигилисты, сначала схватившись за
Бокля, потом стали дуть себе на обожженные пальцы
и проповедывать, что его надо бы издать с коммента-
риями; мы можем только пожалеть, что этих коммен-
тариев до сих пор не сделано.
«Успехи европейской цивилизации характеризу-
ются уменьшением влияния законов физических и уси-
лением влияния духовных* (ib., S. 117).
Следовало сначала определить, что такое законы
физические и что такое законы духовные.
Далее он доказывает, что духовные
законы могут быть
изучены только исторически. Главный авторитет его
Кузен, и вообще в этой главе (глава III) обнаруживается
вся недостаточность знакомства Бокля с психологией
и метафизикой. Он хочет заменить их историей; но
историей чего? (Ib., гл. IV).
100. (I, 26—27). Свобода воли. Моральная стати-
стика. Дробиш
Факты моральной статистики Кетле разошлись у нас
по России через посредство книги Бокля. Замеченная
правильность в человеческих действиях, считающихся
произвольными,
невольно наводит на мысль, что они
подвержены таким же неизбежным законам, как явле-
ния физического мира, что человек женится, делает
преступление, лишает себя жизни, едет по железной
дороге и даже пишет письмо и делает ошибку в адресе
(см. Бокль, ч. I, стр. 24) не произвольно, а подчиняясь
неотразимому закону судьбы.
188
Бокль придал в начале своей книги большое зна-
чение этим явлениям, желая доказать возможность и
необходимость изучить историю, как законное произве-
дение природы, а с другой — духа человеческого.
Историку такое доказательство необходимо, ибо без
него история как наука невозможна, и попытка открыть
в истории законы, управляющие событиями, начавшаяся
еще с Вико, нашла в книге Бокля блестящее продол-
жение. Отрывочные мысли о влиянии природы
на че-
ловека, находившие себе место почти во всякой систе-
матической истории со времен Гердера, получили черев
книгу Бокля такое право гражданства в истории, кото-
рого, без сомнения, они до сих пор еще не имели. Боклю,
без сомнения, принадлежит честь связать политическую
экономию с историей неразрывными узами. Но Бокль
окончательно не высказался в пользу философской тео-
рии неизбежности; напротив, далее он в многих местах
своего сочинения высказывает, что законность прило-
жила
только к обширным явлениям истории, и чем об-
ширнее и .долговременнее она, тем приложимее и тем
вернее она действует, так что частное нарушение тех
законов оказывает только временное влияние, следы
которого, чем далее подвигается история, тем более
стираются и, наконец, совершенно исчезают.
Но при особенном настроении нашего общества
страницы из сочинения Бокля, посвященные мораль-
ной статистике, отразились особенным образом, на
который сам писатель никогда не рассчитывал,
и послу-
жили одним из важнейших оснований для материалисти-
ческих воззрений на человека и его действия. Слова
же Бокля в том же самом сочинении и в других, противо-
речащие материализму, считались уступкою англий-
скому пуризму, как будто Бокль недостаточно доказал
полную независимость своего литературного характера.
Для тех, кто так односторонне увлекся несколькими
страницами, вырванными из сочинения Бокля, не бес-
полезно будет прочесть брошюру Дробиша (Die mora-
lische
Statistik, von Drobisch, 1867), в которой с большой
ясностью доказано настоящее значение этих морально-
189
статистических выводов. И тем более можно довериться
автору, что он, как самый консеквентный гербартианец,
отвергает свободу воли, но как любитель математики
и статистики вовсе не имеет в виду показать невозмож-
ность их приложения к науке морального свойства.
Вывод, к которому приходит Дробиш, таков:
Человеческие поступки суть следствие многих кон-
курирующих причин: первое — характера и самоопре-
деления человека; второе — влияний внешней
природы
и, в-третьих, влияний общества, в котором он живет,
и того положения, которое он занимает в обществе.
Везде же, где постоянно действующие причины дей-
ствуют вместе с неправильно разнообразящимися слу-
чайными, законность явления высказывается только
в большом числе этих явлений и только для него и имеет
значение. В малом числе явлений эта законность непри-
метна (ib., S. 12 и друг.). При постоянном влиянии
одной и той же причины в явлении, в котором действуют
и
причины случайные, чем более этих явлений будет
взято, и чем более длинен период наблюдений, тем более
в среднем выводе будет одолевать постоянно влияющая
причина, и тем более самое явление будет выказывать
постоянства. Так, например, на число браков, без со-
мнения, влияют, кроме произвольного решения, число
лиц брачного возраста, большая или меньшая дорого-
визна жизненных потребностей, общий характер и при-
вычки народа. Вот почему число лиц, вступающих
в брак, ежегодно
будет мало изменяться, а если мы возь-
мем средний вывод за десятки лет, то это изменение
будет еще менее заметно, и чем длиннее будет период
наблюдения, тем вариации будут незаметнее, конечно,
относительно количества народонаселения…
«Но эта законность <не> простирается на каждый
отдельный случай, но только на большое число случаев,
и чем более это число, тем определеннее выражается
законность» (ib., S. 11).
Общий вывод Дробиша таков: «Постоянная правиль-
ность в известных
произвольных действиях основывается
не на законе, который предшествовал бы действиям и
190
необходимо требовал их выполнения; но наоборот,
вся законность, обнаруживаемая моральною статисти-
кою, есть продукт относительно постоянных отноше-
ний и взаимодействующих причин, при которых есть
еще множество других изменяющихся причин, не допу-
скающих никакого подведения под общее правило»
(ib., S. 19).
В числе этих причин я признаю и свободу человека.
Но свобода человека’высказывается не только в этом
тесном кругу более или менее
значительных ежегодных
вариаций, но в самом действии на причины постоянные;
так, например, в каком-нибудь улучшении, зависящем
от индивидуальной изобретательности и индивидуаль-
ной воли, — но которое имеет влияние на постоян-
ное изменение самих постоянных причин .Так что чело-
век может даже бороться не только с самим собою, но
даже с постоянными причинами — улучшать быт об-
щества, а через это содействовать уменьшению преступ-
лений, смертности и т. д. Моральная статистика,
говорит
Дробиш, берет среднего человека «и не должно забы-
вать, что этот средний человек есть только математиче-
ский абстракт, существо в действительности не суще-
ствующее» (ib., S. 36).
101. (I, 12—13). Исполнение и свобода воли
Дробиш и мое мнение
Прочтя книгу Дробиша (Die Moralische Statistik
und die Menschliche Willensfreiheit, Leipzig, 1867), я
остался при своем мнении, только оно выразилось
яснее.
Слово воля употребляется очень неправильно и это
вело,
как заметил еще Лейбниц, ко многим ложным по-
нятиям. Ее принимают как нечто отдельное от души,
тогда как это одно из свойств души. Это не более, как
хотение, желание или лучше, так как мы сложили же-
лание из двух элементов стремления и представления,
то воля будет первый из этих элементов, т. е. стремление.
Но зачем же тогда два названия для одного и. того же
191
душевного качества? И действительно, это ведет только
к путанице понятий. Итак мы отбрасываем это значение:
это хотение или нехотение (начинается всегда с нехоте-
ния, как заметил еще Локк, потом Кант; см. цитату
ниже). Настоящее значение слова воля, значение, для
которого необходимо название — есть власть души над
телесным организмом; такое свойство души или, лучше
сказать, такое свойство связи души и тела (непости-
жимой для нас), вследствие
которого перемены в душе
отражаются переменами в организме. Это свойство
соответствует другому свойству, по которому пере-
мены организма отражаются в душе ощущениями,
стремлениями и чувствами. Оба эти свойства суть только
две стороны одного и того же # — связи души и тела.
Воля или власть души над телом выражается в двоя-
кой форме — она есть или 1) бессознательная или 2) со-
знательная. Бессознательная есть примитивная.
Несмотря на все старания Бэна доказать, что власть
над
телом приобретается опытами, этого доказать не-
возможно; власть эта усиливается и разъясняется, опре-
деляется опытами, но — основание ее остается бес-
сознательным: не только испуг, радость и т. д. выра-
жаются непроизвольно и неизвестными нам путями—
бледностью или краской (см. об этом прекрасную статью
Клода Бернара «Сердце»); но и при сознательных дви-
жениях наших членов мы пользуемся этою бессозна-
тельною властью над нервами и мускулами, самое суще-
ствование которых
нам даже неизвестно.
Но замечательно то, что упражнением мы развиваем
эту бессознательную власть души над телом, и сознание
это овладевает ею, но как — и само не знает… Ясное
представление движения во всех подробностях вызывает
такое же отчетливое ясное выполнение. Должно быть
нервы, отражающие представления, являются здесь
посредствующим звеном. По мере того, как нервы, от-
ражающие представления, получают от повторения дей-
ствия способность воспроизводить представление
быстро,
точно; сильно, и двигательные нервы и мускулы вос-
производят его так же; но, должно быть, еще следует
192
применение мускулов, может быть, некоторое изменение
в них сообразно с направлением усилий.
2) Сознательная власть души над телом основы-
вается ясно на бессознательной: мы сознательно, по на-
шему желанию, движем рукою; но выполнение этого
движения принадлежит бессознательной власти.
Ясно, что при таком определении воли как власти
души над телом, можно говорить о больших или мень-
ших пределах этой власти, но не о свободе или несвободе:
это
понятия несоизмеримые, как цвет и величина.
Но если нельзя говорить о свободе или несвободе
воли, то можно говорить о свободе или несвободе души,
и притом о свободе абсолютной или ограниченной.
Абсолютная свобода предполагает всемогущество,
и следовательно, принадлежит только богу: человече-
ская же свобода ограничена пределами его сознания
и его воли.
Человек действует всегда по мотивам; по выбор
между данными уже мотивами принадлежит ему. Он
может выбрать слабейший или
сильнейший мотив, мо-
жет и вовсе отказаться от выбора.
Но спрашивается, по каким мотивам он делает этот
выбор, предпочитает один мотив другому? Не впадем
ли мы здесь в бесконечный ряд, на который указал
Лейбниц, и который побудил Гербарта, отвергнув сво-
боду, поставить на ее место самообладание!
Конечно — да; но это не заставит нас отвергнуть
свободу души, как не отвергаем мы притяжения между
планетами, хотя и попадаем в ложный круг действия
материи вне самой себя.
Как
закон притяжения есть факт физический, дей-
ствительность которого мы признаем, хотя не понимаем
его возможности, точно так же свобода души есть факт
психологический, действительность которого испыты-
вает на себе каждый человек, но возможность которого
объяснить не может.
Свобода души вытекает прямо из самосознания.
Если я не только имею и чувствую стремление, но и
сознаю, что его имею, то и могу остановить его, дать
193
ему ход или не дать; если я сознаю, что имею два стрем-
ления, то и могу дать ход любому из них. Положим,
я выберу то, которое сильнее; но сделавши выбор,
я чувствую, что мог выбрать и слабейшее; чувствую,
что сила мотива надо мной не абсолютна и в этом
только смысле считаю себя виновником своего действия.
Чувство свободы прежде всего относится к прошедшему,
но выбранному уже мотиву; но потом может руководить
меня и в будущем, в выборе
предстоящем. Это чувство
до того сильно и присуще каждому, что даже против-
ники человеческой свободы, руководясь им, постоянно
противоречат своей теории, говоря о вине человека, о его
обязанностях, употребляя беспрестанно слово должен,
которое при отрицании свободы души не имеет смысла.
Все стремление наше к улучшению* прогрессу, о кото-
ром материализм говорит более других, вытекает из
этого чувства свободы.
Чувство свободы не может быть вырвано из души
человека никакой
теорией необходимости, как в этом
сознаются сами защитники этой необходимости, напр.
Вундт. Но как свобода души ограничена не только пре-
делами воли, но и пределами сознания, т. е. теми моти-
вами действий, которые представляет сознание, то и
теория необходимости человеческих действий делается
одним из таких мотивов и мотивом вредным: она слу-
жит человеку извинением его поступков; и эта ложная
теория, как и всякая другая, может заглушить голос
его совести, обратить в привычное
извинение, ослабить
раскаяние, из которого, по словам того же Лейбница
и Гербарта; выходит улучшение человека. Но этого мало:
теория необходимости может ослабить энергию челове-
ческой деятельности, ибо по ней, чему нужно быть, то
непременно будет само собою, и в этом она неудержимо
граничит с фатализмом, имевшим такое парализующее
влияние на действия магометанских наций. В-третьих,
наконец, она подрывает основу вменяемости.
Что же делать, когда основы теоретической и прак-
тической
жизни нашей составляют факты, полное объяс-
нение которых лежит вне области нашего понимания?
194
Мы можем только констатировать факт, описать его,
определить (детерминировать), и потом делать из него
теоретические выводы и практические приложения —
вот и вся область нашей возможности.
Факт несоизмеримости нашего разума с присущим
нам чувством свободы ярко рисуется в следующем опы-
те. Мы выбрали какой-нибудь мотив и сознаем, что
выбрали его свободно. Для доказательства этой сво-
боды выбора мы можем отказаться от этого мотива и
выбрать
другой — слабейший, или совершенно удер-
жаться от выбора. Что же, доказали ли мы свободу
свою? Нет, говорят нам, ибо нами руководил мотив
доказательства. Хорошо; но выполнили ли мы этот
момент? доказали ли мы? Нам говорят — нет, ибо мы
хотели доказать, что действовали без мотива, а дей-
ствовали по мотиву. Но каков был этот мотив? — Таким
образом мы логически не можем доказать свободы;
но пусть защитники теории необходимости укажут нам
другой путь, другое средство, которым
мы могли бы
доказать свободу души. Этого средства они нам не
укажут и тем докажут, что свобода души не мыслима,
не ложится в формы мысли; но не ложится так же, как
и тот, столь же несомненный факт мира физического,
что материя действует вне самой себя.
102. (I, 14). Свобода воли
Ни одна глава так не плоха в «Логике» Милля, как
гл. Ю свободе и необходимости* (Mill’s Logic, Book
VI, Ch. И, p. 413). Нет, возможности разбирать ее,—
это почти один набор слов без определенного
смысла.
Он объявляет, что держится теории необходимости,
которую он определяет так: «Учение о необходимости
смотрит на человеческие хотения и действия, как на
необходимые и неизбежные».
Но он не признает в этой теории того, что действи-
тельно унижает человека(?).— Увертку он хочет найти
в каком-то непостижимом отношении причины и след-
ствия, выкидывая оттуда понятие, что следствие необ-
195
ходило выходит ив причины, и называет это воззрение
мистическим. Но не сам ли он нашел нужным ввести
слово необходимо в определение причины, когда хотел
показать, что «день не есть причина ночи», хотя и следует
за ночью. А теперь выходит этот термин (ib., § 3). Порази-
тельная нелепица! Ссылается на какие-то никому неве-
домые философские авторитеты, не признающие «мисти-
ческой связи между причиною и следствием» (ib., р. 415).
Но если
не мистическая, то есть же какая-нибудь; а если
это только следствие, то (есть) одно за другим следующее
действие, то почему день не причина ночи? — Дай одно
душевное явление вовсе не причина того только явления,
которое непосредственно ва ним следует.
Он хочет отделить учение необходимости от фата-
лизма (р. 417); но эта попытка ему решительно не
удается.
Он как-то хочет признать, что мы можем изменить
наш характер по нашему желанию; как будто это жела-
ние выходит откуда-то
со стороны, а не из того же
характера.
Эта глава свидетельствует о недобросовестности
Милля: в ней выразилось его желание, чтобы и волки
были сыты и овцы целы. Признать свободу воли зна-
чило бы опрокинуть свою теорию; отвергнуть ее—
значило подвергнуть последствия — <объекты> воли—
фатализму, скотству.— Вот почему он начинает эту
главу, объявляя себя громко на стороне необходимости,
а оканчивает сознанием, что «учение свободной воли,
удерживая с виду власть души участвовать
(co-operate)
в формации ее собственного характера (что выкидывается
словом необходимость), придает сторонникам этого
учения практическое чувство гораздо ближайшее к исти-
не, чем то, какое вообще (как я думаю) существует
в душах сторонников теории необходимости» (ib., р. 420),
Как ни темно это выражение, но оно достаточно
ясно, чтобы видеть, что Милль в затруднительном по-
ложении со своею теориею перед практическим чув-
ством англичанина.
196
103. (I, 15). Гипотеза души (к свободе воли)
Милль вооружается против олицетворений и вводит
в ряды своих логических ошибок, называя мистицизмом
(Веды, Платон, Гегель) всякое «приписыванье объек-
тивного существования субъективным созданиям на-
ших собственных способностей, идеям или чувствова-
ниям души» (Mil. Log., В. V, Ch. Ill, p. 318).— Но не
он ли сам употребляет следующие слова: душа, природа,
материя, пространство и т. д…. я,
ты, люди и т. д.,
а это все олицетворение наших чувств — объективиро-
вание того, что мы чувствуем субъективно.
104. (I, 2). Свобода. Лейбниц. (Дробиш)
Гербартианцы, миновав Канта, возвращаются охотно
к Лейбницу. Но Лейбниц был известен Канту, и если
он не остановился на нем, то потому, что не мог удо-
вольствоваться фальшивым примирением Лейбница,
а по своей более добросовестной натуре хотел выйти на
прямую дорогу. В самом деле, что выражается в этих
словах Лейбница?
«Мотивы
не действуют на дух, как тяжесть на весы;
но скорее дух действует вследствие мотивов (en vertu
de motifs), которые и есть его расположение к действию»
(Moralische Stat., von Drobisch, S. 76, Leibnitz, Op.
philos., Ed. Erdmann, p. 764).
Но что же выражается в этих словах? Если на весах
решимости духа лежат только мотивы, то, конечно,
и весы наклонятся в ту сторону, .где мотивы тяжелев
или сильнее; —следовательно, решимость выйдет из
физической борьбы мотивов, а не из духа,
и если эти
мотивы даже вложены в дух, то борьбу решит тот, кто
их вложил; а опять же не дух — пустые весы. Правда,
Лейбниц часто повторяет: «les motifs inclinent sans
nécessiter» —но ведь это фраза, не имеющая реального
значения: наклонение, как бы оно мало ни было, необ-
ходимо, если ничто ему не сопротивляется; но если же
ему сопротивляется только другой мотив, то и решает
их относительная вескость.
197
Не гораздо ли лучше бы сказать с Кантом — не
понимаю; даже не закутываясь в его довольно курчавые
фразы, прямо сказать: факт свободы есть, на нем
строится вся нравственная деятельность человека,
совесть, вменяемость как хороших, так и дурных по-
ступков, воспитание, все стремления цивилизации;
но этот основной факт несоизмерим с теми орудиями,
которыми обладает разум для объяснения фактов,
а еще проще — непостижим; так что мы можем изучить
только
его проявления, не будучи в состоянии изъяснить
его самого, или примирить его с законом причинности,
в который верит наш разум, чувствуя его необходимость,
но также не понимая его.
«Нравственная свобода, говорит верный Гербарту
Дробиш, не есть совершившийся факт, но идея, к осу-
ществлению которой призваны не только отдельные
люди, но и все человеческое общество» (ib., S. 84).
Зачем же призывать, когда оно и само собою будет
по законам необходимости.
Если бы не было в
душе прирожденной свободы, то
нельзя было бы и осуществить ее.
«Нравственность каждого есть продукт его внешней
и внутренней жизненной истории; но к последней при-
надлежит также и его собственная воля» (ib., S. 91).
Но что же такое воля по Гербарту?— это определен-
ное желание; вот почему, по его теории, в человеке не
одна, а много воль, всякая же из них есть необходимый
продукт душевной истории. Следовательно, история
души есть продукт воли, а воля продукт душевной
истории.
Вот странный круг, из которого не выйдут
ни гербартианцы, и никакие другие философские теории,
которые, отвергая свободу души, хотят в то же время
оправдать вменяемость, а следовательно, и всю нрав-
ственность.
105. (I, 3). Рассудок. Причина. Врожденность идеи
причины. Свобода воли
Милль оспаривает врожденность идеи причины, или
веру в причину, говоря, что она приобретается не всеми,
198
да и то поздно (Logic Mill’s, p. 11, Ch. XXI). Это все
равно, что доказывать, что не все тела падают на землю,
так как некоторые лежат на столе: если не все люди
занимаются отыскиванием причины вещей, то и не все
додумываются до необходимости ее. Примите стол, и
вещь, лежащая на нем, упадет на землю, а не полетит
кверху; заставьте человека мыслить, и он станет отыски-
вать всюду причины, а где не найдет их, будет сочинять;
а если станет
философствовать, т. е. думать не о кон-
кретных причинах, а о самой причине, то придет к за-
ключению, что не может быть явления без причины,
откажется верить в беспричинные явления и дойдет до
того же, до чего дошел Милль; а именно до утверждения,
что вся опытная, т. е. «действительная индуктивная
метода (т. е. единственная метода действительного про-
гресса наших знаний) зависит от принятия, что всякое
событие или начало всякого явления (отчего же начало
только?) должно
иметь какую-нибудь причину, что—
нибудь предшествующее, следствием существования ко-
торого оно является» (ib., § 1, р. 94).
Милль хочет, например, доказать, что мы можем
себе представить явление без причины.
«Если бы мы предположили (что очень легко вооб-
разить), что настоящий порядок мира пришел к концу
и что за ним последовал хаос, в котором не было опре-
деленного (fixed) последствия событий и прошедшее не
условливало будущего, и если бы каким-нибудь чудом
человек
остался жить при этой перемене, то наверное
он скоро перестал бы верить в однообразие (законность—
uniformity), так как самое единство причины исчезло бы.
Допустив же это, мы должны допустить, что вера в при-
чинность (uniformity) или не инстинкт (и сам против
этого, Th. 1, р. 414), или такой инстинкт, который может
быть побеждаем приобретением знаний подобно прочим
инстинктам» (ib., р. 98).
Предоставляю читателю судить, можно ли себе
представить такой хаос… Мы же положительно
не
можем представить такого состояния вещей, где бы на-
стоящее не было последствием прошлого.
199
Далее Милль говорит, что все «греческие философы,
не исключая и Аристотеля, признавали случай и само-
стоятельное начало явлений (Spontaneity) в числе дру-
гих агентов природы. Даже теперь целая половина
философского мира, включая туда тех самых метафи-
зиков, которые наиболее отстаивают инстинктивный
характер веры в непрерывную причинность, видят в
очень важном классе явлений, а именно в явлениях
воли, исключение из закона причинности,
так как эти
явления не управляются определенными законами»
(ib., р. 98).
Но что же это значит? Ничего иного, как то, что мы
открываем в самих себе — два врожденных убеждения,
противоречащие друг другу и которые так или иначе
примиряются только в области представлений, создан-
ной верою.
— Вот факт, и все тут!
Признает же Милль в другом месте врожденность
веры в существование вещей внешнего мира, которые
мы ощущаем (ib., р. 58); точно в таком же отношении
и вера
в причинность. Мне не нужно доказывать, что
вещь, которую я вижу, существует; но мне необходимы
доказательства, чтобы убедиться в том, что она не
существует, хотя я ее и вижу.
Совершенно верно, что идея причинности взята
из опыта, да еще из внутреннего опыта человека (как
доказывал Гершель); но в опытах этих мы руководились
инстинктивною верою в причинность. Одни опыты пред-
ставляют явления, причины которых мы [не внаем;
других причины мы не знали, но узнали; в причине
третьих
мы ошибались; причина четвертых казалась
нам известной, а потом оказалась неизвестной и для нас
не существующей.
Из таких опытов с одинаковой логикой мы могли
вывести и еще с большей, что не все явления имеют свою
причину, а мы вывели совершенно противоположное.
Вот эта-то противоположность вывода опыту и пока-
зывает субъективность веры в причинность.
200
Милль ссылается в этом месте на Повеля (Powell),
который говорит, что «идея причинности достигается
только глубоким изучением и что самые сведущие из
философов наиболее в нее верят» (ib., р. 99)…
А между тем, если бы это была идея из опытов, то
чем ученее становился бы человек, и чем глубже он бы
думал, тем менее должен был он в нее верить; ибо тем
более представлялось бы ему явлений, причины кото-
рых он не знает (то же самое Милль повторяет
В. III,
Chap. III).
Вот это-то и определяет врожденность идеи при-
чины, субъективность ее: опыт по своему направлению
должен бы привести нас к точке А; а мы приходим
к точке В, — и вот что дает нам право заключать, что
кроме опыта рассуждение наше руководилось чем-то
другим, и это другое называется врожденной идеей.
Если вы видите, что тело, движимое силой А по прямо-
му направлению к точке х, попадает не в нее, а в точку
у, лежащую в стороне, то вы вправе заключить,
что кроме
силы А на тело действует другая, неизвестная сила
и по уклонению точки у от точки х можете рассчитать и
степень этой силы и ее направление, чего она хочет, хотя
ее самой вы не знаете.
Милль так определяет причину:
«За данными фактами всегда следуют другие данные
факты (I, 447) и, как мы верим, всегда будут следовать.
Всегда одинаково предшествующее называется причи-
ной, а всегда одинаково следующее — следствием»
(ib., Book III, Ch. V, p. 364).
Потом, сравнив
причину с условиями явления, он так
определяет причину:
«Причина, говоря философски, есть итог условий,
положительных и отрицательных, вместе взятых, по
осуществлении которых последствие следует неизменно»
(ib., р. 370).
Тут он наталкивается на возражение Рида о дне и
ночи (р. 375—379), которое он опровергает очень неудач-
но, хотя опровергнуть легко, и вводит в определение
причины — необходимо следует, безусловно. Из чего
201
видно, что в самое определение причины мы должны
ввести веру в причину: за ночью следует день, но день
еще не причина ночи; а мы должны быть убеждены, что
день есть условие появления ночи, что без него ночи не
будет; а мы видим,что день зависит от солнца, а не от
ночи.
Бэн, напротив, говорит, что одни опыты человека
помогли дойти до убеждения, что «все, что существует,
не только имеет, но должно иметь начало,— убеждению,
образующемуся
прежде подробного изучения мира.
Никакое собрание опытов не может привести к этому
убеждению или оправдать его и начало его есть, следо-
вательно, в врожденной вере или инстинкте» (The
Will, p. 584—5). Странно, что Милль ссылается на
эту главу книги Бэна, которую он называет великим
явлением, но затем не замечает, что она прямо противо-
речит его идеям? Читал ли он ее?]
106. (I, 8). Свобода воли
Ясно, что у Гербарта свободы воли нет; нет ее и у Бе-
неке, тем более у Бэна;
нет у Спинозы, нет у Гегеля;
нет у Бокля, нет в лютеранстве — но есть она в душе.
Вот как выводит Гербарт волю.
«Часто случается (из случая возникает убеждение
человечества в своей свободе!), что когда уже из окон-
ченного процесса убеждения готово выйти решение,—
подымается какое-нибудь желание и восстает против
этого решения. Тогда человек не знает, чего он хочет,
и смотрит на себя, как на стоящего посреди двух сил,
увлекающих его в противоположные стороны. При таком
взгляде
на самого себя, человек противопоставляет себе
и разум и страсть, как будто бы это были его советники,
самого же себя представляет третьим, что он прислу-
шивается к ним и потом решает. Он находит себя свобод-
ным решить, как он хочет» (Herb., Erst. T., S. 83,
§ 118).
«Он чувствует себя довольно разумным, чтобы по-
нять, что советует ему разум, и довольно впечатлитель-
ным, чтобы почувствовать увлечение страсти. Если бы
202
этого не было, то свобода его не имела бы никакого до-
стоинства; тогда бы он слепо склонялся в ту или другую
сторону, а не мог бы выбирать» (ib.). «Но и разум, к ко-
торому он прислушивается, и страсть, которая его увле-
кает, не вне его, R в нем; и сам он не третье лицо между
обоими, но в обоих действует его собственная духовная
жизнь. Если же он, наконец, выбирает, то этот выбор
не что иное, как взаимодействие того же разума и той
же
страсти, между которыми он думал стоять свободно».
«Когда же человек находит, что решили разум и
страсть в их взаимодействии, то он кажется самому себе
несвободным, подчиненным чужим силам».
«Ясно,что это тоже обман, проистекающий из того
же самого источника, как и первый (т. е. что он сво-
боден?). Именно потому, что разум- и страсть вне его
не существуют, и он не существует вне их, то и решение,
которое из них выходит, не есть чуждое ему решениеt
aero собственное. Он выбрал
самостоятельно, нос ка-
кою-нибудь силою, которая отличалась бы от его разума
и его страсти, и которая могла бы дать, кроме тех двух
результатов, еще какой-нибудь другой» (почему же ре-
шение может состоять в том, чтобы не подчиняться ни
разуму, ни воле, а предоставить все дело случаю или
вовсе от него отказаться, что часто и бывает?).
(Это надобно дополнить из гербартовского «Введе-
ние в философию», Einleitung in die Philosophie, § 107,
а в 4-м изд. § 128).
Все это очень
логично; но не логично только то, что
при таком взгляде на человека Гербарт оставляет ему
обман видимости свободы и удерживает вменение чело-
веку его поступков.— При взгляде Гербарта на образо-
вание разума и страсти — всякое решение человека есть
не что иное, как математическая форма борьбы сил раз-
личных представлений — и не только воля, но и сама
личность человека (что впрочем одно и то же) совершен-
но уничтожается. Конечно, человеческое действие выхо-
дит из свойств
его представлений, но и действие живот-
ного также; тогда вменяемость надобно распространить
и на животных. Мало этого, — ее надобно распростра-
203
нить и на вещи и наказывать море, утопившее корабль,
так как и это явление вышло из свойства моря и ветра.
В смысле действования по своим собственным свойствам
всякая вещь свободна.
Видеть же в наказании человека — просто удаление
ела, значит видеть в человеке средство, а не цель — что
противно нашему христианскому воззрению, основе
европейского либерализма.
«Трансцендентальная свобода, продолжает Гербарт,
которую Кант хотел принять,
как необходимый член
веры (Glauben’s Artikel) ради категорического импера-
тива — совершенно чужда психологии» (ib., § 118,
Anmerkung 1).
To-есть чужда психологической теории Гербарта, а не
душе, в которой это чувство живо. Оно не укладывается
в психологическую теорию, мы не умеем его объяснить;
но это еще не значит, чтобы его можно было выкинуть.—
Лед плавал, несмотря на то, что не понимали, как он
плавал, когда по теории должен был тонуть. Человек
считает себя свободным,
хотя по теории у него не должно
бы быть ни свободы, ни этого ложного чувства.
Из этого круга не выйдет и Гегель, называющий
разумное действие свободным, потому что разумное дей-
ствие есть сущность духа: тогда и действие всякой вещи
свободно, ибо всякая действует по своей сущности.
Что же такое свобода? Чувство, присущее душе че-
ловека. Решившись на что-нибудь, человек чувствует,
что он мог решиться иначе и потому только подчиняется
ответственности перед собою, прежде чем
отвечать перед
другими. Человек решается по мотивам, но решившись,
чувствует, что он предпочитает одни мотивы другим и
<может> взять не те, которые взял. Этого чувства не
вырвет у человека никакая теория. Оно непонятно как
создание из ничего, как бесконечность и конечность
и т. д… Непонятно, а существует… Но мало ли что
непонятное для нас существует?!
Не та психология опытная, которая подводит факты
под теорию, а та, которая изучает факты, несмотря на
то, может ли
их объяснить или нет. Таково должно быть
204
и отношение опытной психологии к свободе воли. Чело-
век не понимает этого царя, потому что сам этот царь.
И как бы он мог объяснить его: всякое объяснение было
бы внесение определенного содержания, было бы уни-
чтожение воли. Точно так же невозможно определить
бесконечность; определить значит дать ей пределы,
значит уничтожить. А может ли человек понять ко-
нечность, за пределами которой ничего бы не было?
Нет; а должно же быть во всем
что-нибудь одно: или
бесконечность или конечность; тоже и свобода: человек
пользуется ею как бесконечностью, и понять ее значило
бы ее ограничить.— Это факт!
Жаль, что Гербарт, толкуя свободу воли, забыл соб-
ственное свое выражение: «Es ist noch zu früh alles in
der Psychologie zu erklären» (ib., § 167, S. 117).
Из черновых рукописей К. Д. Ушинского
205
II. КОНКРЕТНЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
ВЫСШЕГО ПОРЯДКА
1. ИДЕИ КАК ФОРМЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО
ПРИБЛИЖЕНИЯ К ИСТИНЕ
а) Идеи и рассудочные понятия
107. К организму. Идея в нем. Что такое жизнь?
(К Спенсеру)
«Части, составляющие организм, физиологически
неотделимы одни от других и все содействуют общему
жизненному результату» (К. Бернар, стр. 115).
У нас так теперь вооружены против идеи, что не
мешает привести слова К. Бернара, кажется,
уже из-
вестного своей опытностью:
«Жизнь есть творение,— говорит К. Бернар,— орга-
низм — машина, необходимо совершающая свои от-
правления в силу физико-химических свойств составля-
ющих ее элементов. Мы различаем в настоящее время
три порядка свойств, обнаруживаемых в явлениях
живых существ: свойства физические, химические и жиз-
ненные. Это последнее название свойств жизненных су-
ществует только пока; ибо мы называем жизненными те
органические свойства, которые мы
не могли еще свести
на физико-химические соображения; но нет сомнения,
что мы этого когда-нибудь достигнем (что за пророче-
ство? нет, не перескочивши, не говори — гоп!). Так
что живая машина характеризуется не природой своих
физико-химических свойств, как бы сложны они ни
были, а скорее творчеством (?) этой машины, которая
развивается перед нашими глазами в условиях ей свой-
ственных и по определенной идее, выражающей природу
живого существа и самую сущность жизни».
«Когда
цыпленок развивается в яйце, то вовсе не
образование животного тела, рассматриваемое как
206
группировка химических элементов, существенно ха-
рактеризует жизненную силу. Это группирование со-
вершается только вследствие законов, которые управ-
ляют физико-химическими свойствами материи; но
что существенно принадлежит жизни, и что не принад-
лежит ни химии, ни физике, ничему другому, это
идея, управляющая этим жизненным развитием. Во
всяком живом зародыше есть творящая идея (11),
которая развивается и обнаруживается в организации.
В
продолжение всего своего существования живое суще-
ство остается под влиянием этой самой творящей жиз-
ненной силы и смерть наступает; когда она не может
более реализироваться. Здесь, как повсюду, все исхо-
дит от идеи, которая одна только творит и управляет;
физико-химические средства обнаружения общи всем
явлениям природы и остаются смешанными, как попа-
ло, как азбучные буквы в ящике, где некоторая сила(?)
отыскивает их (по этому поводу припомнить выраже-
ние Руссо, что
поэма Гомера не выйдет, как ни перебра-
сывай типографские буквы), чтобы выразить самые раз-
нообразные мысли или механизмы» (ib., стр. 120—121).
Вот до чего договорился передовой представитель
физиологических опытов нового времени и опять на
сцену вышла и идея и жизненная сила, которую он сам
в других местах так упорно и так удачно отвергает.
Видно, из этого круга не выбиться умному человеку,—
только для дураков закон не писан.
Далее: «эта же самая жизненная сила и сохраняет
существо,
восстановляя живые части, дезорганизован-
ные деятельностью или разрушаемые случайностями и
болезнями» (ib.).
Все это место следует привести в первой лекции —
внизу или в тексте.
Вот слова Руссо, сюда относящиеся: «Si l’on venait
me dire, que des caractères d’imprimerie progetés au
hasard ont donné l’Enéide tpute arrangée, je ne dai-
gnerais pas faire un pas pour aller vérifier le mensonge»
(Em., L. IV, p. 307).
(Ф. 316, папки M 25, 26, 28, 29, 31).
207
108. Сознание (кар.) К идеализму (Рида). К си-
стеме Гербарта тоже
(Кар.) Прежде всего надобно удалить мысль,
что сознание естъ идея; скорее материя,
чем идея. Нет, это нечто действительно
существующее, а не понятие о существующем.
«Идеи, говорит Рид, вошли в философию с скромным
характером образа или представителя вещей»; но потом
они разрушили существование того, что должны были
представлять, и посредством идей найдено было, что «теп-
ло
и холод, звук, цвет, вкус, запах суть только идеи
или впечатления. Епископ Берклей дал идеям еще шаг
далее и на основании того же признака нашел, что
притяжение, плотность, пространство, фигура и тело
суть идеи и что ничего нет в природе, кроме идей и ду-
хов. Но торжество идей было увенчано в «Трактате
о человеческой природе» (Юма), который удалил уже
и духов и оставил идеи и впечатления, как единствен-
ные существования в мире» (Read, I, р. 109).
Рид смеется над этим: «мы
всегда/воображали, говорит
он, что мысль предполагает мыслителя; любовь любя-
щего; измена изменника; но теперь видим, что это за-
блуждение, что может быть измена без изменника,
любовь без любящего, закон без законодателя, наказа-
ние без наказываемого, последовательность без времени
и движение без того, что движется, и без пространства,
в котором совершается движение; а если в этих случаях
любящий, страдающий, изменник суть идеи, то жела-
тельно бы, чтобы творец этого открытия
сказал нам,
могут ли идеи говорить одна с другою, быть обязанной
одна другой, делать обещания и быть наказываемыми»
(ib., р. 109).
Мое. Это напоминает Аристотеля, см. ib., III,
Cap. 3, S. 74.
(Ф. 316, папки № 25, 26, 28, 29, 31).
208
109. Слово и идея — дары духа
…Только в слове и идее понятие совершенно отвле-
кается от частных признаков тех представлений, из
которых оно выделилось, приобретает произвольный
признак, созданный духом, получает печать духа и
делается полной его собственностью. Каждое слово для
нас есть то же, что номер книги в библиотеке; под этим
номером скрывается целое творение, стоившее нам про-
должительного труда в свое время. Библиотекарь, зна-
ющий
только номера и заглавия библиотеки, знает не
много; но и человек, прочитавший все книги огромной
библиотеки, но не знающий номеров и заглавий, беспо-
лезно потерялся бы в ней. Слова, значение которых мы
понимаем, делают нас обладателями громадной библи-
отеки нашей памяти: это произвольные значки, которые
мы наложили на бесчисленные творения, нами же выра-
ботанные. Но мы имеем способность не только наложить
эти значки в нашей памяти, но и сохранять, как бы
в геометрической
точке духа, самое содержание творе-
ний, хранящихся в библиотеке нашей памяти и записан-
ных под тем или другим номером: эта геометрическая
точка (конечно, это лишь сравнение, и довольно грубое)
называется идеей. В идеях мы сохраняем содержание
библиотеки нашей памяти; в словах сохраняется каталог
этой библиотеки. И только это участие духа в процессе
мышления посредством моем и слова дает нам возможность
бесконечно умножать богатство нашего рассудка и сво-
бодно располагать
этими богатствами, а эта возможность
поставила наш рассудок так недосягаемо высоко над
рассудком животных, не обладающих ни словом, ни
идеей. Мы имеем все данные предполагать, что в душе
животных процесс мышления или рассудочный процесс
и процесс воображения совершаются именно в таком
хаотическом движении, в каком совершались бы в нас,
если бы мы не обладали двумя могучими средствами,
завершающими процесс образования понятий, т. е.
словом и идеей…
Но так как дар слова
и дар идеи (означим их покуда
хотя под этим именем) идут из другого источника, а
209
именно — духа человеческого, из тех особенностей, кото-
рыми человек отличается от всего существующего
(а мы покудова говорим здесь только о животной душе,
о тех способностях и душевных процессах, которые общи
душе человека и душе животного), то и не будем, сколько
возможно, вдаваться преждевременно в те чисто челове-
ческие особенности, которые в душе человека вносят
сильнейшее изменение в весь рассудочный процесс,
общий в своих основах
и человеку и животному.
Многие философы и психологи отличали человека
и животных именно тем, что человек может образовы-
вать понятия, а животное нет — и это мнение справедли-
во, если к процессу образования понятий присоединяют
слово и идею, как завершение этого процесса в человеке.
Но если брать этот процесс в его отдельности, то нельзя
сомневаться, что он совершается и у животных… Только
слово и идея — эти дары духа развили рассудок чело-
века до такой степени, на которой
он кажется с первого
взгляда не имеющим ничего общего с рассудком живот-
ного (т. VIII, стр. 456, 459, 464).
110. Конкретное и отвлеченное, материал и идея
Ход ученья от конкретного к отвлеченному, от пред-
ставления к мысли так естествен и основывается на таких
ясных психических законах, что отвергать его необхо-
димость может только тот, кто вообще отвергает необ-
ходимость сообразоваться в обучении с требованием
человеческой природы вообще и детской в особенности.
Весь
наш мыслительный процесс, руководимый внут-
ренней врожденной ему силой идеи, состоит только из
тех элементов, которые были восприняты нами из внеш-
него мира. Идея принадлежит нашему духу; но мате-
риала для работ и для выражения этой идеи нет дру-
гого кроме того, что дает внешний, видимый, ощущае-
мый мир. Весь наш язык проникнут этими влияниями
внешнего материального мира.
Непосредственно воспринятые нами из внешнего
мира образы являются, следовательно, единственными
210
материалами, над которыми и посредством которых ра-
ботает наша мыслительная способность, хотя идея ра-
боты принадлежит нам.
Занимаясь наукой, мы привыкаем мало-помалу от-
влекаться от употребляемых нами материалов, не будучи
в состоянии никогда и ни в одном слове оторваться от
них совершенно. Но дитя, если можно так выразиться,
мыслит формами, красками, звуками, ощущениями вооб-
ще и тот напрасно и вредно насиловал бы детскую при-
роду,
кто’ захотел бы заставить ее мыслить иначе
(т. VI, стр. 266).
111… Педагог не должен забывать, что дух наш
питается идеями, тело — материальной пищей, а душа
и все ее способности — деятельностью (т. VI, стр. 303).
112… Сама логика есть не что иное, как отражение
в нашем уме связи предметов и явлений природы. Что
такое идеи особи, вида, рода, признака, качества, пред-
мета, явления, отношения, условия, причины, следствия,
обстоятельства,— что такое все эти логические кате-
гории,
как не результаты наблюдений человека над
явлениями внешней природы и явлениями его собствен-
ной души, которые вызываются опять же явлениями
внешнего для души мира? Каждое название предмета,
его действия и его качества есть следствие наблюдений,
и что есть в речи логического, то проистекает из наблю-
дений человека над природой и самим собой (т. VII,
стр. 247).
113. Иногда ряд самых незамечательных мыслей
пробегает в вашей голове, едва затрагивая ваше вни-
мание, которое
горит тускло, как лампада, готовая по-
тухнуть. Но вдруг одна из мыслей по той или другой
причине (по какой именно, мы не будем еще разбирать),
точно плеснет масла в эту лампаду. Ваше внимание
вспыхнет и осветит прежде4 всего тот образ, который
его пробудил: так и действительно вспыхивающая
лампада освещает прежде всего руку, подливающую
211
в нее масла. Вас иногда до того поражает мысль, со-
вершенно без вашей воли забравшаяся к вам в голову,
что вы с изумлением спрашиваете самого себя: как она
туда попала? Вспоминаете, и иногда, отправляясь об-
ратным ходом, вытаскиваете из тьмы бессознательности
мысли за мыслями, как вытаскивают люди, по преданию,
ив темного колодца вереницу замерзнувших ласточек
(т. II, стр. 414).
114. Значение идеи в рассудочном процессе
Изложив ход
образования понятия, мы уже можем
точнее определить тот смысл слова идея, который мы
придали ему в главе о памяти. Понятие есть та же
идея, но только еще в процессе своего образования
в связи с теми представлениями, из которых оно отла-
гается, ив связи с тем словом, в которое оно облекается.
Уже Гербарт заметил необходимость отделить понятие
как логическую форму от понятия как психического явле-
ния; но еще необходимее отличить понятие как след
душевного акта, сохраняемого
душою, от понятия как
более или менее окончательного результата психо-
физической деятельности, и вот почему мы удерживали
два слова — понятие и идея.
Хотя идеи извлекаются нами из сознательных процес-
сов, из опытов и наблюдений, но существуют вне созна-
ния, так что мы узнаем о них только по их действиям
в сознательных процессах. Они, по удачному выраже-
нию Лейбница, «обнаруживаются в действиях сознания,
но сами остаются вне его». Мы так привыкли с необычай-
ною быстротою
выражать душу нашу в словах, что
нелегко примиряемся с мыслью существования в нас
идей вне формы слова и образных представлений. Одна-
коже, стоит только подумать о том, что руководит в нас
самым подбором слов и образов, и мы почувствуем пол-
ную необходимость признать существование в нас идей
вне формы слова и чувственных образов. То, что подби-
рает слова и образы для своего выражения, не может быть
212
само словом и образом. Нельзя думать словами о сло-
вах, как совершенно справедливо замечает Милль;
а еще менее можно думать чувственными образами о чув-
ственных образах.
Но если идеи существуют вне области сознания и
только обнаруживаются в своем влиянии на процесс
сознания, то, конечно, мы не можем узнать, в какой
форме они существуют вне этих влияний, точно так же,
как не можем знать, что такое тело внешнего мира вне
отношений его
к другим телам. Здесь мы встречаемся
с самым темным вопросом в психологии, которому, ве-
роятно, надолго еще, если не навсегда, придется оста-
ваться вопросом. Признав бессознательное существо-
вание идей в душе, мы должны признать возможность
бессознательного существования самой души. Декарт,
сообразно своей метафизической системе, признавал
душу всегда мыслящею (ens cogitans); но ясно, что это
такая гипотеза, которой нельзя доказать и которую по-
тому напрасно строить. Мыслим
ли мы в состоянии обмо-
рока или глубокого сна без сновидений, и потом только
не можем вспомнить, что мы мыслили, или во время
этого состояния процесс сознания в нас прерывается—
этого мы не можем поверить опытами, потому что опыты
возможны только в сфере сознания; но скорее мы дол-
жны думать, что не мыслим. Гербартианцы признают
жизнь и борьбу представлений вне области сознания;
Вундт допускает даже возможность бессознательных
опытов суждений и умозаключений*;,но мы полагаем,
что
такое допущение бессознательной психической или
психо-физической жизни открывает широко двери в
совершенно темную область догадок, из которой мы
можем выводить всевозможные объяснения всех пси-
хологических явлений, объяснения, ни на чем не осно-
ванные, кроме произвола писателя, хотя мы должны
допустить существование и вне сознания того, что
сознает.
* См. об этом также у Лотце. Microkosmos, Erst. В., S. 219
u. 220.
213
Для избежания такого произвола и опираясь только
на фактах, мы должны в одно и то же время признавать
возможность существования души вне сознания и воз-
можность узнать ее свойства лишь настолько, насколько
они проявляются в сознании. Сознание есть свойство
души, которое не может принадлежать ничему матери-
альному, но которое начинает проявляться только при
воздействии на душу внешнего для нее мира. Сознание
есть только различение ощущения,
а где нечего разли-
чать, там нет и сознания. Сознание есть акт психо-
физический, не принадлежащий отдельно ни материи,
ни душе, но вызываемый в душе впечатлениями внеш-
него мира на нервный организм. В этом психо-физиче-
ском акте выражаются свойства обоих агентов: материи
и души, и насколько они в нем выражаются, настолько
они нам и доступны. Только сквозь призму психо-
физического акта сознания мы можем в этом мире за-
глядывать и в материю, и в душу. Что такое материя
и
душа сами в себе,— мы не знаем; но всегда возможно, во
всяком акте сознания, разделить влияние двух аген-
тов, из которых один мы называем материею, а другой
душою, и при этом только условии возможно для нас
ясное понимание наших психо-физических актов.
Мы не знаем, как существуют идеи в душе, но можем
проследить, как они, формируясь из наблюдений и опы-
тов, воспринимаются душою и как потом действуют из
недоступной сознанию области души на образование
в нас других идей,
а равно на наши стремления и по-
ступки. Однако уже для того, чтобы подбирать понятия,
слова и представления для выражения той или другой
идеи, душа должна сознавать эту идею; а сознавать что—
нибудь можно только в форме понятий, слов и представ-
лений. Сделать такой вопрос значит опять же допра-
шиваться, в какой форме существует бесформенная идея.
Но сколько мы ни стучим в эту дверь, она не отпирается
нашему сознанию, хотя из-за нее выходят распоряжения
его деятельностью.
Кто же и когда отопрет эту таин-
ственную дверь? Можно только подсмотреть, одно, что
те определенные требования души, по которым происхо-
214
дит подбор наших понятий, слов и представлений, обна-
руживаются в сознании прежде всего, в форме внутрен-
него чувства, в форме недовольства, если подбираемое
представление, слово или понятие не соответствуют
идее, для выражения которой они подбираются. Может
быть, и всегда, и во всем первое обнаруживание души
совершается в этой форме, которую мы называем
душевным чувством, которую мы ясно отличаем в себе
от деятельности пяти внешних чувств
и которой мы
надеемся посвятить особый отдел в следующем томе.
Без средства удерживать в душе идеи, выработанные
в рассудочном процессе, мы никогда не могли бы распо-
ряжаться этим актом, и он совершался бы в нас совер-
шенно пассивно, как совершается в животных, сколько
можно судить по проявлениям его в их деятельности.
Если бы душа наша не усваивала идей, может быть, ви-
доизменяя и развивая ими свои прирожденные требо-
вания, то весь ее рассудочный процесс условливался
бы
единственно явлениями внешнего для нее мира, причем
последовательное развитие души было бы невозможно
(т. VIII, стр. 629—631).
115. Идеи и формы их выражения
…Кому из людей, особенно из людей, живущих в
мире мыслей, не случалось долго мучиться именно тем,
что они не находили слов для выражения трепещу-
щейся в них мысли? Мы думаем, что между нашими
читателями найдется хоть несколько таких, которые
испытали всю тяжесть родов иных мыслей. Правда,
великий авторитет
в деле рождения мыслей, Гёте,
сказал: «была бы только мысль, а форма вырастет за
одну ночь»; но все же нужна целая ночь, чтобы выросла
форма. Нам кажется, что великий писатель говорит
здесь о самой внешней форме мысли. Каждая глубо-
кая и удачно выраженная мысль поэта имеет несколь-
ко форм, несколько оболочек, вложенных одна в дру-
гую: внешняя звучащая форма стиха, за ней следует
удачный подбор слов, далее идет тот оборот мысли,
215
который придал ей поэт, и наконец уже, иногда еще
после нескольких оболочек, сама нагая мысль, не оде-
тая даже в слово. Поэтическая мысль всегда сильно
принаряжена, и гений поэта именно в том и состоит,
чтобы прибрать такой костюм, который был бы к лицу
красавице и не скрывал, а выдавал бы наружу ее чарую-
щие формы, выдавал так, чтобы она во всей своей кра-
соте разом отразилась не только в нашем уме, но даже
в нашем нервном организме,
и чтобы мы не только
понимали ее умом, но видели, слышали, осязали.
Часто слышим мы выражение — «поэтическая мысль»;
но вдумавшись глубже, мы найдем, что нет ни поэти-
ческих, ни непоэтических мыслей, а есть только поэти-
ческие оболочки, поэтические формы: но поэтическая
форма часто до того сродняется с мыслью, что делается
уже не одеждой ее, а телом, и мы, ослепленные цель-
ностью создания художника, часто принимаем форму
за самую мысль или мысль за форму. Но если бы мы
не
знали мысли без одежды, то не могли бы и знать,
что ей к лицу и что нет, не могли бы замечать, что
иногда форма не соответствует мысли.
Художник иногда бесчисленное число раз набра-
сывает на бумагу эскиз и всякий раз видит, что это не
то, что ему хочется выразить. Если бы мысль худож-
ника имела уже в голове его форму, очертание и краски,
то его опытной руке не стоило бы большого труда
переложить их на бумагу. Часто, только что начиная
новый эскиз, художник сознает уже, что
не выразит
своей мысли и, если продолжает работу, то только для
того, чтобы закрепить свое ошибочное представление,
и видя все, в чем оно неудовлетворительно, не возвра-
щается к нему снова.
Но если бы художник не знал того, для’чего он еще
приискивает форму, то такое явление в его деятель-
ности было бы невозможно.
Но вот маленький опыт, более общий для всякого
думающего существа. Кому не случалось в разговоре
или при письме очень долго и безуспешно приискивать
выражение
для чего-то, не одетого в слово? Слова так
216
и подвертываются вам под перо или на язык, вы даже
пытаетесь написать некоторые из них,— но немедленно
же вычеркиваете. Услужливая память подсказывает
вам другие, сыплет слова и фразы; но вы отрицательно
качаете головой и говорите с досадой: «нет, не то, не
то… а, вот оно, наконец!» — восклицаете вы с радостью.
Но постойте, почему же вы знаете, что это оно? почему
вы убедились, что эта одежда прийдется по вашей
мысли? не потому ли именно,
что вы знаете ее без одеж-
ды? Какое-то неуловимое существо постоянно носилось
в вашей голове, перебирая и откладывая прочь раз-
личные костюмы, предлагаемые ему памятью, до тех
пор, пока, наконец, вы не остановитесь на одном из
этих одеяний. Иногда вам надоест приискивать дальше
и вы, хотя и видите, что костюм не совсем пришелся
по красавице, но, махнув рукой, говорите: «проходит
и так!» и бедная красавица странно иногда высматривает
в костюме, не на нее сшитом, и эта странность
колет
вам глава каждый раз, как вы перечитываете то, что
написали. Отыскивая название для какой-нибудь вещи,
имеющей форму, цвет, краски, вы имеете в голове
своей представление, для которого ищете только забы-
того названия; но если вас мучит совершенно отвле-
ченная мысль, если вы для нее именно ищете отраже-
ний, отпечатков, отголосков, тогда что же находится
в голове вашей? Мысль без слова, без отпечатков, без
отражений, без отголосков.
Еще можно часто подметить нагую
мысль при изу-
чении иностранных языков и при переводе с одного
языка на другой, когда она, эта чудная красавица
создания, переодевается из одного национального кос-
тюма в другой. Мы никогда не выучились бы ни одному
иностранному языку, если бы не могли иметь в душе
нашей мысли без слов, для которой различные языки
только различные национальные костюмы.
Но в какой же форме находятся мысли без слов,
без красок, без очертаний, без всего того, что мы при-
выкли называть
формой мысли? В своей чистой логи-
ческой форме; в той форме, которая есть сама мысль,
217
в форме, которая есть вместе и содержание мысли,
словом — в форме идеи.
Величайшая заслуга Гегеля состоит именно в том,
что он в своей логике более, чем кто-нибудь до него,
приблизился до выражения мысли в этой ее бесфор-
менности или, лучше сказать, до выражения ее содер-
жания в такой форме, которая есть самое содержание.
Однако мы говорим приблизился, потому что, как толь-
ко выразил он ее словами, так она уже и приобрела
более или
менее чуждую ей форму…
Впрочем, Гегель напрасно так много об этом забо-
тился и, может быть, сделал бы лучше, если бы не дово-
дил своего языка до такой бесцветности; тем более, что
вполне он и не мог достигнуть своей цели, потому что
весь язык человеческий именно и состоит из этих отра-
жений, отпечатков и отголосков. Но, следя внимательно
за автором, читатель привыкает угадывать, в чем дело,
и переносится за ним над поверхностью слов, как лету-
чая рыба над поверхностью
воды, стараясь поскорее
опуститься в родной элемент.
Как мы ни старались довести читателя посредством
простых наблюдений до этого царства идей, которое
по бестелесности жильцов своих напоминает царство
теней, из которого однако тем не менее обильным пото-
ком льется жизнь в нашу душу, но чувствуем, что не
достигли вполне своей цели, а потому попытаемся в
следующей главе подойти с другой стороны к этому
единственному источнику нашей душевной жизни
(т. II, стр. 421—424).
116.
Духовная память или память идей
… Чисто человеческая, духовная память придает
явлениям, общим и человеку и животному, особый,
чисто человеческий характер.
Положим, что дитя заучило какие-нибудь стихи
на иностранном, непонятном для него языке, заучило,
следовательно, только звуки в их последовательности
один за другим. Сознание, конечно, принимало участие
в этом заучиваньи: без участия внимания дитя не слы-
218
шало бы звуков, без участия рассудка не сознавало бы
различия и сходства между этими звуками, а следова-
тельно, и не усвоило бы их в их последовательности.
Однакоже роль сознания была самая пассивная. Но
вот, наконец, нервы усвоили механическую привычку
произносить заученные стихи и, вместе с тем, участие
сознания в этом произнесении все более и более осла-
бевает, так что дитя, произнося эти стихи, может уже
думать в то же самое время
о чем-нибудь другом. Поло-
жим, что дитя через несколько времени выучится
языку, на котором написаны заученные стихи, и пере-
ведет их буквально от слова до слова, не понимая,
впрочем, смысла, выражающегося в связи этих слов:
тогда на помощь прежней механической ассоциации
звуков прийдет уже менее механическая ассоциация
понятных слов. Но и эти ряды слов от упражнения
станут снова одним механизмом. Положим далее, что
дитя, подрастая, поймет, наконец, и самую связь
слов,
мысль, в них выражающуюся; но эта мысль бу-
дет до того чужда душе дитяти, что останется в ней
в своей отдельности. Эта мысль, повторяясь часто, бу-
дет снова все больше и больше механической ассоциа-
цией слов, не требующей особенного усиленного сосре-
доточения внимания. Случайное напоминание может
вызвать в ребенке заученные созвучия и кадансиро-
ванные строчки; строчки и рифмы вызовут понятные
слова; ряды понятных слов вызовут заключающуюся
в них мысль: но мысль так и
замрет без последствий
в душе дитяти.— Но положим, наконец, что дитя сде-
лалось юношей, что в душе юноши созрел вопрос,
на который мысль, заключающаяся в стихах, будет
ответом, или созрело чувство, для которого заученные
стихи будут более полным, поэтическим выражением,—
тогда зерно, заключающееся в стихах, освобожденное
от всех своих оболочек, перейдет в духовную память
юноши и перейдет не в виде стихов, не в виде слов,
даже не в виде мысли, выраженной в словах, а в виде
новой
духовной силы, так что юноша, вовсе уже не
думая об этих стихах, не вспоминая даже мысли, в
219
них заключенной, будет после усвоения их глядеть на
все несколько изменившимся взором, будет чувствовать
несколько другим образом, будет хотеть уже не совсем
того, чего хотел прежде,— т. е. другими словами, как
говорится, человек разовьется ступенью выше. Такое
усвоение духовной памятью есть не только духовный
акт, как говорит довольно неясно Герман Фихте, но
акт, обратившийся в новую силу духа. И эта новая
сила духа, как и все, прежде
им приобретенные, будет
всегда ему соприсуща и будет участвовать, как новая
функция, в каждом новом духовном акте.
Существование в человеке этой духовной памяти
или памяти развития придает памяти как рассудочной,
так и механической, совершенно новый, чисто челове-
ческий характер, ставя их, так сказать, в служебное
к себе отношение. Из духовной памяти появляются в
человеке идеи; рассудочная память облекает их в
форму логической мысли, а механическая облекает
эти мысли
в слова, краски, звуки, движения. И наобо-
рот: из следов, сохраненных механической памятью,
выплетает рассудок сеть ассоциаций, а из сближения
этих ассоциаций рождается идея, усваиваемая духов-
ной памятью. Такой оборот вечно совершается в чело-
веке; но не все, усвоенное механической памятью,
и даже не все, переработанное рассудочной, приносит
идею в память духовную и наоборот, не всякая идея
духа находит себе воплощение в силлогизмах рассудка
и следах, сохраненных нервами.
Много .следов сохра-
няется нашей механической памятью и даже много
есть у нас рассудочных знаний, которые не приносят
никакой пользы нашему духовному развитию, ни на
волос не подвигают его вперед и наоборот, много мы
носим в себе глубоких духовных убеждений, которым,
может быть, никогда не суждено высказаться не только
в форме дела, но даже в форме слова. Однакоже эти
два потока нашей душевной жизни, идущие, так ска-
зать, от периферии человеческого существа к его центру
и
от центра к периферии, составляют самое существен-
ное явление нашего психического мира (т. VIII, стр.
362—365).
220
117. Постижение идеи
…Сознание по самой природе своей всегда стремится
к единству, к сознанию общего отношения… Чем более
отношений соединило сознание в одно общее отноше-
ние, тем яснее отразится в нем предмет, который своим
влиянием на органы чувств и нервную систему вызвал
в душе все эти акты сравнения и различения, все эти
отношения и отношения отношений. Взглянув бегло
на большую картину, на которой нарисовано множество
лиц
в самых разнообразных положениях, мы сохраним
в душе нашей только самое неясное сознание картины;
но чем пристальнее мы будем вглядываться в ее под-
робности, связывая эти подробности в общие отноше-
ния, и, если, наконец, идя этим путем, мы постигнем
основную идею картины, т. е. то общее для всех ее по-
дробностей отношение, которым все они связываются
в одно целое, тогда только наше сознание картины
достигнет высшей степени. При такой степени созна-
ния достаточно, чтобы
в нас родилась основная идея
картины, и все подробности ее возникнут перед нашим
умственным взором (т. VIII, стр. 336—337).
118. Мышлением распоряжается идея: она-то под-
бирает слова для завершения процесса образования по-
нятий и связывает слова в суждения и мысли. Но идея
несоизмерима с понятием и представлением: она вы-
ражается в их сочетаниях, но не в них самих. Строго
говоря, мы мыслим не словами, не понятиями и не
представлениями, а идеями, связывающими слова, по-
нятия
и представления (т. VIII, стр. 675).
119. Стремление к истине, как страсть ума
Обыкновенно ум противополагают страстям, но
в то же время говорят о страсти к науке, страсти, конеч-
но, умственной, но, конечно, не менее других страстей
сильной, увлекающей человека…
К умственной страсти может присоединиться много
побочных —самолюбие, тщеславие, славолюбие, любовь,
221
ненависть, месть и т. д., но настоящая основа ее будет
все же чисто духовное или принадлежащее только че-
ловеку стремление к истине. Чем более эта основа вы-
тесняет все остальные перемены, тем самая умственная
страсть становится чище…
Страстное стремление к истине есть, без сомнения,
высшее достоинство человека; а потому мы и будем го-
ворить еще о нем в 3-й части нашей книги.
(Ф. 316/23, «Чувственные состояния ДУШИ». Глава
«Анализ
главнейших страстей», л. 43—43 об.).
120. (III, 27). Стремление к истине
Чувство открытия истины Бэн справедливо назы-
вает «каким-то освещающим* (The Emotion, p. 205).
Но это именно происходит оттого, что мысль, которая
давно в тысяче сходящихся верениц, но в середине их,
в темноте, пробиралась в сознание, вдруг выглядывает
в свет сознания,— и освещается не только сама, но осве-
щает и все те бесчисленные каналы, по которым она
пробиралась.
121. (III, 29). Стремление
к истине
Стремление к открытию причины, никогда не осу-
ществляемое, ведет однако науку вперед.
«Человек ведет себя так, как бы он должен был дойти
до этого абсолютного знания, и непрестанное почему,
с которым он обращается к природе, служит тому дока-
зательством. В самом деле, эта надежда, постоянно об-
манывающая, постоянно возрождающаяся, поддержи-
вает и всегда будет поддерживать в последовательных
поколениях их страстный жар изыскания истины»
(Кл. Бернар, стр. 105).
И
тут же Кл. Бернар противоречит сам себе:
«Наше чувство искони склоняет нас верить, что аб-
солютная истина должна быть нашим достоянием; но
наука мало-помалу отнимает у нас эти химерические
притязания. Наука именно имела преимущество научить
нас тому, чего мы не знали, поставив разум и опыт на
222
место чувства и ясно показав нам пределы нашего дей-
ствительного знания» (ib., стр. 106).
Как же это так? Стремление к абсолютной истине
будет поддерживать в дальнейших поколениях жар к
истине, а между тем наука уже доказала нелепость
этих стремлений? Или Кл. Бернар выключает себя из
человеческих поколений? И смотрит на человечество, как
на детей, которые вечно будут заблуждаться, хотя он,
Кл. Бернар,— уже не заблуждается? Это похоже на
Вольтера,
который говорит, что для людей нужно выду-
мать бога!
б) Идеи как врожденные предрасположения
мышления
122. Идеализм и реализм. Локк
Локк говорит в одном месте: «природа дает нам
только семена мышления. Мы рождены, если нам угод-
но, быть разумными творениями, но только упраж-
нение и практика делают нас такими» (Cond, of the
Understand., t. I, p. 41).
Но не противоречит ли это известному афоризму:
Nihil est in intellectu… и т. д. Ведь семена — это не
мало! Но
он нигде не делает попытки указать, в чем
состоят эти семена.
(Ф. 316, папки № 25, 26, 28, 29, 31).
123. Врожденные идеи
«Опытная идея бывает следствием некоторого пред-
чувствия ума, полагающего, что вещи должны происхо-
дить известным образом. Можно сказать в этом отно-
шении, что в уме нашем есть постижение или чувство
законов природы; но что мы не внаем их формы» (люди,
имеющие предчувствие (?) новых истин, редки) (Кл.
Бернар, стр. 44).
124. Врожденные идеи (Локк)
Декарт
принимал три рода идей: приобретенные по-
средством чувств, созданные посредством отвлечения
и врожденные.
223
Локк принимает только два первые рода и всею силой
борется против третьего. Обширные три главы (II,
III и IV) составляют почти всю первую книгу его
главнейшего сочинения (Of hum. Understanding), напол-
нены одними опровержениями врожденности идей и
врожденности практических принципов.— Но как сла-
бы многие из этих опровержений!
1. Нет идей, напечатленных от природы в душе, ибо
их не знают дети, идиоты и т. п. «Говорить же, что в ду-
ше
начертана идея, которой человек не знает или не
понимает, есть противоречие. Непонятно:— напечат-
леть что-либо в уме так, что ум этого не понимает»
(ib., Ch. II, p. 5). Но отвергая врожденные знания, он
признает врожденную способность знать (ib., р. 137).
«Говорить, что что-нибудь есть в рассудке и не по-
нимается рассудком (to be in the Understanding and
not to be understood), есть в душе и не замечается ею,
все равно, что говорить, что что-нибудь в одно и то
же время и
существует и не существует в душе» (ib.,
р. 137).
Вот коренная ошибка Локка! Ясно, что он отожде-
ствляет душу и сознание. Но не противоречит ли он
•сам себе: не говорит ли он везде, особенно в своем
сочинении (Conduct, of’the Underst.), беспрестанно о
привычках души, дурных и хороших, привычках ума
и что ум сам иногда не замечает этих привычек (напр.,
стр.39 особ.).
Но вот вам: душа или ум имеют привычку, не заме-
чая, что ее имеют.
Локк, а за ним Кант и Губернатис
уничтожили таин-
ственную область души, вынесли на светлое поле созна-
ния, с которого напрасно хотела их сбить шеллинго
гегелевская философия. Но увлечение перешло через
край и разумная идея Лейбница об идеях, имеющих
влияние и не сознаваемых, должна быть признана; а
след., должна быть признана и сторона души, не осве-
щенная сознанием.
(Ф. 316, папки №25, 26, 28, 29, 31).
224
125. Врожденные идеи (Мюллер). Способность от-
влечения. К рассудку. (кар. Самосознание)
Мюллер говорит: «Ни малейше нельзя сомневаться
в существовании врожденных идей: это факт установив-
шийся. Все идеи животных, которым инстинкт служит
руководителем, врождены и непосредственны; они но-
сятся перед умом, как сны, сопровождаемые желанием
достигнуть цели» (Man. d. Phys, P. II, p. 495). «Не про-
исходит ли у человека нечто подобное под именем
об-
щих идей?» (Ib., р. 495).
Но Мюллер не придерживается ни Локка, ни Юма,
ни Канта. От последнего он отличается тем, что, не
признавая врожденности идей, на которые этот указы-
вает (количество, качество, отношение, образность
(modalitas), время и пространство),— Мюллер признает
в человеке способность отвлекать общие идеи из частных
явлений и в этом полагает главное отличие человека от
животного (ib., р. 495). (Еще яснее — стр. 498, 499).
Присутствие или отсутствие этой
способности к от-
влечению «вовсе не должно искать в ясности или тем-
ноте впечатлений, ибо в этом нет различия между чело-
веком и животным» (ib., р. 495).
Это противоречит Бенеке.
Но формацию понятий заимствует у Гербарта и объ-
ясняет ее почти как Бенеке (ib., р. 496).
Из одних эмпирических наблюдений; говорит Мюл-
лер, науки но выйдет, «величайшие открытия в науке
вышли из соединения суждения с наблюдениями»…
из «философского наблюдения» (ib., р. 498).
«Собака
мало-помалу приобретает привычку заме-
чать, что шляпы, колпаки разных форм могут быть но-
симы на голове; но никогда не выведет из них идеи шапки
(de coiffure)» (Ib., p. 499).
Ясно, что это ошибка. Тут он цитирует Гербарта и
думает его опровергнуть, но слова самосознание не про-
износит.
(Ф. 316, папки № 25, 26, 28, 29, 31).
225
126. Материализм (в посл. главу о вере в причин-
ность)
«При настоящем состоянии наук, говорит Клод
Бернар: невозможно установить никакого отношения
между жизненными сходствами тел и их химическим
составом; ибо ткани или органы, наделенные самыми
различными свойствами, иногда сходны с точки зрения
их элементарного химического состава» (стр. 94).
Какой же вывод из этого? Не тот ли, что причина не
в химическом составе? В чем же? В геометрическом
рас-
положении частиц? Этого мы не знаем. Но не тот вывод
для К. Бернара. Эти господа строят свои миросозерца-
тельные выводы на будущих открытиях науки.
(Ф. 316, папки № 25, 26, 28, 29, 31).
127. Рассудочные математические понятия. Само-
сознание
В математике мы изучаем одни свойства тел, в химии
другие, в физике третьи. На этой способности отвлекать
признаки и возводить их в непредставляемую идею все
науки основаны; а сама эта способность основана на
способности
самонаблюдения.
Но Милль порет свое: «Во все время мы думаем как
раз о таких предметах, какие мы видели и трогали и
со всеми свойствами, которые им естественно принадле-
жат; но для удобства науки мы… (воображаем? при-
творяемся что ли? представлять = нельзя, следоват., и
слова нет. Он ставит we feign)… придумываем их ли-
шенными всех свойств за исключением тех, которые мы
хотим в них рассматривать» (р. 257).
Но почему же Милль не разъяснил, какие это удоб-
ства еще
несуществующей науки? Тогда бы он увидел,
что без этой способности отвлекать свойства от пред-
метов и думать о том, чего представить мы себе не мо-
жем, не было бы и науки.
«Особенная точность, приписываемая первым гео-
метрическим принципам, оказывается, след., вымыслом.
Положения, на которых рассуждение основывается
226
в этой науке, не соответствуют точно факту; мы только
предполагаем, что, они соответствуют для того, чтобы
исчерпать последствия, вытекающие из такого поло-
жения. Мнение Дюгальда Стюарта относительно осно-
ваний геометрии, что она построена на гипотезах, со-
вершенно справедливо, и что этому только она обязана
той особенной несомненностью, которая считается ее при-
надлежностью… Если утверждают, след., что выводы
геометрии необходимо
истинны, то эта необходимость
состоит действительно только в том, что они необходимо
вытекают из предположений, из которых выведены. А это
предположение так далеко от того, чтоб быть необ-
ходимым, что они даже неверны; они преднамеренно
более или менее уклоняются от истины» (ib., р. 257).
Странное же дело, замечу я, что из предположений
намеренно ложных выводятся истины, на основании
которых предсказывают секунда в секунду затмение
солнца и появление комет.
Но позвольте?
как же мы представим себе, напр.,
Центр тяжести, если не видеть точки, которой нельзя
взять половину, четверть и т. д.? Следовательно,
центр тяжести есть необходимый факт природы, соот-
ветствующий точке.
Если основные положения ложны, то и выводы «не-
обходимо верные» из них должны быть ложны, а они
оказываются и в природе не таковыми? Как же это?
Вы говорите, что мы «только предполагаем, что они
соответствуют факту»; но какому же факту, когда вы
сами говорите, что «факта
такого нет»? Неужели это
новая логика?
Вот до каких нелогичностей может довести такую ло-
гическую голову увлечение страстью модного созерца-
ния, желание опровергнуть факты, стоящие на дороге…
Нелогичнее этих страниц нет у Милля, кроме еще
тех, которые говорят о свободе воли. «Наша свобода,
говорит Милль, простирается только на то, чтобы слегка
преувеличивать свойство, которое имеет предмет, при-
нимая, что он совершенно то, к чему он ТОЛЬКО очень
близок» (ib., р. 259).
227
Что принимая? К чему он близок? Значит, у нас
уже предварительно есть понятие о том, к чему мы
считаем предмет близким? Ведь он одинаков близок от
еще большей неточности? От чего же мы гнем его в сто-
рону геометрической точности? Значит, мы знаем, что
в этой стороне?
И этому-то поклоняются наши дурни…
Но при всем этом мы вовсе не расходимся с Миллем,
когда он утверждает, что «геометрические аксиомы суть
опытные истины» (ib., § 4,
р. 261), но только понимаем
опыт несколько иначе. Врожденность же душе геомет-
рических аксиом есть предположение, которого дока-
зать нельзя.
Милль говорит, что мы приобретаем уверенность
в геометрических аксиомах из бесчисленных, опытов
«в то еще время жизни, которое задолго предшествует
началу какой-либо части приобретаемых нами знаний
и вообще слишком рано, чтоб мы могли припомнить
историю умственных процессов тогдашнего периода»
(ib., р.. 263).
Но заметим кстати
нелогичность Милля, с которой
он доказывает это положение. Он приглашает против-
ников доказать противное и говорит, что они не могут
этого сделать, так как этот период времени слишком
отдален, чтобы к нему можно было воротиться памятью
и «слишком темен для внешних наблюдений». Но спра-
шивается, как же сам Милль высмотрел в этой темноте
беспамятного детства свое положение?
Милль все сбивается на то, что мы не можем пред-
ставить геометрические фигуры, нарисовать их в своем
воображении
в их геометрической бестелесности,— и
ото совершенно верно (р. 264); но мы не можем нарисо-
вать их в воображении, ощутить их нервами зрения —
даже без определенного цвета, и в определенном месте]
но в том-то и дело, что, рассуждая о них, мы берем их
без цвета, без места и тела, не вводим этих признаков
в наши суждения, ибо они сбили бы нас с прямой дороги.
Мы представляем палки или на доске или в уме, но
рассуждаем о геометрических линиях.
228
Эта способность отвлекать рассуждение от представ-
ления имеет своим источником способность человека
наблюдать над собственными своими душевными про-
цессами и управлять ими,— источник умственной и
нравственной свободы.
Геометрические законы не врождены нашей душе,
потому что они беспространственны, а это законы про-
странства. Но они врождены нашему телу и специально
нашему нервному организму.
Материалисты вооружаются вообще против
всякой
врожденности; но это потому, что они плохие логики,
иначе они и не были бы материалистами. Если все ду-
шевные отправления исполняются мозгом, то, конечно,
движением его частиц; а эти движения, конечно, должны
быть условлены устройством мозга, а как это устройство
определенное, wo и эти движения должны быть тоже
определены самим устройством мозга — вот вам целый
ряд законов, врожденных мозгу, которые не вытекают
из внешнего опыта и которых никакой опыт уже не из-
менит.
К чему же так воевать против врожденных идей,
когда они есть необходимое следствие из понятия души
как организованного уже мозга: вот эта сложная орга-
низация и будет идея мозга, врожденная идея.
Мы видели, что всякое представление совершается
в нервах, след., не иначе как материальными средствами,
т. е. движениями, ибо других средств у материальной
природы нет. Всякое же движение непременно совер-
шается по законам математики и иначе совершаться
не может: вот почему мы не
можем себе представите
ничего, что противоречит геометрическим аксиомам,
и вот почему выводы из этих законов оказываются безо-
шибочными во всем материальном мире, составляющем
в этом отношении одно с массой нервной системы: вот
почему мозг наш так упорно отвергает всякое противо-
речие геометрической аксиоме.
Но животные точно такие же опытные геометры, как
и человек,— вот откуда правильность пчелиных сотов
и паутины, преувеличенная рассказчиками, любящи-
ми вызывать
изумление, но все же замечательная.
229
Если бы животное могло посмотреть на свой соб-
ственный умственный процесс в этом случае, то оно бы
создало геометрию. Если бы оно могло превращать в дух
то, что тело, то оно было бы человеком.
Скажут, что для этого достаточно дара слова; но
сам дар слова есть следствие самосознания. Кроме того,
подумайте, если б вы забыли названия точки, линии,
круга, то неужели потеряли бы способность делать гео-
метрические задачи? Вы чувствуете ясно,
что нет. Но
может быть, вы в этом случае думаете нарисованными
формами в вашем воображении, но это не геометриче-
ские линии, а кривые палки, однакоже вы рассуждаете
об них как бы о геометрических линиях, следователь-
но, переделываете их по какой-то идее, имя которой по-
забыли… Что же это за идея, которой ни нарисовать на
доске или в воображении нельзя, которой название вы
позабыли, не изменив ее силы,—- заставляет вас в палках
и точках видеть геометрические точки и линии?—
Это-то
и есть настоящая идея, которая хранится в духе недо-
ступной представлениям и, не выражаясь сама ни в сло-
ве, ни в форме,— выражается в своем влиянии на ваши
представления, формирует их так, а не иначе.
Ближе подойти к идее нельзя.
На основании этих ошибочных умозаключений Милль
говорит:
«Все дедуктивные или демонстративные науки без
исключения — науки индуктивные; очевидность их ос-
нована на опыте (М. я же говорю на устройстве организ-
ма, чем они и отличаются
от других опытных наук, не
имеющих такой же ясности, немыслимости противоре-
чий); но что они также гипотетические науки, так как
их заключения имеют истину при известном предполо-
жении, которое имеет только приблизительную истину»
(В. II, Ch. VI, р. 285).
Последний вывод — явный парадокс… Какие же
» опытные науки не основываются на гипотезе — силы,
материи, отдельных свойств, атомов и т. д.?…
(Ф. 316, папки № 25, 26, 28, 29, 31).
230
128. Отличие математических наук от опытных
(Врожд. идеи) (кар.)
Математик и натуралист ничем не разнятся, поку-
дова отыскивают принципы; и тот и другой производит
наведение, составляет гипотезы и делает опыты, т. е.
попытки поверить справедливость своих идей; но когда
они начинают делать выводы из своих принципов, то
совершенно различаются: «математик выбирает и не-
которым образом создает в своем уме. Вот отчего, так
как достоверно,
что не придется вводить в рассуждение
других условий, которые им определяются, то принцип
у математика остается абсолютным, сознательным, со-
размерным уму, и логическая дедукция точно так же
абсолютна и достоверна; ему нет более нужды в опыт-
ной проверке, достаточно логики» (Клод Берн., стр. 60).
Не гораздо ли проще было сказать, что математик
создает то понятие, которое только разъясняет в своих
выводах?
«Я не думаю, чтобы индукция и дедукция составляли
действительно
две формы рассуждения существенно
различные. Ум человека от природы имеет чувство
или идею некоторого принципа, господствующего, над
частными случаями. Он всегда инстинктивно исходит
из принципа, или найденного им, или придуманного, как
гипотеза; но он не иначе может итти в рассуждениях,
как путем силлогизма, т. е. перехода общего к част-
ному* (ib., стр. 61).
Материалисты восстают против врожденны^ идей,
сами не сознавая ясно, против чего они борются: если
ум не более
как функция мозга, то в самом устройстве
мозга должны лежать условия его функции; т. е. усло-
вия, по которым он способен к одним движениям и не-
способен к другим: это и будут все же врожденные идеи.
Мы и узнаем о них не иначе, как отрицательным пу-
тем. Так, мы не можем принять явления без причины,
пространства с пределами.— Но если мы не можем пред-
ставить треугольника о двух углах, то это потому,
что мы создали себе понятие треугольника с тремя
углами.
231
Из черновых рукописей К. Д. Ушинского
232
Mill’s Logic.
«С Аристотеля, a вероятно, и ранее принято уже,
что геометрические знания выводятся из определений
(Book I, CH. VIII, р. 163). Но определений чего?
Таких предметов, как геометрическая линия, как
круг и пр., в природе нет; но и называют их абстрак-
циями ума и определение их определениями этих ум-
ственных линий и т. д. (ib., р. 169).
Милль о этим не согласен. «Мне, говорит он, кажется,
что душа не может иметь таких понятий;
она не может
понять длины без ширины; она может только, созерцая
предмет, отнестись (all-end) к одной его длине за исклю-
чением всех других ее качеств и отсюда уже выводить
свойства предмета относительно одной длины» (ib.,
р. 169). Т. е. взято все же из природы, в том сомневаться
нечего.
Главное затруднение здесь, как мне кажется, в оши-
бочном представлении, что геометрических линий и пр.
нет в природе; но в таком случае нет в природе и белиз-
ны и красноты без формы,
например. Другая ошибка
в том, что мы не отделяем понимания от представления:
представитъ себе синий цвет без какой бы то ни было
формы невозможно; но понять можно и можно ввести
это понятие цвета отдельно от формы в свои сужде-
ния.
Признать геометрические понятия врожденными ду-
ше мы не можем; но можем признать их врожденными
мозгу и вообще телесному организму, который не может
иначе совершать своих движений, как по законам
математики и геометрии. При представлении,
конечно,
играют роль движения мозга, а эти движения не могут
заставить пересечься две параллельные линии. Кроме
того, сознаваемые нами движения тела совершаются
не иначе,как по геометрическим законам, следовательно,
все наши опыты происходят в области этих законов и
вот почему они являются у нас уже готовыми прежде
учения.— Геометрические и алгебраические законы,
следовательно, из опыта и гипотезы, как говорит Милль
дальше, но они, эти законы телесного мира, изучаются
233
нами в движениях самого нашего организма; под усло-
вием соблюдения их мы привыкаем управлять нашим
организмом.
(Ф. 316, папки № 25, 26, 28, 29, 31).
129. (Отличие человека от животных). Рассудок —
язык. Определение. Математические определения
«Все имена (names), исключая названия наших эле-
ментарных чувств, могут быть определены самым стро-
гим образом, выразив в словах части, составляющие
факт или явление, из которых сложено понятие
(con-
notatio) каждого слова» (MilPs Logic, t. 1, p. 156).
Вообще об определении смотри у Милля.
Всякое имя, конкретное и отвлеченное, допускает
определение, если мы только способны анализировать,
т. е. разделить на части признак или ряд признаков,
составляющих смысл как конкретного, так и отвле-
ченного имени; если же признак единичен, то — разлагая
факт или явление, послужившие основанием признаку»
(ib., t. I, Ch. VIII, p. 153).
Так, напр., красноречие — один признак;
тогда об-
ратимся к факту и найдем в нем причину и следствие,
и мы определим красноречие как способность иметь
влияние на чувства письменной и словесной речью.
«Белизна может быть определена как свойство воз-
буждать ощущение белого цвета. Белый предмет может
быть определен как предмет, возбуждающий ощущение
белого. Единственные имена, которые не могут быть оп-
ределены, ибо их смысл не способен к анализу, суть
имена простых ощущений. В этом отношении они тоже,
что собственные
имена» (ib., р. 154).
След., не ясно ли, что для определения необходимо
не одно чувство (белого, холодного и т. д.), а понимание;
а для понимания необходимо разделение для того, чтоб
была возможность сравнения и различения, — без че-
го понимание невозможно. След., Милль напрасно вы-
кинул сравнение в отдельную категорию суждений:
без сравнения никакое понимание невозможно, а без
понимания невозможно никакое суждение.
234
Мы и не помнили бы ощущение белого, если б не срав-
нивали его с красным и т. д. А когда наука доказала
сложность белого луча, получилась возможность его
определения: смешение всех цветов радуги; но нераз-
лагаемых определить невозможно.
Несовершенное определение, хотя совершенно пра-
вильным будет: «Человек есть двуручное млекопитаю-
щее; или—человек есть животное, варящее свою пищу;
или —человек есть бесперое двуногое» (ib., р. 157).
«Настоящее
определение состоит в том, чтобы изъяс-
нить факты, входящие в значение имени».
Но иногда в определении не требуют столь многого,
желая только приучить к правильному употреблению
слова, чтобы не перенести его на другие. «Это-то опре-
деление и имели в виду логики, когда они ставили
правилом, что определение вида должно быть per genus
et differentiam» (ib., p. 155), разумея под differentia
не все особенности вида, а какую-нибудь одну».
Т. е. это не более как классификация —
указание
места; но не определение. Однакоже это может быть ос-
новой определения и если классификация сделана верно,
то ив нее может возникнуть верное определение.— Но
если внимание было обращено на одни отличительные
признаки, то может выйти забавное определение вроде
выставленного выше Миллем: «Человек есть животное,
варящее свою пищу». — Но ложь этого определения,
как вше кажется, возникла из помещения человека в не-
принадлежащий ему класс животных. Если бы он был
животным,
то определение его было бы совершенно вер-
но: двуногое, бесперое, или — двурукое млекопитаю-
щее. Но потому-то и выходит оно забавным, что чело-
век не животное.
Следовательно, я убежден, что если классификация
сделана верно, то и определение на основании класси-
фикации совершенно верно.
«Но так как классификации в науках с развитием
их меняются, то меняются и определения» (ib., р. 158).
«Всякое определение есть определение имени и толь-
ко имени; но в некоторых определениях
явно имеют на-
235
мерение изъяснить одно значение слова, тогда как в
других, кроме изъяснения слова, намеренно вводится,
что есть и предмет, соответствующий слову». Таковы —
а) центавр есть то и то… б) треугольник есть то и то…
«Но хотя, говорит Милль далее, всякое определение
есть только определение имени, но из этого еще не сле-
дует, чтобы определение могло быть произвольно. Опре-
деление имени может представлять не только значитель-
ную трудность,
но может требовать соображений, иду-
щих глубоко в природу вещей, которые обозначены этим
именем» (ib., § 7, р. 170).
Но можно ли сказать после этого, что всякое опре-
деление есть только определение имени и ничего кроме
имени (мое: не лучше ли слово название?).. Тогда бы
определения и имена никогда бы не исправлялись. Мы же
исправляем название предмета (имя — паше) вслед-
ствие вещей. Следовательно, определение, вытекающее
из названия, есть определение только формальное;
но
определение, объясняющее название; но имея перед
глазами самую вещь,— будет определение материаль-
ное.—Мы, говоря одно и то же название, можем пред-
ставлять себе совершенно различные вещи. Только в
алгебре и математике это невозможно именно потому,
что аксиомы здесь возникают из свойств организма,
общих всем людям и повторяющихся одинаково при
всяких движениях, так что нет движения, при котором
аксиомы эти не повторялись бы — и если бы мы за-
хотели представить им
противоречие, то в самом этом
представлении мы нашли бы противоречие самим
себе.
(Кар. Мое.)Аксиомы геометрии начертаны в законах
движения нашего, как и всякого другого тела, и предста-
вить противное им невозможно, ибо представление со-
вершается в движениях тела, нервов, слепо по законам
геометрии. Вот откуда и происходит невозможность
представить себе противоречие геометрической аксиоме;
а не от привычки, как говорит Милль (см. В. II, Ch. V,
р. 263), из чего можно заключить,
что он предполагает
за опытом возможность открыть, что две параллели
236
пересекутся и т. п., как это он утверждает ниже (см.
другой листок).
Что определение не есть только определение назва-
ния (name), это показывает сам Милль, говоря и проти-
вореча самому себе:
«Было бы большой ошибкой представлять себе труд-
ное и благородное занятие определениями не чем иным,
как выяснением принятого значения слова. Это опыты
определить скорее не то, каково есть, но каково должно
быть значение слова; что требует, чтобы
мы не только
вошли в свойство названия, но и в свойства называемой
вещи» (ib., § 7, р. 140).
Следовательно, я думаю, что это уже не одно опре-
деление названия, но столько же и определение называе-
мого предмета; не вытаскивание предмета из слова, но
надевание слова на предмет, поверка названия называ-
емыми предметами.
(Ф. 316, папки № 25, 26, 28, 29, 31).
130. Сознание (Фрис). Рассудок. Математический
рассудок
Кроме сознания Фрис признает еще какой-то Ge-
meinsinn,
которое отличает от чувства жизни, называя
его истинным. Через него мы имеем математические или
чистые созерцания, которые делаются основанием всех
наших внешних созерцаний (Fries, Th. I, § 29,S. 101).
«Это математическое созерцание выходит именно
из единства чистых форм нашего разума, следовательно,
принадлежит одинаково каждому человеку, как бы чув-
ства его ни были различны, и связывает все чувствен-
ные созерцания (Sinnesanschauungen) в одно, так как
оно есть чисто разумная
форма нашего познавания»
(ib., S. 101).
«Это математическое познавание одно дает твердое
отражение всех наших чувственных познавании и по
общности этого математического познавания вещей все
люди понимают друг друга» (S. 102).
Все это так; но это не какое-нибудь особенное, ше-
стое или уже седьмое чувство, а просто сознание, дей-
237
ствующее не при действии нервов, когда являются чув-
ства вкуса и т. д., а само при действии духовных воспо-
минаний или идей, когда яркость действительных впе-
чатлений исчезла, а остались только идеи их, сравни-
ваемые сознанием. Оно действительно не чувствует,
а сознает отношения между чувствами и из этих-то от-
ношений, следы которых в душе, а не в нервах, •выпле-
тается общее сознание человечества, и действительно,
как всякое отношение,
оно может быть названо матема-
тическим, но не должно разуметь одну величину,— в том
и ошибка психологов и математиков.
«Математическое созерцание есть единственное об-
щее чувство нашего внешнего познавания» (ib., S. 105).
Таким образом отличает Фрис «чистое созерцание»
от «чувственного созерцания*. Последнее показывает
только единичное, а второе общее (ib., S. 106).
M. Верно; но это только сознание в приложении уже
не к материалам отношений, а к самим отношениям,
выведенным
из этих материалов. От этого оно и чистое,
и математическое; но едва ли только математическое;
хотя, конечно, для познания внешнего мира математич-
ность есть общий закон;— что не доведено еще до воз-
можности быть выраженным в математической форме,
то еще не дозрело, значит. Представляя себе весь мир
движением, мы можем надеяться постигнуть только
законы этих движений, а законы движений — всегда
математика; вот почему это основной предмет для всех
постижений внешнего мира:
для внутреннего же что?
Психология.
«Все крепкое, необходимое и определенное познание
людей о внешнем мире, говорит Фрис, есть познание дви-
жимых и движущих тел» (ib., S. 108), проще — исчис-
ление движений.
Кант дает вопрос: «Видим ли мы цвета только чув-
ственно, или усваиваем их с помощью сравнивающего ра-
зума?» (ib., S. 121). Конечно, последнее.— Но и Фрис
справедлив ли, когда говорит, что мы можем сравнивать
уже только чувство, когда оно есть. След., его мы сна-
чала
чувствуем, а потом сравниваем.
238
Нет, а по-моему душа ощущает только сравнение:—
два впечатления нарушают ее равновесие и отношение
этого равновесия она чувствует; она не чувствует ни а,
ни Ь; но разницу между их воздействиями на душу.
Сознательное ощущение без сравнения невозможно;
а боль? но это не ощущение вовсе, а внутреннее чув-
ство неудовольствия; оно же делает сознательным
ощущение, только когда я сравниваю его с безболезнен-
ным или приятным состоянием, или с
другими болез-
ненными же.
(Ф. 316,,папки № 25, 26, 28, 29, 31).
131. Рассудок. Математические понятия. (Отличие
человека от животных). (Самосознание)
«Точки, линии, круги и квадраты суть простые ко-
пии точек, линий, кругов и квадратов, которые мы узна-
ем из опытов. Я думаю, что наши идеи о точке есть
не более, как простая идея о видимом минимуме (mi-
nimum visible), малейшей части поверхности, какая
только может быть видима. Линия, как ее определяют
геометры, вовсе
немыслима (inconceivable). Мы имеем
способность, составляющую основание всего контроля,
который мы можем иметь над нашими душевными про-
цессами,— способность, когда представление представ-
ляется нашим чувствам, или концепция нашему уму,—
присматриваться, быть внимательными (of attending)
только к одной части этой концепции или представления
вместо целого. Но мы не можем понять (conceive)
линии без ширины; мы не можем сделать душевной кар-
тины такой линии; все линии, которые
мы имеем в нашей
душе, суть линии, имеющие ширину» (Mill’s Logic,
В. II, Ch. V, p. 255).
Этими словами Милль сказал все: действительно,
мы не можем представить себе линии без ширины,
но мы не можем также представить ее себе и без цвета;
а если мы можем, отбросив ширину и цвет, думать только
об одной длине и из этого создать геометрическую
линию непредставляемую, то этим мы обязаны своей
способности самонаблюдения, которая позволяет нам
239
окончить процесс отвлечения, не оконченный у живот-
ных. Это окончание выражается в душе непредставляе-
мой идеей, а наружу выходит словом — формой непред-
ставляемой идеи: слово символ непредставляемой идеи.
Но непредставляемая идея для Милля невозможна
и вот почему он пускается довольно неудачно в объяс-
нение геометрических аксимом гипотезами… чего?
для чего?
«Ни в природе, ни в душе человека не существует
предмета, точно соответствующего
геометрическим опре-
делениям, хотя и нельзя предположить, чтобы геометрия
занималась несуществующим; потому и остается только
думать, что геометрия занимается такими линиями, уг-
лами и фигурами, которые действительно существуют;
и на геометрические определения должно смотреть как
на первые обобщения, относящиеся к этим естественным
предметам» (ib., р. 256).
Но каких же обобщений? чего? Сколько ни обоб-
щай палки, выйдут палки, а не геометрические ли-
нии.-— Здесь, следовательно,
не обобщение, а отвлече-
ние: мышление, а не представление. Да не только в
геометрии, да и везде — мышление занимается непред-
ставляемыми идеями.
Отсюда у Милля уже странный вывод: «Равенство
всех радиусов круга, говорит он, есть истина для всех
кругов точно так же, как и для каждого; но это не есть
точная истина в отношении данного круга (of any one);
это только приблизительная истина (мое: но к чему
приблизительная?); такая приблизительная (si nearly),
что не будет
никакой ошибки в практике, если мы пред-
ставим ее себе точной истиной» (ib., р. 256).
Но к чему приблизительную?— в том-то и сила.
Не вернее ли вывести так, что человек, чертя круги
сам и считая их за верные, заметил практически равен-
ство радиусов и потом уже только сознал неточность
своих чертежей. Но как линия?
«Ошибочно было бы предполагать, что если мы мо-
жем исключительно направить наше внимание на от-
дельные свойства предмета, то мы уже понимаем его,
240
или имеем идею о предмете, лишенном других его
свойств» (ib., р. 257).
Т. е. Милль не хочет этого допустить,—-это дело
другое.— Но ведь это психологический факт. Мы не
только направляем наше внимание на одну сторону пред-
мета, но, отвлекая эту сторону, делаем ее одну пред-
метом изучения, предметом науки.
(Ф. 316, папки № 25, 26, 28, 29, 31).
в) Идеи как предмет веры
132. (VI, 5). Вера движет науку
Вот основание науки:
«Каковы
бы ни были видоизменения бесконечных
явлений, которые мы можем представить себе на земле,
становясь мысленно во все космические условия, кото-
рые может породить наше воображение, мы всегда обя-
заны признать, что все будет происходить по законам
физики, химии и физиологии (почему же и не мате-
матики?), которые без нашего ведома существуют
от вечности, и что во всем, что произойдет, ничего
не будет создано, ни силы, ни материи: что будет только
происходить появление различных
отношений и вслед-
ствие этого создание новых существ и новых явлений»
(Кл. Бернар, стр. 110).
Из каких опытов нашей быстротекущей жизни,—
произведенных в том неизмеримо малом уголке мира,
который только доступен нашим глазам и нашим силь-
нейшим микроскопам,— могли мы выяснить такую гро-
мадную уверенность, обнимающую и вечность и беспре-
дельность? Неужели не ясно, что это простой голос
разума, говорящий нам о своей ограниченности? Что
это звуки его непримиримой антиномии?
Что нам
выражают эти слова? Пока только то, что мы не можем
себе представить создание из ничего; что мы не можем
себе представить явления без причины; что для попол-
нения этой пропасти нашего ума — наука представляет
вечную материю и вечную силу, а религия вечного
бога с вечными силами. Мы не можем себе представить
241
других физических, химических и физиологических зако-
нов, кроме тех, которые можем себе представить,^-
вот какой банальной фразой разрешается вся эта
пышная тирада.
«Препятствия, задерживающие власть физиолога,
заключаются не в самой природе явлений жизни, но
только в их сложности» (Кл. В., стр. 111).—Но это могло
бы быть сказано физиологом тогда только, когда бы он
уже преодолел эти препятствия!— Опять вера!
Ограниченность нашего
разума мы принимаем за
закон природы.
133. Сомнение и вера (уверенность)
Мы не можем согласиться с теми, которые утвер-
ждают, что сомнение полагает начало науке. Сомнению
необходимо должна предшествовать уверенность, кото-
рая одна только могла вызвать первый наш опыт и вы-
зывает последующие, снова возбуждая наши силы после
каждой неудачи и каждого обмана* Эта мысль вытекает
не только из логической необходимости, но подтвер-
ждается и фактами. Создание религиозных убеждений
везде
предшествовало началу науки, и часто сама наука
начиналась разрушением этих убеждений, недействи-
тельность которых открывалась опытами, сопровож-
давшимися чувством обмана. (Само собой разумеется,
что мы говорим здесь о языческих религиях). Но и
впоследствии не сомнение, а уверенность ведет науку
вперед; сомнение же только прокладывает ей дорогу.
Сколько раз убеждался человек, что есть тысячи явле-
ний, причин которых он не знает, и, тысячи раз обма-
нутый в своих ожиданиях
найти истинную причину,
снова принимается ее отыскивать: так могуча уверен-
ность человека в том, что все имеет свою причину,—
уверенность, которой противоречит опыт, не обнаружив-
ший причин множества явлений («Пед. Антр.», ч. I,
гл. 47, § 1). Сколько раз рушились попытки человека
свести все явления душевного и физического мира к од-
ному источнику! Но после каждой неудачной попытки
он принимается вновь отлеживать то, чему противоре-
242
чит опыт его неудачных попыток, но в чем он уверен.
Вот почему мы говорим еще раз, что уверенность ведет
науку вперед, а сомнение только прокладывает ей тро-
пу. Понять настоящее отношение между уверенностью
и сомнением — одна из важнейших философских задач;
а провести это отношение в воспитании — одна из труд-
нейших главнейших обязанностей воспитателя. Если
слепая уверенность не привела человека ни к чему хо-
рошему ни в науке, ни в жизни,
то и всезрящее сомне-
н е может только парализовать всякую деятельность
человека. Оба эти чувства хороши только одно при
другом…
Сомнение, вызванное опытами и опытами же разру-
шенное, превращает сильную врожденную уверенность
в уверенность разумную, в известность, т. е. уверен-
ность, основанную на опыте и знании, а не на врожден-
ном свойстве души…
Без уверенности человек ни чего не может сделать:
не может даже двинуться с места. Чем более уверенно-
сти в человеке,
что он сделает то или другое дело, тем
более вероятия, что он его сделает. Но с другой
стороны, та же самая уверенность ведет человека ко
всякого рода ошибкам. Трудная и важная задача вос-
питания заключается в том, чтобы воспитать сомнения
в человеке, не поколебав в нем уверенности; но возмож-
ным решением этой задачи мы займемся в своем месте
(т. IX, стр. 288, 294).
134. Надежда как выражение уверенности
Обыкновенно говорят, что надежда борется со стра-
хом; но в этом
выражении есть большая ошибка. На-
дежда по большей части борется с надеждою же, т. е.
уверенность, что ожидаемое событие сбудется, с неуве-
ренностью, точно так же, как уверенность в том, что
дурное ожидание сбудется, может бороться с приятной
неуверенностью, что авось оно не сбудется. Надежда,
равно как и вообще всякое ожидание, может сопрово-
ждаться различной степенью уверенности. Таким обра-
зом при анализе психического явления, называемого
243
надеждою, мы встречаемся в первый раз с особенным,
неразлагаемым психическим явлением, которое назы-
вают уверенностью, или просто верою. Этот новый пси-
хический элемент принадлежит только человеку, а
потому и будет нами исследован только в третьей части
нашей антропологии (т. IX, стр. 265—266).
135. Наука и вера в причинность
Дарвин ясно понимает, что слово случай, как это
он сам выразил, есть только особая условная форма
для выражения
нашего неведения причины. Но тогда
не должен ли был сказать Дарвин, что главный двига-
тель этого великого процесса совершенствования нам
неизвестен? Явление без причины есть вещь, чуждая
науке, которая вся строится на вере в причинность
(т. IX, стр. 371—372).
136. (VI, 3). Вера. Сомнение. Скептицизм. Необходи-
мость веры
«Возможно ли быть скептиком чистосердечно и по
системе? Я этого не понимаю. Или подобные философы
не существуют или это самые несчастные из людей.
Сомнение
в том, что нам нужно знать, слишком тяже-
лое состояние для человеческой души, и человек ре-
шается лучше ошибаться, чем ничему не верить» (Emile,
р. 297).
Эйлер разделяет истины натри рода: «истины чувств,
истины ума и истины веры» (Eiler, т. II, LXVII, р. 297).
«Следует сомневаться, но не следует быть скепти-
ком. Скептик, который ни во что не верит, находится
в невозможности построить науку; бесплодие его пе-
чального духа зависит в одно и то же время и от недо-
статков
его чувства, и от несовершенства его разума».
«Исследователь, сомневаясь в верности своей идеи,
не должен никогда сомневаться в самом принципе
опытной науки» (Клод Бернар, стр. 68).
Но что это за принцип? Вера в разумность мира и
в нашу способность открыть ее… Но ведь это вера в бо-
га и в душу!
244
«Как скоро дано какое бы то ни было естественное
явление, никогда экспериментатор не может допустить,
чтобы произошло изменение в обнаружении этого явле-
ния без того, чтобы не вошло новых условий в это обна-
ружение; кроме того, достоверно a priori, что эти
изменения определяются строгими математическими
отношениями. Опыт показывает нам только форму яв-
лений, но отношение всякого явления к некоторой опре-
деленной причине необходимо и
независимо от опыта:
оно математически принудительно и абсолютно» (ib.,
стр. 70).
Следовательно, все основывается на вере в разум-
ность мира и в разумность души.
«Допустить факт бее причины, то-есть факт, неопре-
деленный в своих условиях существования, значит
не более, не менее, как отрицать науку» (ib., стр. 71).
137. (VI. 4). Вера в разумность мира. (Броун).
Вера в науке
Не по заключениям рассудка верили мы, что огонь
будет и завтра греть, как он греет сегодня
(Броун,
р. 69 и 70). Всякое рассуждение первоначально осно-
вывается на вере и «допущение этой первоначальной
веры есть необходимое условие нашего ума» (ib., р. 78).
Всякое рассуждение, говорит Броун, «скептиче-
ское или догматическое должно принимать за верное,
как свое первое доказательство, допускаемое само
собой (intuitively) и независимо от рассудка» (ib.,
р. 78).
Каждое действие наше основано также на вере (ib.,
р. 79).
Вера лица в свою тождественность есть основа
вся-
кого рассуждения (ib., р. 80).
138. (VI, 11). Вера, уверенность
И Милль и Спенсер принимают, что уверенность
в аксиомах есть следствие очень ранней привычки;
«о Спенсер, кроме того, признает «немыслимость про-
тивоположного последним доказательством всякой уве-
245
ренности (belief)» (Mill’s Logic, Book II,Ch. VII, p. 296).
«Кроме этой гарантии истины другой нет» (ib., р. 302)^
С последним Милль не соглашается. Он говорит:
«под немыслимостью мы разумеем иногда невозмож-
ность отделаться от идеи, а иногда неспособность отде-
латься от уверенности» (ib., р. 303). Так прежде не ве-
рили в антиподы, хотя и легко могли себе представить
людей кверху ногами; а другое — мы и не можем себе
представить пределы
пространству, это уже немысли-
мость идеи (ibM р. 304).
Это смешение понимания и представления.
Очень удачно выражение Бокля и совершенно вер-
но: «теоретически католики должны быть большими
ханжами, но протестанты превзошли их в этом практи-
чески» (Бокль, ч. 1, гл. VIII, стр. 415).
Протестантизм держался разрозненностью Герма-
нии, как и ее протестантская наука; соединение Гер-
мании будет, я думаю, гибелью протестантизма, и прус-
ский король, сделавшись протестантским
папой, покон-
чит последний смысл его. Это уже не будет протестация
против католицизма, но протестация против здравого
смысла, науки и свободы. Выйдя на почву человече-
ских исследований,— он должен или сломить их, или
быть сломлен ими. Прусский верховный совет церкви
(Oberkirchrath) знает одного главу — короля; а теперь
этот совет и этот король становятся в главу протестан-
тизма. В Англии глава — король, но, к счастью, сам-то
глава — очень слаб.
Церковь должна быть прибежищем
для чувств и ве-
рований человека, а не становиться на широкой до-
роге его мирских дел; пусть человек бежит к ней от *мир-
ского шума, но ей самой выходить на светский рынок не
приходится. Не объявляя претензии на подчинение ра-
зума, пусть она обращается только к сердцу человека,
да и то не лезет к нему в глаза, а открывает ему дверь
свою, когда он в нее стучится.
Так церковь не только просуществует долго, а по на-
шей вере до скончания века. Как конституционный ко-
роль,
она должна сохранить себе одно право прощать
246
и миловать, предоставляя суд небесный богу, а суд зем-
ной людям. Кроме того, ей еще остается утешать и по-
давать надежду перед мрачным зевом могилы. Хрис-
тос на земле только прощал. Церковь занимает его ме-
сто на земле, не на небе. В таком положении в обще-
стве церковь не будет возбуждать ненависти, а только
любовь: неверующие не будут кидаться на нее. Пусть
это будет место отдыха для сердца, убежище для наших
стремлений, которых не
удовлетворит мир, а таких же-
ланий найдется много. Пусть не допускает в себя рынка
и не позволяет прятаться под сенью дома божия поку-
пающим и продающим: это ее право, как право каждого
хозяина; но пусть и сама не идет на рынок, где по-
купают и продают, а, следовательно, давят друг друга
за горло; или пусть не удивляется, что ей надают толч-
ков и прольют на землю ту чашу, которая ей вручена
Христом, а ее саму будут продавать и покупать как то-
вар: таковы уже обычаи светского
рынка.
И не думайте, чтобы церковь в таком положении
имела менее влияния на людей, чем теперь; много есть
струн в сердце человека, которые привлекут к ней.
В таком положении она не будет нуждаться в жан-
дармах и не привлечет к себе той ненависти и презре-
ния, которые по справедливости принадлежат жандар-
мам. Пусть прогонит от себя этих защитников, если
хочет, чтобы [всякий справедливый и добрый] человек
защищал ее. Если бы ей пришлось погибнуть,— чего ни-
когда не случится,—
то пусть лучше погибнет, чем сама
станет в ряды детей погибели. Погибнув так, она вос-
креснет, как Христос; но, погибнув смертью детей поги-
бели, смертью сломленной силы,— она погибнет без-
возвратно.
139. Предмет и явление. Сила, причина и следствие.
Гипотеза и теория. Вера в причину. Вера во всеобщность
закона
См. об этом у Броуна, р. 30.
Также стр. 37, Т; е. Lectures, t. VII.
247
Гипотеза и теория. Lectures, t. VIII, p. 44.
Вера в причину, р. 52 и 53.
(Ф. 316, папки № 25, 26, 28, 29, 31).
140. Материализм. Ошибки логические. (Вера)
Показав, как несправедливо Ньютон считает закон
притяжения без посредника нелепым и что это только
факт необъяснимый, но он так же необъясним, как и
тот, что материя имеет влияние на материю через при-
косновение (см. листок об этом), Милль говорит (Mill’s
Logic, Book V, Ch. III,
p. 314—315):
«Странно, если после такого предостережения (ошиб-
ки Ньютона) кто-нибудь будет основываться на очевид-
ности a priori таких предложений, каковы: «материя
не может думать; пространство бесконечно; ничто не
может быть сделано из ничего». Верны или не верны
такие предположения, здесь не место об этом толковать;
если бы даже эти вопросы могли быть решенными че-
ловеческими способностями. Но эти доктрины так же
не самоочевидные истины, как и то старое правило,
что
вещь не может действовать там, где ее нет, чему,
без сомнения, теперь не верит ни одно воспитанное лицо
в Европе». «Материя не может думать;—почему? пото-
му что мы не можем представить мысли, присущей ка-
кому бы то ни было расположению материальных
частиц».
HtT, не потому; а потому, что по «Логике» того же
Милля, чтобы высказать предложение — «материя мо-
жет или не может думать», надобно сначала определить
слова «материя» и «душа», а определив, мы увидим,
что единственное
понятие, которое мы можем сделать
о материи, это то, что она есть отрицание сознания,
так что не сознание, а мысль или душа результат со-
знания: тогда другими словами выйдет: «то, что не имеет
сознания, имеет сознание», а это будет не мысль, а
слова. Может быть, материя и думает, но тогда это не та
материя, о которой мы думаем.
«Пространство бесконечно, потому что мы не внаем
части пространства, которая не имела бы за собой дру-
248
гой части, мы не можем понятъ абсолютного окон-
чания»
Это верно; но верен здесь психический факт, что мы
не можем представитъ себе бесконечность пространства
и не можем понятъ конечного.
«Ex nihilo fit nihil, ибо, не зная ни одного физиче-
ского продукта без предшествующего ему физического
материала, мы не можем, или думаем, что не можем,
вообразить творение из ничего».
Это уже совершенная дичь и противоречит самому
Миллю, который
выражает твердую уверенность в
причинности, а ведь это то же, что вера в причину.
«Но все эти вещи, оканчивает мысль К. Бернар,
так же мыслимы сами в себе, как и притяжение без по-
средствующей среды, которое Ньютон считал слишком
большой нелепостью для всякого лица, могущего
мыслить» (ib., стр. 315).
Да и немыслимо, если мыслимость не заучение слов и
привычка употреблять их, хотя бы в них заключалось
противоречие* (Ф. 316, папки № 25, 26, 28, 29, 31).
141. Закон противоречия.
(Вера)
Милль выписывает из письма Ньютона к Бентлею:
«Что притяжение должно быть присущим, прирожден-
ным и существенным материи, так что одно тело может
действовать на другое через пустое пространство, че-
рез посредство чего-нибудь другого,… есть для меня та-
кая громадная нелепость, в которую не впадет ни один
человек, который имеет способность мыслить о философ-
ских предметах» (Милль, Log., Book V, Ch. III, p. 314).
«Эта выписка должна быть вывешена на стене в ка-
бинете
каждого, кто занимается наукой и который иску-
шается признать факт невозможным только потому, что
ему он кажется немыслимым».
Верно! Но обоюдоостро: этого факта вы так же не по-
нижаете, как и Ньютон; но привыкли к нему, т. е. при-
выкли к противоречию, уже волнующемуся в вашем
уме и которое давило Ньютона. Вы определяете мате-
рию как нечто, занимающее определенное пространство;
249
вы строите на таком понятии материк все ваши опытные
науки и материалистическое миросозерцание; вы не
признаете сил отдельными от материи и верите в действие
материи вне собственные пределов. Вы можете укорить
Ньютона только тем, что он мучится противоречиями,
которые в вашем уме лежат спокойно друг подле друга.
«Мы, говорит Милль, находим, что «действие тел без
взаимного соприкосновения» не менее удивительно,
чем действие тел при взаимном
соприкосновении; мы
познакомились с обоими фактами и находим их оди-
наково необъяснимыми, хотя одинаково удобными для
верования. Для Ньютона же один, с которым его вооб-
ражение было уже знакомо, казался естественным;
тогда как другой от противоположной причины казался
нелепым» (ib., р. 315).
Значит, вера на основании факта — вот девиз Мил-
ля, как и девиз Спенсера.— Девиз хороший, но только
надобно его уже везде проводить.
В факт же мы верим на основании чувства, в чув-
ство
же верим, потому что не во что больше верить…
Это отлично; и под этими фразами скрывается мате-
риалистическая проповедь
(Вся выписка зачеркнута карандашом. — Ред.)
(Ф. 316, папки № 25, 26, 28, 29, 31).
142. Индукция. Рассудок (кар. причина вещей)
«Индукция (или наведение) есть такое действие души,
по которому мы заключаем, что то, что мы признаем ис-
тинным в частном случае или случаях, должно быть во
всех случаях, которые походят на первые в известном оп-
ределенном
отношении» (Mill’s Logic, В.III. Ch.II,p. 319).
Из этого мы выводим, во-первых, ошибку Милля,
что он не положил сравнения в основу логики; а во-вто-
рых, что индукция основана, с одной стороны, на срав-
нении, а с другой стороны, на вере в разумность мира,
т. е. в одну причину всех вещей.
Последнее опровергает Милль, стараясь доказать,
что вера в причину взята также из опыта, а не пред-
шествует опытам (ib., р. 342).
250
Он просто объясняет ее «привычкой ожидать, что то,
что было найдено верным однажды или несколько раз
и никогда не было найдено ложным, будет и снова най-
дено верным».
Но не сам ли Милль говорит несколько выше: «Ход
природы, правда, не однообразен, но бесконечно раз-
нообразен. Некоторые явления появляются в тех же са-
мых комбинациях, в которых мы встретились с ними
в первый раз; другие кажутся (почему же только ка-
жутся?) всегда
капризными; тогда как иные, которые
мы привыкли видеть связанными с известными рядами
комбинаций, мы находим неожиданно оторванными от
некоторых элементов, с которыми они были связаны,
и соединены с другими» (ib., р. 346—347).
Вера в причину выходит сначала из плохой индукции
(бэконовское inductio per enumerationem simplicem,
ubi non reperitur instantia contradictoria), в которой
берутся только факты подтверждающие, а не противо-
речащие (ib., р. 347).
Тогда, по-моему,
должны быть образованы не одна,
а две веры — одна в причину, а другая — в беспричин-
ность, и вторая с увеличением числа опытов и с постоян-
ным открытием явлений, причина которых неизвестна,
должна бы привесть к торжеству веры в беспричинность,
а вышло наоборот.
Плохая индукция per enumerationem simplicem
исправляется другой такой же индукцией.
«Способ исправления одного обобщения другим, тес-
нейшим, обширнейшим есть действительный тип науч-
ной индукции» (ib., Ch. IV,
p. 356). «Сильнейшая ин-
дукция является пробным камнем для слабейших»
(ib., § 3, р. 357). «Сильная индукция становится еще
сильнее, когда слабая с ней соединяется» (ib.). «Можно
принять за общее правило, что все индукции, как силь-
ные, так и слабые, которые могут быть связаны разум-
ностью (ratiocination), укрепляют одна другую» (ib.f
р, 358).
(Ф. 316, папки № 25, 26, 28, 29, 31).
251
2. ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ЧУВСТВО КАК ВОСПРИЯТИЕ
ИСТИНЫ В ОБРАЗНОЙ ФОРМЕ
а) Обзор философских мнений об эстетическом и
нравственном чувствах
143. (IV, 1). Эстетическое чувство (Фрис).
Для эстетического чувства важно сочинение ирланд-
ца Гётчесона, который выставил «моральное чувство
как принцип морали» (Inquiry into original of our ideas
of beauty and virtue. Lond., 1746, by Hutcheson).
Сюда же следует (отнести) Адама Смита (Theory
of moral
sentiments, by Adam Smith, 1767). Он против
Гётчесона защищает учение о сочувствии.
Важно также:
Review of the principal questions and difficulties
in morals, by Rich. Price, 1758.
144. (V, 3). Идея права. Идея нравственности и эсте-
тическое чувство (Гербарт, Тренделенбург)
Недостаток теории Гербарта математичностъ: у него
все эстетическое — формально: но это не так в нрав-
ственном, (где) уже не форма, а содержание прекрасно.
Эту формальность эстетического прекрасно
опроверг
Тренделенбург в отношении трех ив пяти основных идей
эстетического, выводимых Гербартом из сочетаний. Эти
пять идей:
1. Идея свободы, когда воля и суждение сходятся
в своем приговоре. Такая гармония воли и суждения
нравится вкусу (ib., S. 5).
2. Идея совершенства. В отдельных стремлениях нам
нравится энергия; в сумме — многочисленность; в
системе — взаимное воздействие.
Здесь стремление и воля берутся только в отноше-
нии различия их силы (вот откуда и ошибка
Бенеке)
(S. 6). Чувство совершенства естественно рождается
при сравнении.
Вот эту-то идею особенно и справедливо критикует
Тренделенбург (см. S. 19).
252
3. Третья идея доброжелательство (Wohlwollen).
Ее не должно смешивать с состраданием и сорадостью,
которые не возбуждают эстетического чувства, ибо яв-
ляются только повторением. (Но это неправда—созерца-
ние сострадания возбуждает эстетическое чувство).
Идея доброжелательства уясняется противополож-
ностью: ибо зависть и злорадство Суть отвратитель-
нейшие из всех отношений.
Мое. Но разве громадное злорадство не возбуждает
эстетического
чувства? Торжествующий ад — эстети-
ческое произведение. Но что здесь нам нравится?
Громадность чувства, а не само чувство. Вот доказатель-
ство, что не все эстетическое в одной форме, тут форма
(громадность) эстетическая, содержание же отврати-
тельно.
«Добро, говорит Гербарт, потому добро, что оно без
всякого мотива является добром для чуждой воли (?)».—
Это верно.
К этому же практическому определению добра пришел
Адам Смит, призывавший судить о нравственности по-
ступка
того, кто не имеет в нем никакого интереса.
Давид Юм также в этом отношении предшествовал
Гумбольдту (David Нише, Essays and Treatises. Vol. II,
p. 346, Edinb., 1793).
У него также нравственное чувство аналогично со
вкусом (Trendelenb., S. 15). «Разум познает истинное и
ложное; вкус дает чувство прекрасного и отвратитель-
ного, добродетели и порока» (ib., S. 16).
4. Четвертая идея права. Спор отвратителен; а пра-
во эстетично как предупреждающее спор.— Следова-
тельно,
это взаимное согласие спорящих для того, что
бы прекратить спор, и оно же делается правилом для
предупреждения спора.
5. Но всего замечательнее, как выводит Гербарт
идею возмездия.
Поступком можно назвать событие, если в нем воля
сходится с делом. Но поступок тогда только поступок,
когда им произведено что-нибудь,чего без него бы не было.
Поступок, как нарушитель, не нравится, и величина
253
поступка определяет величину отвращения. Но когда
поступок уже совершен, остается мысль о возвращении
назад. Положительное, которое не нравится, приводит
к мысли равного ему отрицания, с которым вместе по-
ступок обратится в ноль (ib., S. 9),
По этому поводу Тренделенбург замечает справедли-
во, что это значит поставить «vis inertiae принципом мо-
рали» (ib., S. 25).
Все эти идеи, по образцу древних, Гербарт переносит
в общество, которое
и является у него громадным чело-
веком. Явления общества вызывают эстетическое чув-
ство (ib., S. 10).
145. (V, 4). Нравственное и эстетическое (Гербарта)
Вот как в коротких словах характеризует Трен-
деленбург учение Гербарта об эстетическом:
«Элементы, соединяющиеся в эстетическом воззре-
нии, сами по себе безразличны, но гармоническое нра-
вится в их отношениях. Поэтому не должно ничего вы-
водить из содержания стремлений и представлений,
и очевидность нравственного
выходит единственно из
формы созвучия» (Philosophische Abhandlungen, Berlin,
1856, S. 16).
Мое. Кажется, в основе всего эстетического лежит
идея вечного мирового прогресса: все, что на нее наме-
кает, нравится нам, увлекает нас; — все, что противо-
речит ей, неприятно поражает нас. Люди, не верящие
в эту» идею, разочарованные, еще более, чем верующие,
высказывают, как нужна она для души.
Мое. Стремление к совершенству врождено, а
что такое совершенство,— решает вкус при
акте срав-
нения. Пока нечего сравнивать, до тех пор нет и шага
вперед; шаг же назад невозможен. «Отведавый слад-
кого, говорят Владимиру бояре, отвращается от горь-
кого»; но ведь это горькое язычество казалось им сла-
достью, пока они не узнали христианства.
Мое. Принцип деятельности прогрессивной мы Пе-
реносим из себя на внешний мир.
254
По Канту, ничего нет в мире безусловно доброго,
кроме доброй воли, а добра та воля, которая имеет
всеобщее своим мотивом и своим предметом (ib., S. 27).
Мое. С психологической точки зрения — это инс-
тинкт, влекущий человека к мировой работе.
По Гербарту, этика должна быть независима от ме-
тафизики и психологии и ее принципы должны быть яс-
ны сами по себе, чтобы не ожидать этой ясности из со-
вершенства таких трудных наук, каковы метафизика
и
психология.
Это верно; то же замечал и Руссо; но ясность для чув-
ства должна сделаться ясностью для мысли, войти в ми-
росозерцание человека.
Мое. Гербарт из формы гармонии выводит сущность
нравственного; но — не наоборот ли, не вырастает ли
гармония из сущности? Язык прекрасного— гармония,
врожденная и душе и телу, но само прекрасное — бог.
Что философское учение о нравственности находится
и до сих пор в самом плохом состоянии, см. у Тренде-
ленбурга (Philos. Abh.,
S. 36).
146. (IV, 9). Эстетические чувствования Диттеса
Эстетические чувствования не развиты в психологии
Бенеке, так что он сам указывает на сочинение
Диттеса, как на отличное развитие его идеи о проис-
хождении и развитии эстетических чувствований (Lehr,
der Psychol., § 248, S. 178, примеч.).
Но по нашему мнению, сочинение Диттеса, удостоив-
шееся получить какую-то премию, более чем посред-
ственно (Das Aestethische nach seinem eigenthümlichen
Grundwesen und seiner pädagogischen
Bedeutung. Eine
gekrönte Preisschrift von Frid. Dittes, Leipz., 1854).
Диттес остается совершенно верен основной мысли
Бенеке и проводит ее далее и в педагогическую прак-
тику*
Здесь определеннее высказывается, что эстетиче-
ские чувства возникают тогда, «когда возбуждение
(Reiz) не вполне преодолевает первичную силу (до какой
255
же степени? Это тем важнее было определить, что за
этой степенью начинается пресыщение и страдание. См.
выше у меня), но наполняет ее в превосходнейшей степени
(in auegezeichneter Fülle); так что возникают поднятия,
живые и сильные возбуждения душевного бытия, ощу-
щения наслаждения» (Dittes, S. 6).
Несмотря на всю неопределенность и неясность этого
определения чувства наслаждения, все же видна его неос-
новательность. Что это такое ausgezeichneter
Fülle?—
либо полно, либо неполно, или более чем нужно для напол-
нения первичной силы, или менее чем нужно… Середины
здесь не может быть. Почему же здесь первичная сила
вдруг, вместо того, чтобы быть подавленной слишком
сильным возбуждением,— начинает подыматься? Где же
причина этого поднятия? — не в самом же неравенстве
отношений, из которого возникло и страдание (см. выше)
и пресыщение. Следовательно, ясно, что причина на-
слаждения здесь не объяснена, а вопрос о ней запрятан
в
хитросплетенную немецкую фразу. Причина же его
в стремлении.
«Взор и слух единственные эстетические чувства»
(ib., § Ю и § 25). Это вздор! — эстетических внешних
чувств нет: осязание так же источник наслаждения,
как и вкус, как взор и т. д.
К атому опошлению искусства привело Бенеке и
бенекианцев желание вывести все душевные явления
из чувственных восприятий.
Но у Диттеса, равно как и у Бенеке, очень хорошо
развито, как мало-помалу возникает в душе возможность
понимать
или, лучше сказать, чувствовать эстетическое.
«Как мог бы живописец изобразить Mater dolorosa или
ужаснувшегося Лютера и т. д.; поэт — трагическую
судьбу героя, тоску заключенного по освобождению;
я как мы могли бы понять поэта и художника, если бы
у производящих и у созерцающих не было, по крайней
мере, аналогичных душевных состояний, пережитых
ими» (ib., § 14)?
Слова Гёте «живое чувство состояний и способность
его выразить делает поэтов» (ib., § 17, S. 18).
256
«Художество есть вместе средство и цель, оно не
имеет никакого, вне его лежащего интереса» (ib., §20,
S. 20).
Это верно, ибо во всем полезном мы видим только
средство удовлетворения наших стремлений,— а ху-
дожественное произведение само удовлетворяет этому
стремлению, не потребляя: оно вечно в этом смысле.
То же ложное понятие о художестве встречаем мы
и у Диттеса; так, он не может любоваться цветами про-
сто, а только представляя
их «милыми детьми отече-
ского божества и материнской земли» и тому подобные
глупости (ib., § 21, S. 21.)
И при этом он говорит, что таким образом мы пони-
маем «внутреннюю жизнь природы»; но разве эти бредни
составляют внутреннюю жизнь природы?
Диттес, следуя раз предвзятой мысли, говорит «о по-
степенном усовершенствовании искусства в истории»
(ib., § 28). Но едва ли это так,— мы не превзошли гре-
ков в искусстве.
Я думаю, что естественные науки оказывают боль-
шую
услугу поэзии, сбрасывая шелуху сентименталь-
ности, делая невозможной и забавной поэзию, как ее
понимают Бенеке и Диттес.
б) Понятие прекрасного в его соотношении с идеями
истины и добра
147. (IV, 2). Эстетические чувства
«Всегда замечают разницу между прекрасным и
полезным и между искусством и ремеслом» (Bain,
Emotion, p. 247),
Мое. Не потому, чтобы полезное не могло быть пре-
красным; но потому, что прекрасное выдается в чистоте
своей только в тех предметах, польза
которых в той
только и состоит, что они прекрасны.— Всякая вещь
может иметь много польз: польза статуи в ее красоте.
Так уничтожается пустой спор между полезным и пре-
красным. Статуя полезна для того, для кого она прекрас-
на; для кого же она не прекрасна,—для того бесполезна.
257
Человек, который говорит, например, что творения
Шекспира не стоят ничего, говорит совершенную правду,
ибо он не понимает их: вот и все; персик для волка,
цыпленок для слона—тоже ничего не стоят; цена вещей
в нас самих, а не вне нас.
«Слух и зрение нужны для эстетического влияния
на душу» (ib., р. 218).— Это вздор: и осязание, и обо-
няние, и вкус — тоже.
«Это факт, что люди находят удовольствие в созер-
цании богатства, силы, славы,
сильных чувств, в ко-
торых принимают участие» (ib., р. 219).
Вот над этим-то фактом и следовало подумать, тогда
бы Бэн не написал об искусстве столько пошлостей.
«Разыскание признака, общего всему художествен-
ному, совершенно не удалось, потому что искали одной
причины. Мы же признаем теперь доктрину множе-
ства причин. Так, движение может быть производимо
множеством разнообразных двигателей — силой жи-
вотных, ветра, воды, пара, электричества и т. д.»
(ib., р. 250).
А
теперь-то вот и нашли, что двигатель все один,
только в разных платьях.
Вообще Бэн, как и всякий Другой материалист,
приходит в большое замешательство (перед) эстетическим
принципом, и потому для него выгоднее, чем искать
одну причину, признать их множество, удобнее увиль-
нуть от категорического ответа.
Стюарт говорит, что попытка определить, что та-
кое «красота», доказала только невозможность этого
определения (ib., р. 251, примеч.).
Стюарт же говорит, что первую идею
красоты дала
краска (цвета). Вот почему и поэты, желая что-нибудь
нарисовать воображению, берут свои эпитеты преиму-
щественно ив красок.
Но разве тут удален вопрос: почему нам одни-соче-
тания цветов нравятся более других?
Замечательная уловка!
«Действительные наслаждения теплом или прохла-
дой суть удовольствия чувственные, но произведение
258
этого эффекта на душу зрителя сочетанием красок, света
в тени считается уже артистическим» (ib., р. 255).
Но разве холод снега кому-нибудь приятен? А хо-
рошая картина глубокой зимы доставляет наслажде-
ние? Кому приятны страдания людей, а картины их
производят наслаждение и у доброго человека.-^- Здесь,
следовательно, красота истины: я не любуюсь безот-
радным болотом, но любуюсь картиной такого болота,
любуюсь красотой истины воспроизведения,
любуюсь
силой кисти художника.
Другую причину Бэн находит в возбуждении любви—
нежностью, гладкостью предмета (т. е. в возбуждении
похоти); так, нежный цветок и т. п. …А дуб; а знаме-
нитый торс в Ватикане, лишенный рук и ног, не воз-
буждающий ни сострадания, ни любви,— почему приз-
ван первым произведением художества в мире?
Красота потому и неуловима, что она может приме-
шиваться ко всему, даже к тому, что мы ненавидим.
Также женщина ненавидит красоту другой, но
потому
и ненавидит, что сознает.
148. (IV, 14). Чувство красоты
Старинный французский писатель, La Chambre,
говорит, что красота лишает человека разума и «вели-
чайший человек, чувствуя ее действие, не знает ее при-
чины» (Броун, р. 350).
Броун весьма удачно называет чувство красоты «всего
живее чувствуемым и всего менее понимаемым».
Мое. Напрасно, кажется, -относить чувство кра-
соты к чувствованиям (Emotion). Это есть особое
внешнее чувство, специально человеческое.
Чувство
удовольствия, сопровождающее чувство красоты, сле-
дует отделить от самого ощущения красоты.
Красота не вне человека, а внутри его: «одна душа
есть живой источник красоты» (ib., р. 353).
Броун сравнивает ее с чувством цвета предметов,
ибо мы сами их расцвечаем. Это односторонне: причина
цвета предмета лежит и в природе и в душе точно так же,
259
как и причина всех ощущений, а следовательно, и ощу-
щения красоты.
Вообще, когда придется писать о чувстве красоты,
то следует вновь перечесть эти главы у Броуна (см.
Lectures: LIV, стр. 352 и след. за тем).
149. (IV, 15). Эстетическое чувство. Музыка
«Музыка, говорит Бенеке, возникает без посредства
понятий, из внутреннего движения сердца (Gemüthes)
и потому непосредственнейшим образом привязана к эле-
ментарным ощущениям, элементарным
движениям серд-
ца» (Erzieh, und Unter., Т. I., § 23, S. 124).
150. (IV, 16). Ощущение слуха. Музыкальный слух.
Эстетическое чувство
Броун очень метко замечает, что у многих людей
при очень чутком слухе нет музыкального уха (Бр.,
р. 129).
Не выходит ли из этого, что чувство музыкальной
красоты условливается уже физическим устройством
слухового органа?
151. Эстетические душевные движения
Бэн решительно видит и здесь только постройку из
собранного материала. Но,
кажется, и сам чувствует,
что одного собранного материала, как бы он богат ни
был, еще недостаточно. «Артист должен удовлетворить
господствующему чувству своего творения — мелодии,
гармонии, пафосу, юмору». Но Бэн, кажется, забывает,
что это самое чувство не что-нибудь внешнее, а выходит
из самого же художника (Бэн, ч: I, р. 621—622). «Он
удовлетворяет потребности публики». Так! Но кем же
создаются сами художественные потребности общества,
как не артистами? «Составлять комбинации,
произво-
дящие глубокий и могущественный эффект на душу че-
ловека, не легко; но секрет состоит в собранном оби-
лии (материалов) артистического ума». Но разве не .сам
260
артист собирал эти материалы? И разве не от этого за-
висит их обилие, их качество, их род, их оттенок, свой
у каждого самостоятельного художника? Разве не им
не только собраны материалы, но и создана идея, по ко-
торой он их строит? Бэновский и миллевский взгляд
на артистов сильно противоречит тому факту, что ху-
дожники так редки, так разнообразны, так своеобраз-
ны; той врожденности таланта, в которой можно, по-
жалуй, сомневаться, но
которую надобно опровергнуть,
ибо этот факт слишком кидается в глаза.
Бэн однакоже не согласился с нашей натуральной
школой и не признает, что природа главный его руко-
водитель и истина окончательная его цель. Это при-
надлежность ученого. Для артиста же руководителем
должно быть чувство, а целью эстетическое наслажде-
ние. «Искусство потому и искусство, что оно не при-
рода» (р. 623). Странное изречение для натуралиста!
Что же такое может быть вне природы?— Отвергнув
внутреннюю
природу в человеке, человеку только при-
надлежащую, реалисты не знают, что делать с искус-
ством, и наши уже последовательнее выбрасывают его
совсем. И вот у Бэна пошлое понятие, что «искусство
украшает природу» (ib., р. 623), но откуда же оно берет
принцип для этих украшений? Но тут же далее говорит,
что поэт «экзальтирует реальность в область идеально-
сти» (ib., р. 623). Не наоборот ли? Не делает ли поэт
идеальное реальным?
Эстетика и мораль — камни преткновения для реа-
листов.
Отказаться от них они не могут по своему чело-
веческому чувству и-вывести их не могут из своих реаль-
ных принципов.
(Ф. 316, № 69, «Записная книжка», л.л. 19—20).
152. (IV, 7—8). Эстетическое чувство. Бенеке и мое
Бенековское объяснение чувств эстетических очень
неудовлетворительно.
Они начинаются из чувств удовольствия; но само
чувство удовольствия начинается тогда, когда возбуж-
261
дения более, чем нужно для наполнения первичной
силы. (См. Raue, § 52, р. 128 и выше § 24).
Но не показано отделение от страданий, как мы уже
видели, которые тоже начинаются, когда возбуждения
более.
«К этому началу при прекрасном и возвышенном
присоединяется еще подкладка, возникающая из глу-
бокого, уже приобретенного содержания души». (См.
Raue, § 52, S. 128).
«Чувства возвышенного и прекрасного называются
эстетическими чувствами.
Они нарождаются сначала
внешними впечатлениями, которые производятся на нас
предметами при их восприятии. Но до собственно эсте-
тических они возвышаются посредством того, что мы
в эти предметы влагаем стремления (Stimmungen),
соответствующие впечатлениям, сделанным на нас ве-
щами; так что мы представляем себе розу, например, оду-
шевленной любовью, фиалку — скромностью; тюль-
пан — гордостью; скалу — мужеством и постоянством и
таким образом одухотворяем чувственное. Без
этой
подкладки эти чувствования остались бы только телес-
ными чувствованиями (Lehrb. der Psycholog., § 246
и примеч.).
Из этого уже видно, какое узкое, сантиментально
немецкое представление о прекрасном и возвышенном
имел Бенеке. Немец не может любоваться розой без
того, чтобы не мечтать о любви; и фиалка потеряет для
него свою прелесть, если он не назовет ее скромной!
Но какую же подкладку делаем мы небесному своду,
что он так кажется нам красивым?
Но почему фиалка
скромна, а роза любовна? Вот
римские женщины, говорят, ненавидели запах розы?
На это Бенеке не отвечает, но отвечает его популяриза-
тор Raue: das veiss ich nicht; но однакоже я убежден,
что крапива не породит во мне идеи скромности (Raue,
§ 53, S. 131).
В конце Raue так резюмирует свое объяснение эсте-
тических чувств:
262
«Эстетические чувства возникают ив соединения
внешних впечатлений с настроениями (Stimmungen),
уже в нас лежащими. Они возникают оттого, что мы не
останавливаемся на чувственном впечатлении предме-
тов, но проникаем в их внутреннюю жизнь, считая их
внутреннее подобным нашему внутреннему и таким
образом одухотворяя чувственное» (Raue, § 53, S.
134).
Ложь такого понимания красоты так очевидна, что
едва ли нужно ее доказывать; но в этом
взгляде и своя
доля правды: прекрасное и возвышенное в природе на-
ходится именно в области высших духовных стремле-
ний человека, и мы находим природу возвышенной
и прекрасной, поскольку в ней удовлетворяются, или
кажется нам, что удовлетворяются, эти стремления.—
Море, небо, звезды… говорят нам о бесконечности,
о бесконечной мудрости, бесконечном могуществе, веч-
ности или громадных периодах времени в сравнении
с недолгой жизнью человека,— и тем удовлетворяют
высшему
духовному стремлению человека и постольку
кажутся нам возвышенными. Как телесный голод де-
лает хлеб пищей, так духовный голод делает природу
возвышенной.
Но что заставляет человека любоваться могуществом?
силой? мудростью? Даже тогда, когда они грозят ему?
Это уже врожденное свойство души человеческой; пе-
чать той мастерской, из которой эта душа вышла; если
эта печать легла на кусок материи, то на печати начер-
тано слово бог!
Однакоже, если возвышенное всегда прекрасно,
то
не все прекрасное возвышенно, и тогда прекрасное толь-
ко красиво. Отчего же зависит эта красивость предмета?
Конечно, причина ее внутри человека? Но отчего нам
нравятся одни сочетания цветов и не нравятся другие
и т. д.? Это неизвестно: может быть, причина этого ле-
жит в наших нервах, в гармоничности их движений при
единстве впечатлений и в дисгармонии.
Причины красивости сочетания цветов и линий и
причины приятности сочетания звуков точно так же неиз-
263
вестны, как и причины приятности вкусов и запахов»
ощущений тепла и т. д. Бенеке и его последователи го-
ворят, что проводниками эстетических ощущений яв-
ляются по преимуществу слух в зрение, но это справед-
ливо только в том отношении, что вообще впечатления
зрения и слуха гораздо обширнее, разнообразнее и
прочнее всех остальных взятых вместе; но впечатления
обоняния, например, так же могут принимать участие,
как и зрение, в изображении
наших эстетических стрем-
лений; благовоние запаха и сладкие вкусы нередко слу-
жат для этого. Это объясняется тем, что вообще челове-
ческое сознание усваивает все только через сравнение;
так мы говорим о сладких звуках, о гармонии линий,
о благоухании поэзии и т. п., т. е. соединяем два впе-
чатления двух разнородных чувств и тем сильнее уяс-
няем себе каждое и запечатлеваем в себе: ибо понять
значит сравнитъ.
Но гармонические звуки, краски, линии, сладкие
вкусы и благовония,
вообще все, что нравится нашим те-
лесным чувствам, в самых разнообразнейших сочета-
ниях, только одежда, в которую мы облекаем истинно
эстетическое содержание; облекаем его во все, что нам
кажется лучшим, как украшаем божий храм всем, что
дает лучшего наша земля и что нам наиболее нравится—
в драгоценный камень, золото, мрамор, хотя это такая
же земля, как и все остальное.
Впрочем одежда эта не есть случайность, а необ-
ходимая принадлежность всякого художественного про-
изведения:
ибо назначение его действовать возможно
полнее на всего человека, действовать полнее именно
на его чувство, по возможности менее утомляя его ум.
Истина, как бы возвышенна она ни была, не произведет
того полного впечатления, которое мы называем худо-
жественным, если мы должны добираться до нее мате»
матическими выкладками и выкапывать ее из пыли ар-
хивов: дайте ей такую форму, чтобы она без труда лиг
лась в нас, теша разом наш слух и взор, напоминала
нам приятные благоухания
и любимые вкусы, тогда она
произведет на нас то впечатление, которое мы называем
264
Художественно эстетическим: это истина, дающая себя
чувствовать.
Истина без художественной формы не художество;
но и художество, в середине которого нет истины, пищи,
удовлетворяющей духовному голоду человека, — не ху-
дожество, а только телесное наслаждение сладостью
звуков, гармонией цветов, напоминаниями благоуханий
и приятных вкусов. Так совершенно пасть искусство
не может, разве только превратившись в возбуждение
чувственности,
в соблазнительные картинки. Все же
в нем будет относительная правда, верная рисовка,
то, за чем гналась наша натуральная школа,— и в этих
картинках влечет нас истина изображения, даже безоб-
разия и нравится могущество кисти или пера, т. е. дру-
гими словами, могущество человека, которым мы на-
слаждаемся по врожденному нам стремлению к могу-
ществу.
Мы наслаждаемся даже могуществом Тамерлана,
до тех пор, пока не поймем преимущество нравственной
силы перед физической и
не увидим в Тамерлане помехи
для возникновения и развития этой нравственной силы,
ва историческими судьбами которой мы следим с боль-
шим участием. Следовательно, стремление к совершен-
ству есть основание всех эстетических и нравственных
чувствований, как стремление к жизни или деятельности
есть основание всех душевных чувствований.
153. (IV, 13). Искусственное и естественное
Во всем своем «Эмиле» Руссо вооружается против
искусственного и защищает естественность; естествен-
ность
у него оправдание, искусственность обвинение;
но он нигде не задает себе вопроса, чем отличается ис-
кусственное от естественного: естественно ли, например,
людоедство или искусственно?
Дело в том, что это деление вовсе не основательно:
все, что есть,— естественно, уже потому, что оно
естъ.
265
154. (IV, 5). Эстетическое чувство
Науку тоже противополагают отчасти красоте, но это
несправедливо. Если бы наука своими результатами
могла действовать так же открыто и легко, как произ-
ведения художества, то она и была бы художеством.—
Астрономия, ботаника, история, математика, если
содержание их вполне соответствует форме, художе-
ственны в высшей степени; но чтобы наслаждаться этими
художествами,— нужно много приготовлений, много
посредствующих
мыслей, и чувство убивается; пусть
результаты астрономии сделаются доступны одному
взгляду человека, и это будет высокая поэма.
Законы гармонии в музыке уже условлены (The
Emotion, by Bain, p. 259).— Но это еще не красота;
это только условие ее, это язык, которым может выска-
заться красота, но она может и не высказываться им,
и очень безобразная вещь может быть построена по всем
законам музыкальной гармонии. Как гармония звуков,
так и гармония цветов (ib., р. 263) еще не
красота,а язык
красоты—средство для легкой и разнообразной деятель-
ности глаза; как гармония для удобной деятельности
слуха — это дорога к красоте, которой не обладает нау-
ка, дорога которой утомляет и охлаждает порыв души.
Симметрия — красота (ib., р. 269)—опять вздор. «Де-
рево с листьями, выросшими в одну сторону, в высшей
степени не симметрично» (ib., р. 269).— Но разве оно не
может быть прекрасно? Экой вздор!
Правда, симметрия тоже облегчает путь к ощущению
идеи,
но это не необходимое условие.
Основания красоты различны, но везде она истин-
на: даже истинное изображение лжи и безобразия.Гар-
мония частей — тоже сила; целесообразность всех ча-
стей — тоже сила.
Кажется, что красоту можно определить так: сила
истины в такой форме, что она делается доступна чув-
ству без посредства рассудка.
Пространство и время мы измеряем мускульным чув-
ством (ib., р. р. 274 и 275),— это правда; но не мускулы
266
измеряют нам бесконечность и вечность, сущность ко-
торых и состоит в неизмеримости…
Геология и история — указывают вечность, перево-
роты и т. д. (ib., р. 275). Какой вздор! Гораздо прежде
истории и геологии человек заподозрил в вечности даже
горы, появившиеся в свете прежде, чем существовал че-
ловек.
Вообще мы видим у Бэна плохую, неудавшуюся по-
пытку показать, как люди дошли до возвышенного, но
существенный вопрос совсем не в
том, а в том: что
влекло людей к возвышенному?
Переходя к красоте человеческого лица, Бэн гово-
рит: «я совершенно отчаиваюсь найти какое-нибудь
мерило, кроме личного предпочтения, основанного на
сравнении образчиков, какие кто привык видеть»
(ib., р. 280).
Это отчасти правда: художественное чувство чело-
века ловит черты красоты везде, где их видит; но только
художник соединяет их: он угадывает ту тонкую линию,
к которой стремится природа в индивидах, и которую она
то
переступает, то не доходит: резец художника прово-
дит эту линию. Так и геометр из опытов узнал треуголь-
ники, но геометрического треугольника нет в природе:
это создание геометра. Так точно из созерцания челове-
ческих лиц, может, вообще очень некрасивых, соз-
дается идеал человеческой европейской красоты; красота
негра, китайца будет другая, но и эта красота трогает
сердце.
155. (IV, 3). Эстетическое чувство
Значение всякой красоты одно и то же: истина в та-
кой форме,
что сила истины прямо действует на чувство.
Это чувствительное, фактическое доказательство боже-
ственности души человеческой, и вот почему материализм
так тяжело сталкивается с художеством и так злобно,
хотя бессильно, хочет объяснить его своими средствами.
Художество —лучшее доказательство, что душа наша
не только может понимать истину, но может прямо чув-
ствовать ее. Попробуйте объяснить толпе истину, вы-
267
раженную Аполлоном Бельведерским. Годы долгой нау-
ки — и то приведут к ней только немногих, и то не
вполне,— но художник подымает свою статую и чув-
ство той же истины шевелится и растет в каждой груди.
Аполлон Бельведерский — это языческое светлое
христово воскресенье,— победа сына неба над сыном
преисподней, жизни над смертью, света над тьмой, ра-
зума над предрассудками,истины над ложью, победа уже
без усилий, легкая, блистающая, кроткая,
радостная,—
победа неизбежная, необходимая и свободная…
Я не знаю ни одной картины, ни одной статуи, кото-
рая бы представляла идею христианского торжества^
а достоинством обладала Аполлона Бельведерского.
Но правда, что победа Христа обширнее, глубже, вы-
разить ее труднее. Тут победа куплена не силой и лов-
костью руки, но силой язв и страданий, силой сверх-
человеческого смирения — смирения до божества *.
Истину, чувство которой возбуждается в нас произ-
ведением
художества, мы понимаем не в форме рассудоч-
ных предложений, а потому не можем ее и выразить
в таких предложениях, а выражаем бессмысленным вос-
клицанием… Долго боремся мы с этим чувством и нам
редко, после долгих усилий и долгих опытов жизни,
удается его выразить все.
Вид распятого Христа — уже с одной художествен-
ной стороны действует победоносно. «Смирился до смер-
ти, смерти же крестныя*,— тут смирению пределов
уже нет; оно разорвало все пределы и стало божествен-
ным
творчеством. Чтобы так смириться — нужно сми-
рение, создавшее мир.
Гордость, довольство — вы еще видите на челе Апол-
лона: это победитель, но не творец. Гордость, само-
довольство, любование своим делом, из каких бы источ-
ников они ни исходили,— слабости; смирение же беско-
нечное есть сила бесконечная, есть божественное твор-
чество. Гордость, самонаслаждение, любование своим
* На кресте и в глазах людей человечество стало боже-
ством — не для мысля, но для сердца.
268
делом — разделение мысли, слабость ее; смирение без-
граничное — есть безграничное сосредоточение духа, из
которого вылетают всемогущие слова — «да будет свет
и бысть»; крылатая стрела Аполлона убивает, крылатое
слово безграничного смирения — творит.
Мысль эта так высока, что еще не нашлось худож-
ника, который бы воплотил ее в форме статуи или кар-
тины,— она воплощена покуда в евангельские рассказы.
Нет статуи и нет картины, которая бы
воплотила
чувство, разливающееся по Руси в день светлого
воскресения, когда из края в край ее гремит одно сло-
во— «Христос воскрес, яко всесилен!»
156. (IV, 4). Эстетическое чувство
Вид великого художественного произведения
смущает искренного материалиста-скептика — он бы
хотел отвергнуть его, но оно говорит его сердцу.
Эстетическое чувство уже не органическое и не
сердечное, а духовное — это чувство истины.
Гармонический подбор звуков, красок, линий,
стоп и рифм
— только язык искусства, которому
можно выучиться; но само искусство — в силе истины.
Где только мы без объяснений, без длинных силло-
гизмов наслаждаемся силой истины, хотя бы в малейшей
степени, там мы уже наслаждаемся искусством.
Как органическое чувство имеет влияние на подбор
мыслей, так и духовное чувство, пробужденное в нас
и поддерживаемое, работает без устали в области ума,
заставляя его искать* выражений в форме мысли для
чувства, льющегося из духа.
Если бы чувство
истины не было врождено человеку,
то он бы никогда не создал произведений, значение ко-
торых и сам до сих пор не может выразить в словах.
Не из опыта возникли они, когда человек до сих пор
не может перевести их на язык опыта.
Цельная натура не может быть художественной и
иметь материалистические убеждения: если же такая
разладица есть еще в человеке, то, значит,он не видал
вовсе или мало видел произведений художества. Пусть
269
он поедет в Италию, где взглянут на него со всех сто-
рон художественные останки двух тысячелетий) изо-
рванные, изломанные, загрязненные останки, где и весь
материал-то грубый кусок камня и изъеденное червями
полотно,— и дух человеческий выглянет на него ты-
сячами глаз из этих тряпок и разбитых камней.— Если
же тут он не покается, то, значит, в груди его засело
самолюбие немецкого теоретика, который, как паук
в паутину, запутался в свою
собственную хитросплетен-
ную теорию.
157. (IV, 6). Эстетическое чувство
Оно только приподнимает человека. Кошка разорвет
колибри, не полюбовавшись на ее перышки. У человека
же чувство красоты проявляется в самом диком состоя-
нии. Герберт Спенсер, которого, конечно, уже никто не
заподозрит в идеализме, говорит (в своем педагогическом
сочинении), что дикари прежде заботятся о красивом
и потом уже о полезном: татуируют свое тело прежде,
чем прикрыть его от зноя или холода
(отыскать стр.).
Так врождено человеку стремление к красоте.
Красота характера состоит в его уступчивости, мяг-
кости, говорит Бэн (р. 282). Какой вздор! А разве мы
не любуемся характерами железными, твердыми? Це-
зарь, Катон, Ликург, Регул — разве не красота!!
Что поражает нас в Аполлоне Бельведерском? Та
же идея, которую проводит наука. Торжество истины,
света, образования, гуманности, силы нравственной,
силы ума, красоты, наконец,— над ложью, предрассуд-
ками, чудищами
суеверия, порождениями тьмы,
над силой физической, материальной, безобразием и т. д.
Но в науке к этой мысли, глубокой, как море, свет-
лой и радостной, как солнце, мы доходили долгим пу-
тем рассудка, а здесь одним взглядом, одним порывом
вызываемого чувства. Вот разница между наукой и ху-
дожеством.
«Сердцем веруется в правду»—вот девиз художества!
На этом и истинная художественность христианства:
человек неверующий, но <не> предубежденный, прочитав
270
в первый раз евангелие и дойдя до минуты смерти Хри-
ста,не верит в эту смерть, не верит в такую громад-
ную несправедливость.
Если Христос мог умереть навсегда, то как же земля
может не распасться на части и солнце может све-
тить? Если такое безумие допущено, то как же может
быть что-нибудь умного в мире, как могут звезды не стал-
киваться на пути своем, и все не превратится в хаос?
Художественная сторона религии говорит сердцу.
158.
(V, 1). Идея нравственности и эстетическое чув-
ство. Гербарт. Из Тренделенбурга
Вот как Тренделенбург (Philosoph. Abhandl. der
Akad., zu Berlin, 1856, §4) излагает нравственное уче-
ние Гербарта:
«Нравственное учение Гербарта отличается тем от
всех других систем, что он нравственные элементы под-
чиняет эстетическим и по его теории практическая фи-
лософия составляет часть эстетики». (Тренделенбург
ссылается на Lehrbuch zur Einleitung in die Philoso-
phie, а также и на
Praktische Philosophie, VIII, S. 6,
S. 10). [A y меня этих книг Гербарта нет].
Но разве в этом может быть какое-нибудь сомнение,
что нравственное прекрасно? т. е. что оно производит
на нас эстетическое впечатление? А если это так, то
для психолога нравственное непременно будет отрасль
эстетических чувств.
«Прекрасное и отвратительное вообще и в особенно-
сти похвальное и постыдное имеют природную очевид-
ность (ursprüngliche Evidenz), в силу которой они для
нас ясны без
того, чтобы их нужно было изучать и до-
казывать. Тогда как приятное (angenehm) проявляется
во мгновенных чувствах, из которых ничего нельзя
сделать далее (?), прекрасное, рассматриваемое при-
стальнее, дает пищу для мысли и оставляет нечто по-
стоянное, имеющее бесспорное достоинство; нравствен-
ное же выделяется из области прекрасного, как нечто
такое; которое не только обладает чем-то, обладающим
271
ценностью/ но что само определяет безусловное до-
стоинство самого лица».
«Каждое прекрасное создание природы или искусства
возвышает нас над обыденным и прерывает обычное
течение психологического механизма. Если это и бывает
вначале через возбуждение аффектов, то потом зритель,
одумавшись, видит, что прекрасное или отвратительное
ему только как зрителю ничего не обещает и ничем не уг-
рожает; и тогда он чувствует себя освобожденным от
пер-
воначального возбуждения».
«Таким образом, в практической философии Гербарт
ставит мыслителя простым зрителем».
«Практической философии остается только описывать
то или другое проявление воли, чтобы вызвать у зрителя
невольное одобрение или невольное порицание, и из него
вышел приговор*.
Мое. До сих пор мы почти во всем соглашаемся
с Гербартом, ибо это ничто больше, как прекрасное опи-
сание проявления в нас эстетических чувств, совершаю-
щихся одинаково и в философе
и в дикаре. Но отделение
приятного от эстетического у него неясно: приятно,
по-нашему, только то, приятность чего условливается
потребностью, выходящей из телесных стремлений, и
приятно именно в минуту его потребления. Эстетическое
же не потребляется и не удовлетворяет потребностям
жизни. Эстетическое удовлетворяет, не потребляясь,
и, следовательно, удовлетворяет не потребностям
тела, которое удовлетворяется не иначе, как пот-
ребляя.
Но можно ли всякую деятельность, удовлетворяющую
душевной
потребности деятельности, назвать эстети-
ческой? Конечно, для человека это будет эстетическое.
Мы во 2-ой части «Антропологии» говорили только о
форме деятельности; человеческое же содержание этой
деятельности будет — эстетическое. Для пчелы — это
приготовление сотов; для гусеницы — размножение и
t. д… Это инстинкт в животном, в человеке — это эсте-
тическое чувство. Все полезно для души, только
принося пользу телу и давая душе возможность телесной
272
жизни; а эстетическое полезно для души само по себе,
непосредственно, без посредства тела.
Но не полезно ли для души то, что, не будучи эсте-
тическим, дает работу душе! — Нет, это только обман:
что не нужно ни для тела, ни для души, то только за-
бава,— обман души, времяпрепровождение, убийство
времени: дух хочет жить, и убивать время — безумие.
159. (V. 2). Идея нравственности и эстетическое чув-
ство (Гербарт. Взято из Тренделенбурга)
Все,
что имеет непосредственный интерес для души,
есть эстетическое. Вот почему даже злоба, месть имеют
в себе эстетический элемент; но в них эстетична только
форма, и мильтонов демон эстетическое создание. —
Все это область эстетического, и здесь нет вещей безраз-
личных: они или дурны или хороши, тогда как пред-
меты материальной потребности ни дурны, ни хороши,
они только годны или негодны; ибо это средство для
души, но не цель.
Прекрасное же само по себе не грозит нам бедой,
не
подкупает нас пользой: оно стоит вне, и мы стре-
мимся к нему, сами не зная почему, потому что это свой-
ство души, потому что ей свойственно стремиться к пре-
красному.
Работать только для того, чтобы работать,— нельзя,
а можно — или для того, чтобы удовлетворять потреб-
ностям тела, или потребностям души; потребность же
души — одно прекрасное. Само стремление поддержать
жизнь материальную имеет в себе прекрасное, ибо оно
имеет цель — жизнь души.
Стеснение эстетической
области художественностью
имеет даже дурное практическое влияние: оно лишает
художество почвы, а во-вторых, не позволяет видеть,
что в каждой, самой узкой и скромной жизни есть эсте-
тический элемент.
Мое. Прекрасное не имеет личного интереса для
человека; это есть объектирование человека, родство
человеческой души с силой творчества природы.
273
Мое. Но как выделить нравственное из области
эстетического? Мне кажется, что можно выделить так,
что нравственное в прекрасном все то, в чем не форма
только, а само содержание прекрасно; что и в самой
отвратительной форме будет прекрасно, — таково рас-
пятие: здесь содержание сделало и отвратительную фор-
му художественной — и доказало миру, что творче-
ская сила в нравственном.
Менее удалось Гербарту примирить явления эсте-
тического
чувства с своей психологической системой:
Тренделенбург не заметил, что все ошибки возникли имен-
но из этого усилия примирить то, что непримиримо.
Так как все содержание души по Гербарту есть не что
иное, как собрание представлений, взаимно гнетущих и
усиливающих друг друга, то и художественное он выво-
дит из той же борьбы. Вот эта теория.
Решителем всего является вкус. Но вкус этот не при-
надлежит душе, как и ничто ей не принадлежит, а все
выходит ив представлений, составляющих
ее содержа-
ние. Нравящееся нам или не нравящееся нам непре-
менно сложно, имеет части. Части эти сами по себе не
возбуждают ни удовольствия, ни неудовольствия, без-
различны для вкуса; но при соединении их, и именно
в силу этого соединения рождается чувство прекрасного
или отвратительного. Таким образом эстетическое
объективно, но, входя в душу человека, как бы само
себя чувствует. «Таким образом материальное без-
различно; но форма вызывает эстетический приговор»
(ib.,
S. 5).
Но вопрос — почему это форма? Что выше: форма
или материя? При нынешнем состоянии науки остается
материя; но уже и в естественных науках начинает про-
глядывать мысль, что самое разнообразие материи за-
висит от формы сложения атомов, от формы их движе-
ния. Разложить материю в форму — значило бы преду-
преждать факты науки, и потому мечтать; но значение
формы уже достаточно ясно нам, чтобы дать ей первое
место и верить, что мир нравственный стоит, по крайней
мере,
в уровень с материальным и что если не существо-
274
вание материального мира, то его разнообразие и раз-
витие зависят от эстетического — т. е. от формы. Го-
ворят, форма изменчива, но сама материя не меняется
ли с переменой формы? Что мы внаем о материи вне
изменчивости форм?
160. (V, 5). Нравственное и эстетическое чувство
есть инстинкт человечества
«Наблюдая, как и в естественных науках, без всяких
претензий объяснить явление, а с целью только описать
его с точностью и определить
его место между другими
явлениями, мы заметили:
1) повсеместное проявление в людях эстетического
чувства, как мы его описали,— наслаждения или от-
вращения без мотивов полезного для жизни. Татуирую-
щий себя дикарь уже высказывает эстетическое чув-
ство; выделывающий идола — тоже; пристающий по
душевному порыву к слабому против сильного, поющий
песни…, — уже ясно проявляют эстетические чувства
и стремления.
2) Что же это такое? влечение, причины которого мы
не внаем;
т. е. то же самое, что в животных мы называем
инстинктом. (Но прежде этого надобно определить эсте-
тическое, как у меня и сделано).
3) Как родился этот инстинкт, отчего он зависит,—
мы положительно не внаем; но существование его в са-
мих себе чувствуем, хотя не знаем ни его причины, ни
raison d’être.
4) Существующая, следовательно, инстинктивность
эстетических стремлений в человеке есть психологиче-
ский факт, не подлежащий сомнению. Изучая проявле-
ние этого стремления
в нас самих и в его произведениях:
одеждах, постройках, произведениях музыки, поэзии,
искусстве вообще, в обычаях,законодательствах, поэзии,
мифологиях, отчасти науке в ее эстетической стороне,
мы находим большое разнообразие, даже противоречие,
но во всем этом разнообразии замечаем нечто сходное,—
вот его-то и надобно выразить*
275
5) Образ действия этого стремления одинаков с дей-
ствием сознания, которое его необходимо сопрово-
ждает; это путь сравнения.
Всякий шаг эстетического чувства происходит только
через сравнение, повторяется уже оно и без сравнения.
Представляются сознанию два явления; сознание их
сравнивает и различает; телесные стремления опреде-
лили их относительное значение для моей жизни. Но
когда все это успокоилось, т. е. оба предмета ясно стоят
перед
глазами, не возбуждая во мне никаких телесных
стремлений, и вообще никаких личных, тогда вкус
говорит: это лучше, это хуже.
Есть ли между людьми единство в этом решении?
Очень мало; до того мало, что составилась пословица:
«о вкусах не спорят».
Однакоже попробуем представить для сравнения сле-
дующие факты.
А отнял у Б имение, хотя у А было и без того много,
а Б чуть жил. А отнял у Б часть имения, потому что
у А было менее, чем у Б. Б ненавидел А, и А отнял у не-
го
имение. Б сделал А много добра, и А отнял у него
имение. А был одолжен Б и отдал ему часть своего име-
ния. А не имел никаких отношений к Б, но, видя его
бедность, дал ему часть имения. А сделал добро для Б
в расчете на его услуги. А, не рассчитывая на услуги,
сделал добро для Б; но ждал от него, по крайней мере,
благодарности. А не рассчитывал на благодарность Б,
но сознавал, что не всякий бы сделал то, что он, и гор-
дился этим. А сознавал, что гордиться нехорошо, и не
гордился
этим делом, но в душе сознавал, как он хо-
рош, что подавляет даже внутреннюю гордость. А делал
доброе дело, даже не думая, что это доброе дело,— но
потому, что добрая деятельность сделалась пищей его
души.
Мы уверены, что нет в мире двух человек, которые,
определяя относительное достоинство этих поступков,
разошлись бы между собой, как нет двух, которые
не согласились бы, что 2×2=4, что самая короткая
линия между двумя точками прямая» Но там очевид-
276
ноетъ, установившая тождество мнений, дается гла-
вами, а здесь чем?
Но из этого не выходит, что нравственный кодекс
у всех одинаков; за недостатком сравнения он может
остановиться на первых ступенях; для христианина
это уже невозможно: ибо на последней ступени стоит
образ Христа во всем величии полного самопожертво-
вания!
Но есть ли такое единство в других формах эсте-
тического— в истине, художестве? — Верно есть; по
крайней
мере, сделав шаг вперед, человек не делает
уже шага назад; следовательно, есть общая дорога че-
ловечества.
161. (V, 6). Эстетическое чувство,— отношение к мо-
рали
Все моральное — эстетическое, но не все эстетиче-
ское морально. Моральное к эстетическому относится
как вид к роду (Dittes, § 42).
Верно, но не вполне уяснено.
Я бы определил мораль так: все эстетическое в от-
ношениях между людьми. Изящное в поступках чело-
века и есть мораль. Изящное не может быть безнрав-
ственно,
и нравственное не может быть неизящно. Смер-
дящая рана, полученная в добровольном подвиге,
изящна и трогает, как высокое, сердце человека. Ге-
гель и Генш, не находящие изящества в распятии,—
просто плохие художники. Почему же образ Прометея,
из которого коршун таскает кишки, кажется им изящ-
нее? Это все же чопорная, чистоплотная немецкая поэ-
зия, в сущности же мелочная и грязная. В Италии и
грязь — чище немецкой чистоты!
Толкования художественного произведения не долж-
ны
выгнать из него эстетического (heraus buchschieren),
по выражению Шиллера.
«Абстрактный мыслитель (и эстетик) имеет часто хо-
лодное сердце, потому что оно разбивает впечатление
на части, которые только вместе, как одно целое, тро-
гают душу» (ib., S. 47).
277
Мое. Художество истолковывает нам природу и
жизнь, именно тем, что сосредоточивает впечатление.
Поэт своим тонким чутьем находит одни и те же черты
во множестве явлений и, сводя вместе эти схваченные
им лучи, вызывает ими данное впечатление и в сердце
далеко не таком чутком, как его собственное. Мы все
видели в жизни черты из «Ревизора», но они терялись
в нас и не производили большого впечатления; но поэт,
схватив вместе эти черты, заставил
дрогнуть самую не-
чуткую совесть, произвел чувство отвращения там, где
могло быть чувство изящества; а потом мы уже вслед
за поэтом стали открывать эти черты везде, и каждая
черта вызывала целый гоголевский образ, и черта ко-
лола нас глубоко,— нам не хотелось в собственных
глазах попасть в этот гоголевский ад. Писатель этот имел
громадное влияние на нравственность русского обще-
ства и потомство не должно забыть его, когда будет
ставить памятник реформам нашего времени:
лицо Го-
голя должно быть самым видным лицом на барельефе
этого памятника.
«Хотя, говорит Шиллер, эстетическое не есть соб-
ственно наслаждение (Lust), но чуткая душа предпочи-
тает его всякому наслаждению» (§ 57). (Надо бы достать
эту статью Шиллера.)
Немецкая эстетика!
Первое педагогическое правило немецкой эстетики
чистота (Dittes, § 69), второе порядок, стыдливость
(Reinlichkeit, Ordnung, Schamhaftigkeit, § 70). Как все
это по-немецки! Но где же более искусства
— в вымытой
и выбритой Германии,— или в грязной, небритой, не-
чесаной Италии? Диттес именно доказывает, что из кру-
пинок чувства чистоты складывается величественное
здание эстетических чувств. Бенеке тоже говорит:
«из незаметных кирпичей создается храм» (Dittes при-
водит слова Бенеке, § 57).— Нет, из кирпичей выстроишь
дом, а не храм; из копеек при немецкой бережливости
составляются рубли; но из мытья и бритья не выходит
еще поэзии и искусства!
278
3. НРАВСТВЕННОЕ ЧУВСТВО КАК ОСОЗНАНИЕ
ПРЕКРАСНОГО В ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ
а) К обзору философских мнений о морали
162. (III, 1). Предисловие (Тренделенбург). Нрав-
ственность
«Глубину и чистоту начал аристотелевской этики
свидетельствует то обстоятельство, что не только Томас
Аквинский, теолог средних веков, внес их в свои пла-
тонические и христианские созерцания, но даже Me-,
ланхтон требовал ее изучения в протестантских универ-
ситетах.
В то время в Этике Аристотеля была связь, сое-
диняющая образование народов, университеты Англии
и Германии, Италии и Франции.
После Лейбница (который еще держался аристоте-
левской этики) германская философия пошла своим осо-
бенным путем так, как французская — после Картезия,
английская — после Бэкона, и философия перешла на
национальную дорогу в ущерб своему всемирному при-
званию». (Philosophische Abhandlungen der Königlichen
Akademie der Wissenschaft, zu Berlin, 1856.
Herbart’s
Praktische Philosophie und die Ethik der Alten, von
H. Trendelenburg (S. 1).
Это замечание совершенно верно, но у нас часто за-
бывается, и мы думаем, что Вольф, Кант, Гегель, Гер-
барт, Бенеке — имели всемирное значение. Напротив—
очень слабое: они только принимались кое-когда во вни-
мание в Англии и Франции. Нам же оно кажется всеоб-
щим, ибо мы долгое время только в Германии видели
центр всемирной науки.
После Вольфа — германская этика сделалась эк-
лектической,
принимая во внимание и изыскания анг-
лийских моралистов и даже французское учение об эго-
изме, пока Кант не внес в путаницу этики философского
понятия всеобщности и необходимости.
Теологическая этика черпала много из Аристотеля и
со свойственной ей силой распространяла эти прин-
ципы, соединяя в одно народы и исповедания — общими
279
нравственными началами (ib., S. 3). [О плохом со-
стоянии учения о нравственности см. Тренделенбург,
стр. 36].
163. (III, 2). Этика Аристотеля. Добродетель
Аристотель делит добродетели на умственные (муд-
рость, благоразумие) и нравственные — благородство,
скромность и т. д. (Eth., В. I, Gap. 13, § 20).
Умственные добродетели приобретаются учением;
нравственные — привычкой. Оттого они и называются
этическими от слова (Ethos) привычка.
В. II, Сар. 1,
§ 1. [См. также примечание с небольшим изменением
в букве].
Следовательно, мы не приобретаем добродетель
от природы.
Мы имеем от природы только задатки усвоения доб-
родетели (ib., § 3).
«Что мы должны делать, изучив прежде, то мы изу-
чаем, делая» (ib., § 4).
Вот главное положение Аристотеля.
Отсюда уже он выводит, что, «поступая справедливо,
мы делаемся справедливыми; поступая умеренно, де-
лаемся умеренными; а поступая храбро — храбрыми»
(ib.,
§ 4).
Но это языческое определение добродетели для нас
тесно, хотя в нем психологическая сторона верна и
соответствует новой психологии.
«Нашими действиями в человеческих жизненных;
отношениях и относительно наших ближних, делаемся
мы одни справедливыми, другие несправедливыми»
(ib., § 7).
To-есть, другими словами,— жизнь учит доброде-
тели.
Отсюда и искусство у Аристотеля привычка (ib., 6);
но если бы это было так, то не было бы усовершенство-
вания в искусстве?
Потом
следует учение Аристотеля, что «добродетель
в середине».
280
В искусстве — только чтобы было сделано; в доб-
родетели — чтоб было сделано много и добровольно
В. II, Сар. 4, § 2 и 3).
Следовательно, субъективность. Но зачем она языч-
нику?
Знание не добродетель нравственная. По этому по-
воду Аристотель очень хорошо говорит:
«Многие люди, не прибегая к добродетельным по-
ступкам, прибегают к теории их и думают философство-
ванием о добродетели сделаться отличными людьми. Но
они в этом случае
напоминают больного, который, вы-
слушивая ревностно все советы медика, не поступает
ни по одному из них» (ib., Сар. 4, § 6).
Доказательствам, что добродетель—в середине,
посвящены у Аристотеля 6 и 7 главы Этики.
Между страхом и дерзостью — мужество (ib., Сар. 6,
§ 2). Между скупостью и мотовством — благоразумная
щедрость (ib., Сар. 6, § 4). Между честью и позором —
великодушие (ib., § 7).— Даже в стремлении к истине:
умеренность — добродетель, а неумеренность — порок
(ib.,
§ 12).
«Справедливость у Аристотеля есть середина между
завистью и злорадством», т. е. собственно не справедли-
вость, а Немезида (ib., § 15). Ну, а справедливость —
середина чего?
С своей языческой серединой Аристотель оконча-
тельно запутался.— Это не добродетели, а достоинства:
и действительно, страсти сами по себе ни достоинства,
ни недостатки, а крайности в них — недостатки, се-
редины же — достоинства, но это не добродетели.—
По Аристотелю, следовательно, Сократ
был порочен, лю-
бив истину до смерти.
«Добродетель это такое душевное расположение, ко-
торое стоит между двумя крайностями» (ib., Сар. 8, § 1).
Найти середину трудно, а потому и добродетельным
быть трудно (ib., Cap. IX, § 2).
Но добродетель разве душевное состояние? Не сам ли
он назвал ее действием свободным? И поэтому пускается
в изыскания, что такое «действие свободно».
281
164. (III, 36). Этика Аристотеля. Честолюбие
«Люди стремятся к почестям,чтобы усилить собствен-
ное убеждение в том, что они достойные люди» (В. I,
Cap. V, § 5).
Т. е. это страсть по сравнению.
165. (III, 37). Идея человека. Его высокое назначение
(Броун)
«Только в человеке, или в существе, способном к со-
знанию и счастью, подобно человеку, находим мы разре-
шение чудес творения» (Brown, р. 19).
«Есть только один предмет выше души
человеческой—
это ее создатель», говорит св. Августин (ib., р. 23).
166. (III, 38). Чувство доброты. Аристотель
Аристотель также отделяет чувство доброты или
кротости (Milde) от любви и противополагает это чув-
ство гневу, показывая примерами, что оба эти чувство-
вания начинаются от противоположных причин, и что
гнев, проходя, сменяется добротой (Arist. Drei Bücher
der Rede ==, übersetzt von Adolf Stahr. B. 11,3.
Cap., § 2).
Он находит его и у животных — § 6.
В отношении
лиц это чувство проявляется: 1) Мы
сердимся на тех, которые ставят нас низко, и, напро-
тив, мы чувствуем доброту к тем, которые ставят нас
высоко. 2) Против тех, которые нас нечаянно оскорбили;
т. е. нечаянность смягчает гнев; ибо здесь не нашли мы
нашей низкой оценки. 3) Против тех, которые сознаются;
ибо несознание показывает, что нас ценят очень низко.
(Едва ли всегда так?! Бесстыдное сознание не показы-
вает ли, наоборот, что нас ставят ни во что?). 4) Чув-
ство доброты
вызывается слабостью, которая сознает,
что она слаба. Слабые боятся сильных, а кто нас боит-
ся, тот ставит нас высоко. Кто нам угождает и т. д.
(См. § 5,6,7). Против того, кого мы боимся Экой вздор.
Далее Аристотель перечисляет обстоятельства, при
которых у нас возбуждается чувство доброты; напри-
282
мер: «при счастливой игре, при смехе, на пиру, после
веселого и счастливого дня, при успехе, при удовлетво-
рении»,— одним словом, «в таком состоянии, в котором
ничто не возбуждает нашего неудовольствия, и когда
мы не чувствуем до крайности возрастающего удоволь-
ствия и делаем оправдываемые надежды».
Также когда утихает гнев; или когда мы согнали его
на ком-либо другом.
Потому Аристотель советует сначала выругать раба,
а потом наказать,
тогда ему легче прийдется.
Мое и есть: избыток сил сравнительно со стремле-
нием.
Мое. Чувствование избытка сил сравнительно с си-
лой стремлений — вот причина чувства доброты.
167. (III, 40). Сострадание (Аристотель)
Аристотель очень длинно определяет сострадание,
но так же, как Броун: сострадаем тому, что может и
с нами случиться. Он не знает нервного сострадания
(ib., В. II, Cap. VIII, § 2 и 12).
168. (III, 41). Этика Аристотеля. Стремление ко
благу
«Благо есть
то, к чему все стремится»(В. I, Сар.И, § 1).
Но все блага — сходятся к одному.
Этика у Аристотеля — часть политики (Ц)., Сар. 2,
§ 9).
Вот чисто языческий взгляд; по-христиански же сама
политика должна быть частью этики.
Аристотель даже идеи нравственного и прекрасного
выводит из государства (ib., Сар. 3).
Аристотель считает юность, подчиненную стра-
стям, слишком незрелой для науки о государстве (ib.,
Сар. 3, § 6).
Но и Аристотель ставит добродетель выше ума;
ибо
наслаждение ею прочнее (ib., Cap. X, § 10).
«Истинно добр и разумен тот, который переносит все
случайности жизни с благородной сдержанностью и
при всех данных обстоятельствах делает лучшее»
283
(ib., Cap. X, § 13).— Так же как лучший сапожник
тот, кто из данной ему кожи сделает лучшие сапоги.
169. (III, 42). Этика Аристотеля. Стремление к
счастью. Стимулы человеческих действий
У Аристотеля три стимула действий человека: «пре-
красное, полезное и приятное; и три противоположные:
отвратительное, вредное и неприятное» (Eth., В. II,
Сар. 3, § 7).
А «удовольствие и неудовольствие тот масштаб, кото-
рым мы измеряем наши действия»
(ib., § 8).
170. (III, 43). Этика Аристотеля. Стремление к
счастью. Цель воспитания
«Счастье есть цель и образованного, и необразован-
ного» (В. I, Сар. 4, § 2). «Но в чем состоит счастье —
в этом взгляды различны» (ib.).
Не только у различных людей взгляды различны, но
и у одного и того же человека в различное время (ib.,
§ 3). Больной— в здоровьи, бедный — в богатстве видит
счастье.
Счастья три главных:
а) Наслаждение телесное — это толпа и сенсуалисты.
б) Честь
— это практики.
в) Знание — это философы (ib., Cap. V).
Но главная цель самое счастье или довольство:
«ибо довольства желаем мы ради его самого, а не ради
ччего-нибудь другого» (ib., Cap. VI, § 5).
Мы желаем и телесного наслаждения, и чести, и зна-
ний не для них самих, а для счастья, которое они нам
дают; счастья же мы ни для чего постороннего не же-
лаем (ib.).
Но чтобы найти общее счастье, надобно найти осо-
бенность назначения человека, тогда мы и отыщем об-
щее
для человека счастье.
Целью этой не может быть жизнь, ибо жизнь имеют
и растения. Не может быть и чувствующая жизнь, ибо
ее имеют и животные (ib., Cap. VII, § 12).
284
Следовательно, «деятельная жизнь по разуму» (ib.,
§ 13).
Цель человеческой жизни есть разумная и добро-
детельная деятельность (ib., § 15).
А я думаю: просто вечно расширяющаяся деятель-
ность:— А разумно то и добродетельно то, что способ-
ствует такому вечному расширению деятельности;— это
дает жизнь, творить; это жизнь творца вселенной.
Вот верно: «счастье состоит в деятельности, сооб-
разной душе» (ib., Cap. IX, § 7).
Счастлив
или блажен, по Аристотелю, тот, «кто
всегда действует добродетельно и снабжен внешними
благами в достаточной мере, и оба эти условия продол-
жаются во всю его жизнь» (ib., Cap. X, § 19).
Но грозы будущего — Аристотель отклонить не мо-
жет, и отсутствие понятия о бессмертии души спутало
его этику (ib., Cap. XI).
По-моему же — блаженство состоит в творящей и
совершенствующей деятельности — и не имеет другой
цели, кроме совершенства. Эта деятельность доступна
всякому и во
всяком положении, хотя в безграничности
она доступна только творцу.
Цель воспитания — очистить путь по этой дороге.—
Чтобы каждый в своей сфере мог сделать, что может
лучшего, и в этом находил свое высшее счастье или бла-
женство.
171. (III, 39). Сострадание и сорадостие. Чувство
права (Броун)
Броун признает в симпатии как сострадание, так
и сорадостие, хотя последнее некоторыми не признается
и не имеет особого слова для своего выражения. Это
Броун объясняет той притворной
радостью, которую
принято выказывать в обществе, так что истинная улыб-
ка сорадостия и незаметна посреди ложных. Едва ли
это так! Этого слова нет и у простого народа: «я радуюсь,
на тебя глядя» выражение часто искреннее; а просто не
образовалось слово, хотя и образовались выражения
(ib., р. 406).
285
«Есть что-то увлекающее в общей веселости, и она
действует на нас так, что мы сами того не примечаем,
и если в нас нет причины печали, то для нашего момен-
тального счастья довольно, чтобы мы побыли в обществе
счастливого» (ib., р. 407).
Это так; но только пока не установится сравнение
между нашим положением и положением того, кто сча-
стлив. Так, радость детей почти всегда вызывает улыбку
у взрослых, ибо сравнение уже невозможно.
Мы
и природе сорадуемся, думает Броун.
«Символы выражения чувств, думает Броун, на-
водят нас на чувства (suggestion), как портрет друга
на пробуждение чувства к нему» (ib., р. 418). Это верно.
Это <происходит> посредством возбуждения идеи, кото-
рая в свою очередь будит чувство;но у младенцев как же,
когда они еще не имеют и понятия о форме выражения
чувства? Просто отражением нервным,— и тогда и чув-
ство выходит уже из состояния нервов.
Симпатия, говорит Броун, слагается из
двух эле-
ментов: чувства страдания другого и второго — стрем-
ления удалить или облегчить его (ib., р. 409).
Мы сострадаем и тем, кого не любим: так, видя муки
казни даже страшного злодея, мы будем сострадать ему.
Броун объясняет это словами теренциевой комедии:
homo sum, humani nihil a me alienum puto. Эти слова
подхвачены всеми именно потому, что выразили то, «что
творец вложил в сердце каждого и что столько же при-
надлежит нашей душе, как способность памяти или рас-
судка»
(ib., р. 410).
А по моему мнению, на этом врожденном чувстве
виждется право.
172. (III, 3). Нравственность (Броун)
«Никто, говорит Сенека, не лишен человеческого ха-
рактера до того, чтобы желать быть порочным для самой
порочности»… и далее: «самый порочный человек, если
бы мог наслаждаться плодами преступления, не делая
преступлений, не захотел бы их делать» (Броун, р. 395).
286
Броун доказывает, что без существования нравствен-
ного чувства в человеке никакие меры не могли бы спа-
сти общество от самоуничтожения (ib., р. 395).
«Совесть сильнее тысячи виселиц» (ib., р. 397).
173. (III, 4). Нравственность (Спиноза, Кант)
Основы нравственности у Спинозы очень просты:
«Нельзя предполагать никакой добродетели, пред-
шествующей самосохранению» (Ethik, IV Part, Propos.
22).
«Усилие существа сохранить себя составляет
его
сущность, а потому усилие существа, чтобы сохранить
себя, есть первое и единственное основание добродете-
ли» (ib.).
Propos. 24. «Действовать по добродетели есть не что
иное, как следовать разуму в наших действиях, в на-
шей жизни, в сохранении нашего существа (что все
едино) и во всем этом поступать по правилам собствен-
ного интереса».
Propos. 26. «Разум наш стремится только к понима-
нию и душа, пользующаяся разумом, считает полез-
ным для нее то, что ее ведет
к пониманию».
Отсюда Спиноза выводит, что «первое и единственное
основание добродетели есть стремление к пониманию и,
следовательно, мы усиливаемся понимать вещи не для
какой-нибудь цели, но, напротив, душа, поскольку она
пользуется разумом, считает для себя благом только
то, что служит ей средством понимания».
Сапожник смотрит, что главная цель жизни людей—
носить сапоги.
«Понимать — вот абсолютная добродетель души»
(ib., Prop. 28. Demonstr.).
Prop. 32. «Насколько
люди подчинены страстям,
настолько нет между ними общности природы».
Prop. 33. «Люди могут различаться между собой
по натуре, насколько они преданы борьбе страстей;
и в этом отношении один и тот же человек разнообразен
и различается от самого себя».— Отсюда уже ясно само
собой выходит, что при подчинении людей страстям ин-
287
Пересы их сталкиваются; а при подчинении разуму —т
никогда; ибо интересы разума у всех одни и те же —>
понимать, и тут столкновение невозможно. Отчего же
н хочу достать себе средства для понимания и отнимаю
их у других? Мне не все равно, понимают ли С, D, Е,
или понял я сам.
Вот почему для Спинозы (ib., Prop,. 37,Schol. 1):
«Истинная добродетель не что иное, как жизнь, управ-
ляемая разумом, т. е. философствование!
Едва ли не такую
же мерку своего мастерства берет
и Кант, который требует, чтобы «основание морали было
всеобщее, а всеобща только мысль; следовательно, мо-
рально то, где чувство и поступок подчинены всеоб-
щему— мысли» (Philos. Abh., zu Berlin, S. 33).
Но при таком взгляде уничтожается личность, за-
бывается, что мысль вырастает только из сознания,
а сознание может быть только лично; — какое дело,
глупо или умно будет итти мир, исчезнет он или будет
существовать, если в нем не будет ни одного
существа,
одаренного сознанием и чувством? Сам для себя мир
не имеет никакой цены.
Вот что говорит Тренделенбург вообще о плохом со-
стоянии моральной философии даже и теперь:
«Für das Studium der philosophischen Ethik steht
es noch gegenwärtig nicht anders, als zu der Zeit, da die
erneuerten Statuten Universität zu Graifswald die Er-
klärung der nikomachsche Ethik ausdrücklieb vorschrie-
ben, cum eo opere in tota philosophiae parte vix aliquid
praestantius aut ab solutius
habetur. Das Urtheil von Jahr«
1545 gilt noch heute (Trend., S. 36).
174. (III, 6). Нравственность. Ее целость
«Искусства (как их понимает Милль,— т.е. вся прак-
тика) имеют свою особую Philosophia Prima, как и нау-
ки — свою особую» (Mill’s Log., Boock VI, Ch. XII,
§ 7). Вот почему:
«Писатели моральной философии всегда чувствова-
ли необходимость не только привести все правила по-
ведения и все одобряющие и порицающие суждения
288
в принципы, но привести их все к одному принципу,
такому основному правилу или мерилу, с которым бы
все другие должны бы быть согласованы и из которого
они все могли бы быть выведены. Те же, которые осво-
бождали себя от применения такого общего мерила, де-
лали это только потому, что предполагали нравственное
чувство или нравственный инстинкт, который, будучи
нам врожден, уведомляет нас, какие из нравственных
принципов мы должны соблюдать
и в каком порядке
один принцип должен быть подчинен другому».
175. (III, 9). Стремление к добру. Совесть (Броун)
«Нет ни малейшего сомнения, как бы ни странно
было признать это в мире, столь изобилующем поро-
ками,— что единственный предмет желаний, общий
для всех, есть желание наслаждаться спокойствием со-
вести» (ib., р. 430). Найдутся люди, презирающие блеск
славы и упоение богатства и власти. «Но кто же, состав-
ляя планы своей будущей жизни, скажет в душе своей:
оставьте
меня жить и умереть без воспоминания хотя
одного доброго дела» (ib.).
«Преступление существует не потому, что порок вооб-
ще презирается; но великая беда в том, что неизвестное
продолжение жизни позволяет виновному смотреть впе-
ред на те годы, которые, может быть, никогда не при-
дут, и откладывать всякое лучшее намерение, пока
сердце не сделается неспособным сбросить страсть, его
поработившую» (ib., р. 430).
«Если бы можно было быть добродетельным, не при-
нося в жертву
порока, то все были бы добродетельны»
(ib., р. 430).
Если бы можно было украсть или отнять спокой-
ствие совести, «то злодеи прежде всего наложили бы
руку на это сокровище» (ib.)
Но, к счастью, — самый могучий тиран не может ни
купить его, ни отнять.
При искушении человек забывает сравнить — душев-
ное состояние добродетели и порока (ib., р. 431).
289
176. (III, 24). Нравственность
«В том, что мы делаем, мы сами узнаем, что мы такое»
(Schopenhauer. Die beiden Grundprobleme der Ethik,
2. Aufl., S. 60). (Drob. Moral-Statist., S. 82).
177. (III, 17). К чувству. Развивается ли нравствен-
ность. Кетле; Бокль. Добродетель
Средний человек. Кетле дает ему и критериум для
нравственности.
«Качество (?) человека делается добродетелью, когда
оно одинаково удалено от всех крайностей (excès),
в
которые оно (?) может увлечься, и когда оно остается
в надлежащих границах, за которыми все делается по-
роком» (De l’homme, t. II, p. 275).
Что могло выйти из такой смутной психологии?
Кетле ссылается на Аристотеля (Eth. ad Nicom., II,
ch. 2), но сколько помнится, у Аристотеля не то выве-
дено. Но что сказал Аристотель, того не мог бы сказать
христианин.
По такому определению добродетели «любовь до
смерти, до смерти же крестныя», будет пороком.
Из такой же смутной психологии
возникло и то по-
ложение Кетле, усвоенное Боклем, что развиваться мо-
жет только ум человека, а не его нравственность.
«Если границы какой-нибудь добродетели, говорит
Кетле, не изменяются в течение времени и у различных
народов, то есть очень сильная вероятность думать, что
эта добродетель имеет абсолютную цену. Это-то именно
мы и замечаем для большей части нравственных ка-
честв.
Они допускают один тип, на который можно, с очень
большой вероятностью, смотреть как на
тип абсолют-
ный, так что человечество в отношении этих качеств
не прогрессивно» (ib., р. 275).
Эту идею, брошенную Кетле, развил вполне Бокль,
обнаружив тем и свою плохую психологию, которая
кроме того видна на каждом шагу в его известном сочи-
нении.
290
Добродетель не есть какое-то качество без мысли;
ибо без мысли нет ни порока, ни добродетели. Так,
любовь сама по себе не есть ни добродетель, ни порок,
гнев тоже, презрение тоже, желание тоже.Но они
могут сделаться добродетелью или пороком, смотря
по идее, которую они наполняют. Следовательно, по-
нятно, что только с развитием идей могут развиваться
нравственные стремления. Высшей добродетелью для
дикаря было скальпировать своего врага
или даже съесть
его, и идти на этот подвиг, подвергая жизнь свою опас-
ности; то же качество в христианстве приняло совер-
шенно другое направление. И если, например, хри-
стианство вносит новую добродетель, дотоле неведомую,
например, смирение, то это только следствие высшего
понятия о боге и преимущества содержания над формой,
лучшего психологического понятия. Бог, гордящийся
своими делами, конечно, ниже бога, просто делающего.
Чем может гордиться всемогущий? Перед кем и
чем?
Гордость есть непременное следствие ограниченности, и
безграничное смирение симптом безграничной силы.
В смирении творчество; если человек не творит, то по-
тому, что он не смирен. Вот почему в спасителе виден
бог-творец. И человек творит, поскольку он смирен.
Следовательно, идея сделалась шире и выросла новая
добродетель.
Вот почему нельзя сказать, что человечество разви-
вается умственно, а не нравственно, ибо оба эти раз-
вития в конце концов — одно. Неужели улучшение
материального
быта развитие? Даже и не умственное,
и дикарь может быть умнее машиниста. Свод всех
развитии и применение к личной душе человека —
вот и добродетель.
178. (III, 5). Нравственность. (Кант). (Тренделен-
бург)
«Кант сделал форму всеобщего, в которой разум сам
себе дает законы, основной мыслью этики, подчиняя
субъективные правила пробе всеобщности. Отсюда и
291
вышел его знаменитый категорический императив:
«действуй так, чтобы правила твоей воли могли быть
в то же время началами всеобщего законодательства».
Поступок субъективен; но он делается разумным, когда
его побуждение и содержание делается всеобщим
(Philosoph. Abhandl. der Acad., zu Berlin, 1856,
Trendelenburg, Herb., S. 2).
Но такое всеобщее, по справедливому замечанию
Тренделенбурга, есть только формальное всеобщее: «это
не начало
нравственности, а только критериум ее».
Это замечание Тренделенбурга совершенно справед-
ливо; но начало нравственности неизвестно нам и не мо-
жет быть известно; ибо нравственность человеческая
состоит только в стремлении к этому неизвестному, но
увлекающему ее началу; где оно ни проявляется, в ху-
дожестве ли, в истине ли, в нравственности ли — оно
влечет человеческую душу вперед, и вперед.
Стремления движут душу из тела и изнутри ее са-
мой; а эстетические влечения влекут
душу извне; пер-
вые связывают душу с материей, а вторые с формой
создания, и для души форма есть материя, а материя
только форма.
179. (III, 7). Нравственность. Бенеке
Учение о нравственности Бенеке, изложенное Raue,
у меня изложено в книге с выписками. (См. ниже № 180. Ред.)
То же самое подтверждается и в его Erz. und Unter.,
Т. I, § 47.
Резюмируем это учение:
Отняв у души все врожденное, сделав ее суммой сле-
дов ощущений, Бенеке пришел в понятное затруднение
с
учением о нравственности. Действительно, если нрав-
ственность каждого человека есть его собственное со-
здание или, лучше сказать, так как Бенеке не признает
свободы воли,— результат истории душевных впечатле-
ний, то тогда на чем же основывается ее обязательность
для человека, обладающего ею, и ее общая обязатель-
ность для всех людей?
292
Чтобы выйти из этого затруднительного положения
й не поставить своей психологической теории в прямое
противоречие с требованиями общественной совести,
Бенеке заметно изменяет своему принципу неврожден-
ности. Он отвергает, что нравственная норма врождена
человеку, но соглашается, что она предопределена
(prädeterminirt) (ib., S. 192).
Здесь мы видим снова весьма дурную манеру — в за-
труднительных случаях закрывать прореху мысли но-
вым
словом, смысл которого еще менее определен, чем
(смысл) прежних.
Какого же рода эта предетерминация? в чем она
выражается?
Это далеко не выяснено у Бенеке. Сколько можно
заключить, то предетерминация заключается в довольно
незначительной разнице между высшими и низшими
внешними чувствами: слухом и зрением, с одной стороны,
и остальными тремя чувствами, с другой.
«Так, мы требуем от человека, говорит Бенеке, чтобы
он восприятия благородных чувств предпочитал ощу-
щениям
низших, и основываем это требование на том,
что первичные силы высших чувств существенно силь-
нее, чем первичные силы низших».
Но если они сами по себе сильнее, то требование
здесь совершенно лишнее!
Но Бенеке прибавляет: «у каждого безошибочно
(fehlerlos) развитого человека» (ib., § 47, S. 193).
Но тогда на чем же основано это понятие безоши-
бочности? Почему мы называем безошибочно развитою
ту душу,которая предпочитает духовные наслаждения—
чувственным? Может быть,
это и есть именно зарази-
тельная болезнь мозга, заставляющая страдать боль-
шинство человечества, а жизнь чисто скотская есть
совершенно нормальная?,,
«Мы требуем от каждого, чтобы он отказывался от
чувственных удовольствий, грозящих его здоровью»…
и опять ссылается на правильно развитых людей.
Но, во-первых, предпочтение духовных ощущений
чувственным еще не нравственность: честолюбие, месть,
293
гордость, славолюбие, без сомнения, более породили
порочных действий, чем все роды сластолюбия, взятые
вместе.
Во-вторых, ссылаться здесь на большинство людей
и установлять норму нравственности по большинству—
значит сказать, что чувственные удовольствия должно
предпочитать духовным; ибо массы предпочитают по-
следнее первому.
И тогда всякий шаг вперед в нравственном развитии
народа есть шаг безнравственный, ибо противоречит
норме
большинства.
Но если чувства и следы чувств зрения и слуха проч-
нее и сильнее, то зачем предписание? Бенеке выверты-
вается тем, что хотя следы низших чувств слабее (мы
не понимаем, почему осязание слабее слуха? Припом-
ните удивительную память осязания у слепых), но, на-
копляясь мало-помалу, они своей суммой одолеют выс-
шие чувства.
У Браубаха мы видим совершенно противное: у него
высшие духовные ощущения слабее чувственных, и бо-
лее их требуют поддержки. И это верно.
Не сам ли Бе-
неке говорит, что чувственность преобладает в массах
и в дикости народов и что все развитие начинается от
чувственного (ib., S. 196)? Следовательно, решая по боль-
шинству, чувственность будет норма, закон, а духов-
ность — исключение, уродство, болезнь.
180. Бенеке о нравственных чувствах
№ 138. Но вот Бенеке хочет доказать на основании
своей теории, что «для всех людей их первичными си-
лами условливается одинаковая градация добра и зла
(Güter und Obel)».
Истинная оценка.
Любопытно, как он это докажет на основании своей
теории следов/
(На полях карандашом): Бенеке хочет примирить свое
ученье с моралью и для этого хочет вывести из своей
системы истинную оценку добра и зла (сообразно морали).
Это следует, кажется,в 111 отдел,где буду выводить нрав-
294
ственность (Lehrbuch der Psychologie, von Benecke, § 48,
67, 71).
Он основывает это на том,что чем сильнее первичное
чувство, тем крепче оно образует следы, но следы, обра-
зующиеся в высших чувствах (зрении,слухе и осязании),
гораздо прочнее, чем в низших, служат ли эти следы
к образованию понятий или оценок (чувств) — (ib., § 58,
S. 148). Если представить, что у развитого человека каж-
дый душевный образ во всех шести чувствах состоит
из
одинакового числа следов, то следует необходимо, что об-
разы высших чувств будут обладать высшей (большей)
степенью крепости, чем образы низших. Ибо в низших
чувствах вследствие слабости их первичных сил впечат-
ление удерживается очень слабо, так что образ, состоя-
щий, напр., из ста следов, гораздо слабее, чем образ
высших чувств, состоящий также из ста следов (ib.,
S. 143).
«Из этого следует, что также чувства удовольствия
или неудовольствия в высших чувствах выступают
с
гораздо большей силой, чем в низших; если только
число следов и там и здесь одинаково» (ib., S. 144).
(На полях карандашом): Натянутый вывод морали из
бенековской системы.
У каждого здорового человека высшие чувства всегда
сильнее уже потому, что они высшие (ib., S. 144).
У всех людей также исполняется закон, что одинаковые
следы сливаются. Таким образом, факторы, посредством
которых возникает образ в душе человека, одни и то же
(а разница в устройстве органов чувств?), а
одина-
ковые факторы дают и одинаковые продукты; а потому
й чувства у всех людей по своей силе располагаются
с одинаковой постепенностью (в одной прогрессии, хотя
у разных людей разные силы); в каждом приятные и
неприятные образы высших чувств будут чувствоваться
как сильнейшие сравнительно с образами низших
чувств, предполагая, что число индивидов в обоих оди-
наково (ib., S. 144). «А так как от силы удовольствия
или неудовольствия зависит цена, которую мы придаем
вещи,
то следует;
295
что существует одинаковая постепенность благ
(Abstufung Güter) и вол для всех людей, вследствие
чего все предметы, которые в высших чувствах про-
буждают удовольствие или неудовольствие, должны
приниматься за высшее благо или высшее зло; а те,
которые дают то же в низших чувствах, должны считать-
ся за низшее благо или зло» (ib., § 58, S. 145).— Вот
почему все люди должны одинаково ценить вещи, иметь
в отношении к ним одинаковые чувства
и, следовательно,
поступать так, как поступки выходят из чувств и взгля-
дов на вещи (ib., S. 145).
(На полях карандашом): Все то же, это к III отделу.
А не сам ли он говорил недавно, что у всякого свои
чувства? Следовательно, это должно людьми не выпол-
няется.
«Эту постепенность (Abstufung) мы называем истин-
ной оценкой, истинной практической нормой, а она же
составляет то, что называют высшим нравственным
законом» (ib., S. 146).
(Мое). Да где же существует действительно
эта
норма, когда чувство, т. е. оценка у каждого своя? Ведь
я чувствую в себе то, что во мне есть, а не то, что могло
или должно бы быть, да чего еще нет. Положим, от мно-
жества следов низшие чувства укоренились у меня
глубже, чем высшие, то они и будут для меня выше.
В дикой жизни забота о пище и одежде и всякие телес-
ные наслаждения превышают высшие, то и должна бы
возникнуть норма, совершенно противоположная той>
которую хочет вывести Бенеке.
№ 139. (Мое). Кажется,
что удовольствие именно
может служить мерилом нравственности, но только
при христианском понятии о вечности; отсюда возни-
кает такое правило: «делай то, что могло бы доставить
тебе вечное удовольствие, когда у тебя не будет тела и
страстей». Не временное наслаждение, а вечное блажен-
ство — вот христианский расчет; а вечное блаженство
есть вечная деятельность, вечная жизнь в божестве,
вечное добро, бесконечная премудрость, бесконечная
истина.
296
Желая объяснить отношение ложной оценки к ис-
тинной (т. е. голоса страсти к голосу совести), Pay го-
ворит, что, напр., понятие желания и настоящее кон-
кретное желание две вещи разные; точно так же и поня-
тие оценки от конкретной действительной оценки
различно; последняя имеет устремляющую силу, а
первая нет.
(На полях карандашом: к отделу о нравств. чув-
ствах).
(Мое). Но ведь достоинство чувствований теория
Бенеке меряет по
их силе: я могу мерять сукно арши-
ном, потому что аршин — мое мерило, но не могу нао-
борот — аршины мерить сукном. У каждого же чело-
века по теории Бенеке свое мерило, свои чувства, то
не могу же я сделать чужое мерило своим; меряя силой
достоинство чувства, я не могу наоборот — сделать до-
стоинство мерилом. Для объяснения Pay (Бенеке)
берет следующий пример: «возьмем, напр., музы-
кальную скалу —с, d, е, {, g, a, h, с. Только то, что
сообразно этой скале, правильно музыкально,
но эта
скала не дана человеку как готовая, прирожденная
норма, но возникает для каждого только в тех тонах и
с теми тонами, которые он узнает, и никогда ранее;
но тогда возникает она с необходимостью] ибо слуховые
первичные силы (Gehörvermögen) и звуковые возбужде-
ния (Tonreize), которыми условливается их возникно-
вение,— одни и те же для всех духовно-здоровых лю-
дей, сильных в слуховом чувстве. Следовательно, это
есть естественная норма точно так же, как и нравствен-
ная
норма» (ib., S. 146).
(il/.) Во-1-х, заметим, как здесь круто приходится
теории Бенеке, не признающей ничего врожденного.
Неужели не ясно, что музыкальная скала врождена че-
ловеку, хотя она и проявляется только тогда, когда
ее вызывают музыкальные возбуждения. Никто из го-
воривших о врожденности не разумел ее в других, что
будто человек так и запоет правильно, как родится.
Ро-2-х, что значит дух здоровый и обладающий
сильным слухом? А если у кого слух дурен, то для него
297
люди с сильным слухом не указ и он может орать, на-
рушая музыкальную скалу сколько угодно; но не то
в нравственном мире.
6 3-х, если в человеке выработалась ложная нрав-
ственная скала, то значит, в нем не выработалось на-
стоящей: следовательно, и чужие нравственные скалы
ему чужды, должны казаться ему ложными скалами;
потому что, если он ее и услышал от других, то она в нем
слабее его собственной, вырабатывавшейся долго и оста-
вившей,
следовательно, сильные следы; а сама же тео-
рия Бенеке достоинство измеряет силой.
В такие же противоречия заходит теория Бенеке,
желая сохранить идею общечеловеческой нравствен-
ности! Нет, из материализма нравственности не выве-
дешь, и держащиеся этого учения должны принимать
и все вытекающие из него последствия!
Далее: «что такое норма нравственная? Что она не
есть что-либо теоретическое, не норма для одного пред-
ставления, видно само собой». (М о е). Нет, вовсе не
видно:
у кого она выработалась, у того она практиче-
ская норма, принуждающая его, а у кого ее нет и кто
ее слышал только от других, для того она норма тео-
ретическая, чистое представление.
«Можно привести ее в повелительную форму и вы-
разить так: ты должен вещи, как благо и зло, так оце-
нивать и так к ним относиться, как это сообразно
с градацией (со скалой — Abstufung) достоинства ве-
щей для всех людей». (Л/.) Если для всех людей, то зна
чит, эта нравственная скала сильна
и для меня, значит,
она и меня вынуждает поступить так, а не иначе. В та-
ком случае это повеление не имеет смысла, бесполезно.
Если же у меня выработалась другая скала в оценке
достоинства вещей^ то значит основа этого повеления
(все люди) = =и не на всех.
№ 141. Бенеке не любит лакомых и резвых детей (удо-
вольствия тела для первых станут выше удовольствий
духа, вторые мало способны к духовным интересам уче-
ния). А опыт показывает, что дети резвые и лакомки
очень способны.
298
«Посредством большого множества следов могут
образы в низших чувствах получать гораздо большую
силу, чем образы, возникающие в высших чувствах,
хотя по природе последние крепче первых» (Lehrbuch
der Psychologie, S. 149). Мое. Но так как у первобытного
человека удовольствие пищи и одежды занимает пер-
вое место, то и крепость низших чувств должна быть вооб-
ще сильнее, а что сильно, то и нравственно,— igitur,…
удовольствие брюха выше удовольствий
головы.
№ 142. Верно: «Каждый приобретает на мир более или
менее обширный взгляд,— теоретический, насколько
влияние мира дало ему представлений; практический,
насколько мир вызвал в нем приятных и неприятных
образов» (ib., § 60, S. 150).
И верно и прекрасно выражено, только не полно:
кроме того, что дает мир, мы вносим еще в наше миро-
созерцание нечто свое, что мир нам не дал, а только вы-
звал в нас своим влиянием.
№ 144. «Безнравственность в обширном и тесном смы-
сле
есть превозмогающая сила стремлений и противо-
стремлений в отношении истинной цели вещей» (ib.,
§67, S. 152). Так, напр., если я даже вредные телесные
удовольствия предпочитаю здоровью, хотя по опыту
знаю, что здоровье лучше (этот опыт приходит обыкно-
венно слишком поздно!). Другой испытал, как приятно
помогать бедным, но из привычки к удобствам запирает
свой кошелек; третий знает, что хорошие учебные за-
ведения прекрасная и полезная вещь (не для него же!),
но когда доходит
дело до пожертвований, побеждает
скупость и т. д. (ib., S. 149).
M о е. Но если скупость и удовольствие телесное уси-
лились в нем выше удовольствий жертвовать и помо-
гать, то значит, он и прав, ибо, что сильнее, то и нрав-
ственнее, а до нормы других какое ему дело, тем бо-
лее, что большинство на его стороне.
№ 144. «В сознании человека, предпочитающего вре-
менное и вредное удовольствие здоровью (M. вечному что
ли? И что следует еще предпочесть г- два года веселой
жизни,
полной удовольствий, или 30-летнее скучное со*
299
хранение здоровья — это еще вопрос), пребывают два об-
раза: один — нравственной норме соответствующая
оценка и другой — отклоняющееся от нее желание. Пер-
вый образ выходит из внутреннейшей (der innersten
Natur) природы человека, из того, к чему эта натура
неудержимо стремится, ибо ей нужно безмятежное гар-
моническое развитие (?), а второй образ не соответ-
ствует этому направлению, отклоняется от него, только
случайно присоединяется
к правильному развитию,
а собственно не должен бы быть там» (ib., § 62, S.
159).
M. Какое злоупотребление слов! Бенековская тео-
рия должна бы совершенно выбросить слово развитие,
потому что по ней нет в человеке ничего, что могло бы
развиваться; и внутреннейшее человека есть тоже спле-
тение следов; внутри же человека нет ничего кроме
Пустых первичных сил, которые могут наполняться чем
угодно и одинаково законно наполняются всякими воз-
буждениями, каково бы ни было их
нравственное зна-
чение. «Случайно!» — но в теории Бенеке все случайно.
«Правильное развитие», но самое слово «развитие»
должно быть в теории Бенеке заменено словами «спле-
тение», ассоциация следов и т. п. Ни одна материалисти-
ческая теория не может говорить о развитии, ибо когда
нет души с ее собственным содержанием, то развиваться
нечему. Этим употреблением слов старая философия ма-
териализма весьма часто прикрывает свою наготу.
Кроме того, здесь говорится об оценках
и желаниях;
как о чем-то различном, когда по этой теории жела-
ния сами только высшая форма оценок, т. е. чувств,
и имеют право бороться с чувствами, а если они силь-
ны, то и правее. Какой подбор противоречий! Неужели
это расчет на то, что никто в такую гиль не вчитается?!
№ 145. «Обязанность и совесть в основании одно и то
же. Оба суть чувства,— соизмерение между оценками и
стремлениями, которые или сопровождают наши поступ-
ки, или им предшествуют или за ними следуют. Всякое
предшествующее
чувство, советует оно или отсоветывает,
называется чувством обязанности, а всякое последую-
300
щее— совестью; а укоряющая совесть — раскаянием»
(ib., S. 154).— Определение недурно.
«Прирожденной совести нет» (ib., S. 156). M. А
если нет прирожденной, то нет никакой, которая была
бы для человека обязательна; ибо, что сделано челове-
ком, то может быть им и изменено,— это его» дело, его
вещь, его собственность.
№ 168. Мое. Вывод нравственности .Для евангелия—
«люби других как самого себя».— Мы рождаемся с пра-
вами; нарушение этих
прав другими пробуждает в нас
первые явления нравственного чувства. Мы негодуем
на того, кто нарушает наши права, поступает ненрав-
ственно в отношении нас; потому образ этого нарушителя
является для нас черным. Если мы теперь нарушаем
также права другого, то происходит ассоциация обра-
зов: нашего и другого, черного; необходимый вывод,
что мы так же черны, а это противно врожденному стрем-
лению человека к совершенству.
Вот как появляются первые нравственные чувства:
бог
их основа. И наоборот: мы любим другого, когда он
с нами поступает хорошо. Устанавливая образ хорошего
человека, и мы невольно сопоставляем его с своим соб-
ственным образом и стремимся быть хорошими, потому
что стремимся к совершенству, к богу!
№ 193. Далее следует о нравственном чувстве. Очень
важно и многое превосходно. Отнесу в II 1-й отдел
§§ 255—285. Отлично о злобе, но и то следует отнести
в III-й отдел.
(Ф. 316, № 17, «Материалы к главе о чув-
ствованиях», л.л/
68 об.— 81 об.).
181. (III, 26). Раскаяние
Мы видим, что человек глубоко может мучиться рас-
каянием в таких поступках, в которых он собственно
не виноват,— так Эдип (The Emotion, p. 137).
Это уже не раскаяние, а прямое страдание дурно
употребленной жизни, выходящее из глубокого созна-
ния, что человек должен быть источником добра, а
не ела.
301
182. (III, 8). Совесть. Мнение Адама Смита
(Его Theory of Moral Sentiments). Ад. Смит думает,
что если человек представит самому себе, каким по-
кажется его действие беспристрастному свидетелю, зна-
ющему все обстоятельства дела, то он получит правиль-
ную оценку нравственного качества своего действия
(The Emotion, p. 302).
Бэн справедливо замечает, что человек легко здесь
сфальшивит в роли зрителя. Это верно: напротив, на-
добно приложить
к самому себе свое действие, и тогда
мы легче почувствуем его справедливость и несправед-
ливость.
Строя совесть на пользе, надобно, конечно, строить
ее на пользе большинства, как и делал Бэнтам (The Emo-
tion, р, 303, примеч.). Но тут же совесть наша восстает
против принесения меньшинства в жертву большинству.
183. (III, 12—13). Нравственность. Совесть
Основание совести у Бэна очень похоже на бенеков-
ское. Он, конечно, отвергает ее прирожденность и вы-
водит ее из идеи
наказания (The Emotion, p. 286). Не на-
казание — из совести, а совесть — из наказания.—
Шиворот-на-выворот! »•
Основание морали дают чрезвычайно различное’
«Волю божества, истинный разум, годность вещей
(the Fitness of Things), решения гражданской власти,
собственный интерес, беспричинные предписания спе-
циальной способности, называемой нравственным чув-
ством или совестью, общественную пользу, все это
перебрали в основание морали» (ib., р. 287).
Бэн разбирает некоторые
из этих оснований.
Первое основание,что мораль произвольно узако-
нена богом, не выдерживает и теологической критики.
Эта теория, как говорит английский мыслитель Кэд-
ворт, утверждает,что нет само по себе ничего абсолютно
и intrinsicaly злого или доброго, справедливого или
несправедливого прежде положительного приказа или
запрещения божьего. Окнам (Ookham) один из первых
302
утверждал, что «нет дурного действия, кроме того, ко-
торое запрещено богом и которое не могло бы сделаться
Хорошим по его повелению».
«Но необходимое и неизбежное последствие этого мне-
ния то, что, например, любовь к богу, по натуре своей,
не есть что-нибудь ни хорошее, ни дурное, и что это
морально хорошо потому только, что повелено богом».
Стюарт, приводя слова Кэдворта (Stewarts, Active Po-
wer. Vol. I, p. 247 и 266), прибавил к этому,что
если нет
вечного морального различия между злом и добром,
то тогда нельзя говорить о справедливости и благости
божьей.
Приводя это мнение Кэдворта, Дюгальд Стюарт
говорит, что после Кэдворта, как, например, Джонсон,
Дженнинс (Jennyns)n Палей впадали в ту же ошибку,—
как бы «забывая, что все, что они придают к величию
и всемогуществу божьему, отнимается у его нравствен-
ных атрибутов».
Шефтсбюри говорит: «Кто думает, что есть бог, и ве-
рит, что он справедлив и благ,
должен предположить, что
независимо существуют справедливость и несправедли-
вость, истина и ложь, право и неправо, и следуя этому
вечному и неизменяемому мерилу, он признает боже-
ство справедливым, благим и истинным» (ib., The Emo-
tion, p. 288, примечание).
Далее Бэн разбирает основание морали на собствен-
ном интересе.
Бэн говорит, что одно самолюбие не может быть на-
чалом морали, что самолюбие человека ограничивается
присущими его натуре другими началами, а именно
—
любви (которая по Бэну то же, что похоть — следова-
тельно — телесное наслаждение), безынтересных сим-
патий и безынтересных антипатий. (Без антипатий
и симпатий не мог вывернуться все же добросовестный
британский психолог: а что же это такое, как не инте-
ресы души? (Ib., р. 289 и 290).
Основание морали на нравственном чувстве, или
на совести,— утверждает, что «в человеческой душе есть
особенная способность, посредством которой в каждом
303
данном случае мы различаем справедливое от неспра-
ведливого» (ib., р. 290).
Представителями этой системы были многие (на-
пример, Руссо). В последнее время в английской лите-
ратуре защитником ее явился докт. Уэвель (Whewell,
.Eléments of Morality).
Вот как представляет эту теорию докт. Уэвель.
Совесть не есть личное мерило каждого отдельного
человека, вроде личного вкуса. Моральное мерило каж-
дого человека потому только и есть мерило
морали, что
оно предполагается представляющим высшее мерило,
которое выражается нравственными идеями добра, спра-
ведливости, чистоты, мудрости. Как каждый человек
.имеет свой ум, в силу своего участия в общем разуме че-
ловечества, точно так же каждый человек имеет свою
совесть в силу своего участия в общей совести челове-
чества, которой добро, справедливость, правда, чистота,
мудрость признаются высшим законом человеческого
.существа. Предмет разума определять, что истинно;
предмет
совести определять, что справедливо. Как
каждый разум отдельного человека может заблуждаться
.и привести его к ложному мнению, так и совесть отдель-
ного человека может заблуждаться и привести его к лож-
ному моральному мерилу. Как ложное мнение не унич-
тожает существования истины, так и ложное моральное
мерило отдельного человека не уничтожает действитель-
ности высшего руководства человеческих действий»
(ib., р. 291).
Но что же это за мерило, лежащее вне человека?
спрашивает
Бэн и доказывает, что никакого мерила вне
человека не существует; но увлекается слишком далеко;
так, он доказывает, что не объективная истина законов
математических делает их общими истинами, но одно-
образие человеческого понимания (ib., р. 293).H о самое
это однообразие понимания не лежит ли вне индивидуаль-
ности человеческой? Вот вам и истина вне индивидуаль-
ного человека. «В деле же вкуса, говорит Бэн: согласие
простирается только до ограниченного числа душ, и тут
останавливается»
(ib., р. 293). Законов искусства вне
304
отдельных мнений нет; а также нет и законов морали
вне отдельных личных мнений. «Но свойство человече-
ского ума состоит в том, что чувство известного числа
лиц способно сделаться обязательным для остальных
людей» (ib., р. 293). Мораль или моральное мерило
«есть только символ, побуждающий меньшинство сле-
довать большинству, которое, вместо того, чтобы вы-
ставить самого себя, как реальное мерило, привыкает
выставлять какой-нибудь чистый
и совершенный идеал,
существующий вне (aloft), который оно (большинство)
приняло для себя и имеет право силой навязывать вся-
кому другому» (ib., р. 294).
Так, в хоре каждый поет сам собою, но составляется
общий хор, говорит Бэн (ib., р. 294).— Но если бы вся-
кий пел свое и по-своему, то вышел бы не хор, а крик
множества людей. Существование законов гармонии,
общих всем, и способность каждого сообразоваться
с этими законами и позволяет составить хор. Положим
даже, как
доказывают материалисты, что законы гар-
монии зависят от свойства нервной системы; то и тогда
все же выходит, что они вне человека, начертаны не
«человеком по его личному мнению, существуют в мла-
денце прежде, чем младенец узнает их, существовали
прежде, чем люди открыли их в себе,— следовательно,
начертаны в нервах не человеком.
В том-то и сила хора, что он не агрегат, как его
называет Бэн,— это пение по одним нотам, а не агре-
гат.
«Точно так же, продолжает Бэн: общая
вера, общая
уверенность или общее убеждение есть не что иное,
как агрегат индивидуальных уверенностей; кроме этого
не существует никакой абстрактной, общей веры. И
если доктор Узвель говорит о всеобщем разуме, то он
не может под этим ничего подразумевать, как только
сумму индивидуальных разумов, или разумов неко-
торых лиц, которых толпа выбрала себе образцами»
(ib., р. 295).
Но в том-то и дело, что это не сумма, а произведение,
т. е. одно и то же мнение или верование,
взятое данное
305
число раз, и вопрос, отчего эти мнения тождественны, ос-
тается вопросом. Толпа следует избранным ею образцам;
но почему она им следует? Потому что они ее увлекают?
Но почему увлекают? Причина увлечения не в одном
предмете увлечения, а в том, кто увлекается. Одного
увлекает драма Шекспира, другому — она кажется де-
шевле старых сапог; причина не в драме Шекспира,
а в том, что господину N значение сапог понятно, а до
понимания Шекспира он
не дорос.
Однакоже мы не согласны и с мнением докт. Уэвеля,
который признает, что частная совесть может ошибаться,
как и индивидуальный ум: ни совесть, ни ум — не оши-
баются, иначе они не были бы ни умом, ни совестью и их
невозможно было бы исправить иначе, как по большин-
ству голосов. И тогда бы Христос, Сократ и Галилей —
ошибались, а толпа была бы права.
Совесть точно так же не ошибается, как и ум; они
всегда верно судят представляющийся факт; но в пред-
ставлении
факта может быть ошибка. На этом только
основании, одинаковости ума и совести во всех людях,
возможно было распространение знаний, торжество мы-
сли Галилея и торжество нравственного учения Христа.
Христос обращался к совести фарисеев, зная, что она ска-
жет им то же, что ему говорила его совесть; но если ма-
тематик убеждает в своей истине других, то только в той
уверенности, что этой истины другим образом и понять
правильно нельзя, что она абсолютно и объективно ис-
тинна
и что ум человеческий тоже истинен и одинаков
у всех.
Кроме того мы не признаем врожденности совести
в смысле Уэвеля. Совесть, как и всякая другая ассоциа-
ция идей и чувств, развивается опытом. Врождено чело-
веку только стремление к совершенству, а идеал совер-
шенства’ развивается с развитием человека.
Опытное начало совести оченъ просто и выражено
в евангелии: «не делай того другим, чего не хочешь,
чтобы другие тебе делали». Это отрицательней форма со-
вести, а вот
ее положительная форма: «делай другим то,
что хочешь, чтобы тебе делали другие».
306
Но что же является тут деятелем? — Сознание лич-
ности своей, равной всякой другой личности, и стрем-
ление к совершенству, не только кажущемуся, но ис-
тинному, к совершенству в своих собственных глазах.—
Дурное обращение с тобой возбуждает в тебе ненависть
и отвращение; то же возбудит и в других твое дурное
действие с ними.
Негодность материалистической теории в вопросах
искусства и нравственности довела до полных неле-
постей такого
умного человека, как Бэн.
Так, он доказывает, что истина обращения земли
вокруг солнца стала истиной только тогда, когда ее
узнали люди (ib., р. 295 и 296). Но тогда эта истина и
теперь еще—и истина, и ложь, и более ложь,чем истина.
Большинство людей и теперь не знает об обращении
земли вокруг солнца; следовательно, так как истина,
по Бэну, зависит от решения большинства, то обраще-
ние земли вокруг солнца есть и теперь более ложь,
чем истина? Что за дичь! Вот куда кидается
материа-
лизм!
«Истина в абстракте, говорит Бэн, не существует
точно так же, как не существует и вера в абстракте:
и то и другое имеет реальность только в конкрете»
(ib., р. 296). Но разве земля обращалась вокруг солнца
не конкретно, когда никто об этом не знал, но когда,
как и теперь, дни сменялись ночами?
«Общего разума нет: каждый уверен, что он общий
разум» (ib., р. 297).— Да, но есть факт, основанный
на разуме, и этот факт может быть им неизвестен и извес-
тен.
«Общая
совесть так же не может быть отыскана,
как и общий разум» (ib., р. 297, § 10).— Ну, если так же,
то может быть отыскана, как отысканы общие мате-
матические законы.
В другом сочинении Бэн выражает сжато, но ясно
свое мнение о совести. Это и может быть единственным
мнением материализма:
«Авторитет или наказание есть начало т^ого состоя-
ния души, которое известно под различными именами —
307
совести, нравственного чувства, чувства долга: Большая
часть каждого общества принимает известные правила
поведения, необходимые для общего сохранения или
для общего благосостояния. Каждый, кто сам не рас-
положен следовать правилам, предписанным обществом,
подвергается тем или другим наказаниям, заменяю-
щим другие мотивы, и наказание это возрастает в
жестокости, пока добивается повиновения.
Это-то управление и постоянное возрастание стра-
дания,
пока препятствие не было преодолено, бросает
в душу дитяти и юноши первые семена чувства долга.
Я не знаю ни одного факта, который бы мне доказал
первобытность подобного чувства в душевной органи-
зации» (The Will, p. 527).
Недурен отсюда и педагогический вывод:
«Если уже порядок раз установился в обществе, т. е.
практика повиновения делается обычной для массы
общества, то необходимо только прилагать дисципли-
нирующий процесс к юношам, чтобы приготовить их к
тому же самому
усвоению общественной нравствен-
ности» (ib., р. 528).
Но далее совесть самого Бэна смутилась; история
напомнила ему о тех личностях, которые хотели быть
нравственнее окружающего их общества, которых это
общество гнало и убивало за возвышенную нравствен-
ность. Что делать с такими личностями, нравственности
которых уже никак нельзя вывести из общества, кото-
рое, напротив, ласкало их за безнравственность и
гнало ва нравственность? Это могло бы действительно
привести в
затруднение, если бы не было наготове
употребительное слово, смысл которого тем не менее
неизвестен — это идиосинкразия; а такие самородные
совести суть совести идиосинкратические (ib., р. 532).
Но слово идиосинкразия, приложенное к такой обшир-
ной сфере психических явлений, к таким мыслям,
которые руководили всей жизнью человека, совершенно
однозначительно со словом мания и, следовательно,
величайшие образчики человеческой природы —маниа-
ки… Но что же такое род человеческий,
рано или поздно
308
увлекающийся манией этих маниаков?— Он настолько
низок, насколько велики мудрецы, стоящие выше этих
заблуждений. Вот и разгадка появления подобных
теорий.
«Если индивид расходится в понятии обязанностей,
сохраняемых обществом, к которому он принадлежит,
или отказывается от исполнения тех, которые на него
налагаются, или установляет для самого себя новые
обязанности, то можно сказать о нем, что он имеет
чисто свою собственную совесть.
Уже то обстоятель-
ство, что такие совести очень редки, сильнейшим обра-
зом доказывает, как мало врождена нам эта сторона
нашей природы. Эта самостоятельность совести разви-
вается обыкновенно чрезмерным ученьем и размышле-
нием, если только не простым чувством возмущения
против общественных стеснений» (ib., р. 532).
Но не ясно ли все глубокое падение подобной теории
совести? Что за выражение мало врождена? Может быть
совсем врождена или не врождена. Разве редкость
явления
<избавляет> от необходимости примирить его с
теорией? Да, эти явления редки в великих размерах,
как и все великое — вовсе не редкость в малых. Но
если у этих маниаков нравственности совесть могла
вырасти не из угроз большинства, а вопреки этим
угрозам,— то чем же вы докажете, что те же причины
не могли действовать и у других людей помимо угроз
или рядом с ними?
Также затрудняется Бэн и все материалисты, что им
делать с укорами совести в таких вещах, за которые
общество
не могло вступиться, например, с укором
совести в жестоком обращении с животными?.. Ну это
сделано европейцами по наведению; это не новое пра-
вило, а изложение старого: не разрушай человеческой
жизни, приложенное и к другому существу, которое
также чувствует (ib.).— Замечу по этому поводу только
одно, что «блажен человек, иже и скоты милует» — и
повеление забот о воле молотящем — не правило Евро-
пы, а пришло из Азии. Остальное же не стоит за-
мечаний.
309
184. (III, 14). Совесть. Ее врожденность. Врож-
денность внутреннего чувства. Внутреннее чувство. (В
главу вообще о чувстве)
Руссо вооружается против философов, отвергающих
врожденность совести. Он приводит слова Монтеня
(Montaigne, L. I, Chap. XXII):
«Законы совести, которые мы почитаем данными
нам от природы, происходят от привычки: каждый,
уважая внутренно мнения и нравы, принятые и одобрен-
ные вокруг, не может их нарушить без угрызения
совести,
ни выполнить без внутреннего одобрения».
Руссо смеется над тем, как подобные философы
выкапывают примеры у каких-нибудь путешественни-
ков и закрывают глаза на примеры всем известные.
«Всякий, говорят, способствует общественному благу
из своего интереса. Que’est-ce qu’aller à la mort pour
son intérêt? спрашивает Руссо весьма справедливо
(Em., p. 325).
«Отвратительна была бы та философия, которую
затруднили бы добродетельные поступки и которая не
могла бы иначе избавиться
от затруднений, как подыс-
кав для объяснения их какие-нибудь низкие мотивы и
эгоистические цели, которая была бы вынуждена
унизить Сократа и оклеветать Регула» (ib.).
Удачные слова Руссо: —
«Мы чувствуем прежде, чем внаем».
«Акты совести — не суждения, а чувства: все наши
идеи приходят нам ив внешнего мира, но чувства,
которые их оценивают, внутри нас (отлично!), и только
посредством этих чувств мы узнаем соответствие или
несоответствие между нами и предметами, которых
мы
ищем или избегаем».
«Наши чувства бесспорно предшествуют нашим
идеям» (ib., р. 326). Note!
Он тут доказывает, что между идеей и чувством
разница только в порядке восприятия нами: так, если
мы сначала воспринимаем предмет, если мы думаем
о себе только отвлеченно, то это идея: «напротив, когда
310
полученное впечатление возбуждает наше первое вни-
мание, и когда мы только отвлеченно (par reflexion)
думаем о предмете, то это чувство» (ib., р, 326, № 1)<.
Эту цитату надо привести там, где говорится о
душевном чувстве в отличие от органических. Заме-
чательно, как мысль Руссо похожа на мысль Спинозы
и Гербарта и запутана.
«Connaître le bien ce n’est pas l’aimeri l’homme n’en
a pas la connaissance innée; mais sitôt que за raison le
lui
(ait connaître за conscience le porte à l’aimer; c’est
ce sentiment qui est inné» (ib., p. 326).
Доказав врожденность совести, Руссо восклицает:
«Grâce au ciel, nous voilà délivrés de tout cet effray-
ant appareil de philosophie: nous pouvons être homme
sans être savants; dispensés de consumer notre vie à.
l’étude de la morale» (ib., 317).,,
185. (III, 15). Совесть. Ее врожденность
«Если бы здесь было место, говорит Руссо, то я
показал бы, как из первых движений сердца возникает
первый
голос совести и как из чувств любви и ненависти
рождаются первые понятия добра и зла; я показал бы,
что справедливость и доброта не одни отвлеченные
слова, но настоящие чувства души, освещенной разу-
мом, составляющие только правильный прогресс наших
первых чувств; что на одном рассудке, независимо от
совести, нельзя построить никакого ^естественного за-
кона, и что всякое естественное право — мечта, если
оно не основано на естественной потребности челове-
ческого сердца.
Но мне не приходится писать здесь трак-
тат метафизики и морали. Другие, может, докажут,
то, на что я здесь только указал» (Emile, р. 257).
А внизу, в примечании Руссо говорит, что самое
первое правило нравственности: «поступай с другими,
как хочешь, чтобы они с тобой поступали» основывается
само на совести и чувстве. «На каком же основании я
буду поступать, как будто я был другой, и тем более,
если я уверен, что никогда не буду в подобном поло-
жении?» И кто мне поручился,
что, поступая так, я
311
достигну, что и другие будут так же поступать со мной?
Люди дурные получают выгоду из честности добрых и
от своей собственной несправедливости, и для дур-
ного человека очень хорошо, чтобы все были справед-
ливы, кроме него. Но когда сила экспансивной души
отождествляет меня с подобным мне человеком, и когда
я, так сказать, чувствую себя в нем, то уже для того,
чтобы не страдать самому, я хочу, чтобы он не стра-
дал] Л интересуюсь им из
любви к самому себе и основа-
ние нравственного правила лежит в самой природе,
которая внушает мне желание моего благосостояния
во всяком месте, где бы я ни чувствовал себя существую-
щим. Отсюда я заключаю, что несправедливо утвер-
ждать, что предписание нравственного закона основано
на одном разуме. Любовь к людям, выходящая из
любви к самому себе, есть основание человеческой спра-
ведливости» (ib., Note).
Руссо опять противоречит себе, обвиняя выше совре-
менного человека
именно в том, что он привык суще-
ствовать там, где его нет; привык расширяться, выхо-
дить ив самого себя (ib., р. 62).
Но и на одном сострадании нельзя построить нрав-
ственного чувства. В друге своем я могу еще чувство-
вать себя; но не во всяком человеке, особенно, скажу
словами Руссо, «если я морально уверен, что никогда
не буду на его месте».
Нет, способность самосознания, самооценка и стрем-
ление к истинному совершенству, раскрытому в сердце
человеческом евангелием,—
стремление быть совер-
шенным в глазах самого себя и возможность удовле-
творить этому стремлению во врожденном чувстве
любви к благу, счастью, свету, истине — вот основания
человеческой морали. Сострадание же только средство
чувствовать бытие другого, и только.
186. (III, 16). Прирожденность способностей. Фре-
нология
Френологическим фантазиям ничто не противоречит
более, как факт, что у многих американских племен-
312
для красоты переделывают совершенно черепа детей,
то давая им коническую форму, то плоскую, чтобы лицо
походило на луну. Этак бы они все создавали людей с
особенными настроениями, чего однако не заметно
вовсе. Но если сказать, что от формы черепа не зависит
еще форма мозга, то как же френология по форме черепа
заключает о форме мозга? Да и не может же быть,
чтобы, раздавив голову дитяти сверху вниз, или с боков
кверху, или сзади и спереди
в круг, не дать особого
направления образованию мозга.
Бокль отвергает прирожденность и наследствен-
ность способностей (ч. I, гл. IV, стр. 133 и др.), но он
также отвергает факт помешательства наследствен-
ного и вообще наследственность болезней (ib., примеч.
12). Но тогда бы следовало отвергнуть и формальное
сходство; то же прилагает он к наследственным порокам
и добродетелям; но, если не ошибаюсь, далее сам себе
противоречит.
Действительно, немного ниже, на стр. 167,
он гово-
рит: «мы убеждены, что в том, что можно назвать
врожденными хорошими и дурными качествами, разви-
тия не было. Из различных страстей, с которыми мы
рождаемся, одни преобладали в одно время, ‘другие в
другое, но опыт показывает нам, что они постоянно
были враждебны и уравновешивались силой собствен-
ной противоположности». Причины такого изменения в
ходе нравственных качеств Бокль считает неизвест-
ными. Тут выражается вся сбивчивость психологических
воззрений
Бокля: умственные способности, таланты и
даже болезни не могут быть врождены, а врождены
нравственные качества — какой вздор! И это все для
того, чтобы доказать, что главное в истории умственное
развитие, идеи, а не нравственные качества, последствия
которых в итоге уравновешиваются, и что богатейший
народ (англичане, поляки) есть и умнейший и нрав-
ственнейший, да чтобы попов оттереть.
А на стр. 191 Бокль говорит о гениальных людях,
как рожденных по неизвестной причинен предупреждаю-
щих
развитие общества (ч. I, гл. IV, стр. 191). Следо-
313
вательно, признает врожденность особенных умствен-
ных способностей.
б) Стремление к совершенству и его отражение
в моральных переживаниях
187. (II, 15—16). Стремление к совершенству. Чув-
ство справедливости
Бенеке смешал чувство злобы с чувством справед-
ливости,— вот до чего доводит система.
«Присоединением (durch Unterlegen) личного ос-
корбления отличается злоба от чувства права и при-
мыкающих к нему стремлений, ибо при этом
нам не
нужно самим быть оскорбленными. Припомните спра-
ведливое негодование при слухе о несправедливом
угнетении, противодействие торжествующему элодею,
удовольствие, что его постигло справедливое наказа-
ние. Здесь также исключается та реакция, которая
иначе следует за представлением и ощущением ела;
и судья почувствовал бы угрызение совести, если бы он
несправедливо освободил виновного от наказания.
Таким образом мы имеем в чувстве права и в злобе
одни и те же составные
элементы с единственным разли-
чием, что чувство права фиксирует нас на представление
зла (наказания) и заставляет к нему стремиться мо-
ральное отклонение в преступнике, его внутреннее
качество] а в злобе в л ой человек вдумывает в душу дру-
гого взятые из самого себя собственные интересы и
наклонности, отклоняющиеся от нравственности» (Erz.
und Unt., Т. I, § 76, S. 323, 324).
Явное противоречие опыту и логике: злой человек
обманывает других, но не себя, приписывая дурное
доброму.
В
праве же часто сам виновный требует наказания,
а еще чаще чувство справедливости удерживает чело-
века от несправедливости. Если же душа требует нака-
зания преступника, то в то же время она содрогается
от наказания: представляя себя на месте преступника,
честный человек чувствует потребность наказания;
314
представляя себя переносящим наказание, содрогается.
Притом, при преступлении всегда есть оскорбленная
сторона, на место которой также переносит себя по-
сторонний судья: вот что примиряет душу с наказанием,
но вовсе не делает его приятною картиной, какой для
злого человека является несчастье или нравственное
падение другого.
Нет. Это большая ошибка Бенеке (он подробно
изложил это учение в «Grundlinien des Naturrechts…»,
В. I, S.
305—314). [Надобно взглянуть; наверно —
повторение!]
Мое. Чувство справедливости возникает, с одной
стороны, ив глубины самосознания; а с другой — из
искреннего стремления к совершенству.
Самосознание дает нам возможность делать объектом
сознания всякое его содержание, а продолжая так, как
это выяснил Фихте старший, мы доходим до своего Я,
которое является высшим абстрактом, которого мы
только можем достигнуть, и в то же время конкретней-
шим из конкретов, ибо оно не разделимо
и не отделимо.
Как высший абстракт и высший конкрет, всякое Я
равно другому Я; Я — Я: единственно существующее
для нас тожество. В глубине души всякого человека
скрывается это признание равенства его личности со
всякою другою личностью: христианство сделало его
религиозным законом, это не мечтательное равенство
людей перед сознанием. Эта философская идея — только
абстрагирована философами и сначала религией из
чувства, общего всем людям, хотя чувство это может
быть глубоко
закидано разным жизненным хламом.
Мы, по крайней мере, не можем себе представить чело-
века, который, углубившись в самого себя, не признал
бы, что он, как бы он высоко ни был поставлен,—
в конце концов только человек,— и с ним равное право
на жизнь имеет калека, преступник, нищий и т. д..»
Чувство права пробуждается нарушением нашего
права. Мы желаем не только восстановить наше право,
но и отомстить нарушителю, заставить его так же стра-
дать, как мы страдаем, потому что
он такое же Я.
315
Если теперь мы нарушаем право другого,’ то стоит
нам представить, что кто-нибудь другой так же нару-?
шил наше право, и мы почувствуем побуждение мести:
мы называем его негодяем, злодеем и т. д. А мы что
сделали? То же самое: следовательно, не только он,
но и всякий другой по праву может назвать нас него-
дяем, злодеем, бесчестным и т. д., и в глубине души мы
ничего не можем сказать против такого приговора*.
Тогда оскорбляется в нас стремление
к совершенству,
и мы или отказываемся от задуманной несправедли-
вости, или исправляем сделанную.
188. Чувство мести
Месть — страсть очень сложная и которую напрасно
называют одним и тем же чувством у животных и у
людей. Животное, говоря строго, вовсе не может знать
мести, как и мы не ощущаем ее в отношении животных
как предметов бездушных. (Это замечает и Бэн, The
Emotion, p.—, но плохо объясняет причину). Если
животное кидается на того, кто причинил ему страда-
ние,
то это просто гнев, т. е. стремление уничтожить
причину страдания; если животное, и спустя долгое
время, кидается на человека, причинившего ему стра-
дание, то это просто потому, что, видя вновь причину
своих страданий, оно испытывает в отношении ее то же
гневное чувство, которое испытывало и тогда, когда
оскорбление было нанесено. То же самое испытываем
мы и в самих себе; но это не месть, а просто возбуждение
гнева представлением, которое сильно его возбудило
в нас однажды.
Это простой рефлекс —аффект гнева.
Но кроме этого, чисто животного чувства мы замечаем
в себе особое, болезненное чувство нарушения нашего
права, и именно стремление восстановить это нарушен-
ное право мучит нас чувством мести. Вот почему чув-
ство гнева мы можем испытывать в отношении всего,
что мешает удовлетворению наших стремлений, даже в’
отношении бездушных предметов, и с досадой отталки-
ваем даже камень, ва который мы запнулись. Но чув-
* Припомнить слова Гербарта.
Исполнение.
316
ство мести мы можем испытывать только в отношений
людей и притом таких людей, которых считаем себе
равными, т. е. при полном развитии понятия личности
всех людей как людей. Человек, нанесший оскорбление
другому человеку, этим самым фактом не признает его
равенства с собой: такое же или подобное оскорбление,
нанесенное оскорбленным оскорбителю, поставит их
на одну доску, уравняет их. Следовательно, чувство
своего человеческого права, врожденное
только чело-
веку, есть источник мести. Вот почему в душе, мало
способной не к мести, но к ненависти, чувство мести успо-
каивается, если обидчик раскается в своей обиде, т. е.
признает равноправность своей личности с личностью
обиженного. Вот почему дуэль признается обществен-
ным мнением за нечто дозволенное и благородное, хотя
в основании ее лежит крайне безрассудная мысль:
она оправдывается не умом, но чувством. Дуэль,
подвергая одинаковой опасности жизнь обоих сопер-
ников,
ставя их лицом к лицу перед великой уравни-
тельницей всех людей—смертью, тем уже самым
признает их равноправность,— вот почему дуэль, окон-
чившаяся даже легкой царапиной, удовлетворяет чув-
ству мести.
Но самое чувство мести есть уже гневное чувство,
потому что сознание оскорбления, непризнания кем—
нибудь нашего человеческого права мешает нам жить
и как всякая помеха жизни вызывает наш гнев. Но
если извинение и восстановление нашего человеческого
права не удовлетворяет
нас, то значит, в нас кроме
чувства мести развилось еще и чувство ненависти к
оскорбителю, которое может дорасти до того, что двум
людям становится тесно жить на земле. При суждении
о дуэли судья должен был бы собирать все улики,
показывающие, какие чувства руководили соперни-
ками: чисто ли человеческое чувство мести или живот-
ное чувство ненависти и насколько они подчинились
тому или другому: не мстить врагу — христианская
добродетель; не давать хода чувству ненависти —
обя-
занность каждого человека.
317
Ив самого анализа чувства мести мы легко поймем,
почему месть личная и родовая легли в основу всех
законодательств и почему, напр., до евангельской
проповеди месть считалась не только правом, но и
обязанностью.
(Ф. 316, № 23, «Чувственные состояния
души», л.л. 61—63).
189. Месть, ведущая к истреблению целых родов,
племен, народностей, наполняет собой страницы исто-
рии,— так сильно в человеке это чувство (Бэн, The
Emotion and Will,
p. 173).
Мое. В мести есть уже элемент права] потому-то
с нее и начинается право всех народов. Месть не только
была правом, но и обязанностью. Оскорбитель, не при-
знавший моей личности, должен быть уравнен со мной,
т. е. получить оскорбление как знак того, что он такой
же человек, как и я. Он должен почувствовать свою
равноправность со мной. Вот психологическое основа-
ние в начале всех уголовных кодексов первобытных
народов. Зуб за зуб, жизнь за жизнь: ибо всякая чело-
веческая
жизнь равна другой.
(На полях карандашом): Месть чувство человеческое,
не имеет общего с мстительностью животных, которая
есть просто возбуждение гнева видом предмета, нанес-
шего нарушение любви. Месть начало законодатель-
ства.
(Ф. 316, №. 17, «Материалы к главе о чув-
ствованиях» , л. 53).
190. (II, 17). Идея справедливости
Наблюдая над ребенком, которого ударила корми-
лица, Руссо признает врожденность чувства справед-
ливости. Это место очень хорошо и живописно
— его
следует перевести. Но это все показывает только гнев,
а не чувство справедливости, которое развивается
только в обществе и при сравнении (Emile, р. 43).
318
191. (II, 3). Самолюбие
Бенеке отвергает врожденность самолюбия, на ко-
тором другие философы часто основывают все чувства.
Это верно; но только в том случае, если мы при-
мем самолюбие в ограниченном смысле: самолюбие
не врождено; но стремление жить и прогрессивно
расширять жизнь врождено и действительно служит
источником всех других склонностей (Erz. und Unt.,
T. I, S. 67, 271).
Бенеке принимает самолюбие в ограниченном смысле
преодоления
ассоциаций представлений, связанных
собою, и стремлений, из них возникающих, над груп-
пами представлений и возникающих из них стремлений,
связанных идеей другого.
«Если расширение первых чрезвычайно велико, а
расширение <вторых>* мало,— то мы получаем то, что
в обыкновенной жизни называют самолюбием* (ib.,
S. 271).
Но так как вероятнее, что человек более имеет слу-
чаев думать о себе, чем о других, и что самолюбивые
группы, следовательно, образуются сами собою,
«то
воспитатель должен содействовать образованию
групп задатков, относящихся к другим людям».
Мое. В этом отношении мы считаем весьма полез-
ным, чтобы отец, например, чаще обращал внимание
детей на мать, заставляя их думать о ней, заботиться,
и наоборот. Где родители любят и уважают друг друга,
там и дети будут любить и уважать их.
Слишком сильные заботы о дитяти делают самолюб-
цев, когда все окружающее только для них и живет
(ib., § 67, S. 272).
«Так слишком нежные заботы
о ребенке… почти
неизбежно ведут к глубоко заложенному узкому само-
любию».
Но также к этому недет и тиранское обращение о
детьми, когда никто об них не заботится, так что дети
начинают сами о себе заботиться (ib.),
* В ркп. «первых». (Ред.)
319
Нужно обращать внимание дитяти как можно меньше
на самого себя, не говорить с ним о нем самом, а для
этого давать ему всегда занятие (S. 272).
192. (II, 4). Стремление к совершенству. (Его извра-
щение). Самолюбие. (Стремление жить). Нежность
Вот как Руссо определяет самолюбие:
«Источник наших страстей, основание и начало всех
других, единственное, которое рождается с человеком
и не покидает его, пока он жив,—это любовь к самому
себе
(l’amour de soi): страсть первоначальная, вро-
жденная, предшествующая всем прочим, и в отношении
которой все прочие страсти суть только видоизменения»
{Emile, р, 228).
Но ясно, что в этом случае совершенно неверно
употреблено и слово любовь и слово страсть.
Можно любить только то, о чем имеешь хотя какое—
нибудь понятие; но разве, рождаясь, мы имеем о себе
какое-нибудь понятие, и не является ли понятие о себе
позднее многих других понятий?
Руссо это чувствовал и потому
назвал любовь к себе
«слепым инстинктом» (ib., р. 229); но в основе всякой
любви лежит слепой инстинкт, т. е. стремление к пред-
мету, причины которого мы не внаем.
Руссо отличает любовь к себе от самолюбиям
«Любовь к себе, относящаяся только к нам, довольна,
когда удовлетворены наши действительные потребно-
сти; а самолюбие (Pamoure propre), которое себя срав-
нивает, никогда не довольной не может быть удовлет-
ворено потому, что это чувство, предпочитая нас дру-
гим,
требует, чтобы другие предпочитали нас самим
себе, что невозможно. Вот почему из любви к себе
родятся тихие и любящие страсти, а из самолюбия —
страсти ненавидящие и гневные» (ib., р. 229).
Отсюда вывод: «чтобы человек был существенно
добр, он должен иметь мало потребностей и мало срав-
нивать себя с другими; существенно же злым делается
он оттого, что имеет множество потребностей и держится
много чужого мнения».
320
Взгляд Руссо нам кажется верен; но не нужно назы-
вать это любовью и страстью, а это просто, как мы и на-
звали, стремление жить. После Бенеке образование
самолюбия уже совершенно ясно; и замечательно,
как уже Руссо подходит к той же мысли.
Положение, что чем у человека менее потребностей,
тем он более склонен к нежным чувствам (passions
douces et affectueuses), — не аксиома, но замечание,
часто оправдывающееся, именно по-нашему объясняется
так:
«чем у человека более сил остается за удовлетворе-
нием его стремлений, тем он щедрее, нежнее, добрее».
Отсюда, конечно, правильный педагогический вывод,
чтоб у человека потребностей было менее, чем сил
удовлетворения им:— пусть довольствуется скромной
долей, и будет добр.
193. (II, 5—6). Стремление к совершенству. (Со-
перничество)
Соперничество возникает также из стремления к
совершенству. Бенеке (и Руссо) весьма справедливо
восстают против него; но мне кажется, надобно
отли-
чать ^соперничество) от увлечения общей деятельностью
и, так сказать, инстинктивного симпатического сопер-
ничества, которое может быть употреблено в школах,
как полезное и действительное средство.
Главным образом соперничество опасно для тех,
кто побеждает; оно легко может выродиться в злобу,
т. е. желание превзойти другого отрицательным путем,
т. е. унизив его, так как сам не можешь подняться.
К несчастью, в наших школах этот порок, худший из
пороков, ведущий прямо
к глубочайшему падению,—
к ненависти к добру из зависти, порок дьявола, «хула
на духа святого» (объяснить в примечании), непрощае-
мый грех, ибо его нельзя простить,— часто встречается
в наших школах. Вот почему мы вполне согласны с
Бенеке, когда он говорит: «воспитатель должен избе-
гать всего, что может повести дитя к сравнению себя
с другими. Во всех отношениях он должен как можно
321
менее различать вверенных ему детей» (Erz. und Unt.,
Т. I, § 63, S. 251).
«Воспитатель не должен никогда хвалить дитя в
сравнении с другими, но только в сравнении с его соб-
ственным прежним несовершенством, или еще лучше —
в сравнении с нормой того совершенства, которое дости-
гается» (ib., S. 251).
Если эта склонность уже укоренилась, то надо
противодействовать ей, ставя детей в такое положение,
чтобы возвышающийся почувствовал свою
слабость,
а упавший духом — свои силы (ib., S. 251).
Оставим в стороне всякое догматическое значение
наших церковных служений и торжеств — взглянем
на них глазами этики языческой: что выражено в них?
Торжество нравственности, всемирное торжество в
ранах, рубище, посреди насмешек, поруганий, под
побоями, на кресте, в гробе, наконец, нравственности,
от которой все, даже преданные ученики бежали,
торжество тем более сияющее, чем более оно унижено…
Что более возвышенного,
укрепляющего, эстетического
может дать человеческая философия, история, искус-
ство?
Вот та укрепляющая атмосфера, в которой воспи-
тывается христианское дитя. Очищайте ее от миазмов,
если по слабости и невежеству людей она наполнена
ими; но не извлекайте из нее детей, если не хотите,
чтобы за неимением нравственного воздуха они задох-
лись в прозаизме жизни, постоянном трепете о куске
хлеба ит. д.
194. (II, 7). Стремление к совершенству. Гордость
(Броун). Тщеславие
Гордость
Броун также выводит из стремления к
совершенству:
«Не в самой гордости, или наслаждении превосход-
ством как в прямом душевном движении, состоит
нравственная ошибка; но в тех дурно направленных
привязанностях, которые увлекли нас к преследованию
322
превосходств, которые недостойны наших желаний»
(Бр., р. 413).
Броун приводит превосходный отрывок из Массильо-
на, который топчет аристократическую гордость рож-
дением.
Отрывок этот так хорош, что следовало бы весь
перевести (ib.).
Это приложимо,. говорит Броун, и ко всякой другой
специальной гордости, «не основанной на внутреннем
превосходстве душевного характера» (ib., р. 414).
Но по-моему и эта гордость губительна и смиряется
у
подножия креста господня.
Но чем и чем не гордится человек?
«Но что мы должны подумать о человеке, говорит
Броун, который гордится тем, что пришпилил пуго-
вицу там, где ее никто не пришивал прежде» (ib., р.
414).
Но все это проявления божественной природы
человека — его стремления к совершенству (ib.).
Броун ошибается, не отделяя тщеславия от гор-
дости: тщеславие стремится поразить других хотя
такими преимуществами, которых само не признает.
Так, человек лжет, хвастает
из гордости, и дово-
лен тем, что ему удивляются, хотя и знает, что он украл
это удивление ложью. Вот моя мысль.
Простое чувство гордости, т. е. «удовольствие, ощу-
щаемое нами от сознания нашего превосходства, есть
только доказательство того нашего желания превос-
ходства во всем, что благородно, которое составляет
большую часть нашей добродетели и без которой едва ли
можно представить себе существование добродетели».
«Привычка добродетели, говорит Броун далее, есть
в
сущности не что иное, как правильная сообразность
наших действий с желанием общего превосходства.
И желать, превосходства, не чувствуя сладости при
каждом шаге в этом прогрессе к его достижению, так
же мало возможно, как чувствовать мучения голода и
не чувствовать удовольствия его удовлетворения» (ib.,
р. 416).
323
Верно; но стоит остановиться на атом наслаждений,’
и оно обратится в порок. В другой порок выродится:
это законное стремление, если мы сравниваем себя с
другими и сердимся на их преимущества, которые нам
трудно обгонять.
Нужно смотреть вперед, а не назад] не на пройден-
ный путь, а на тот, который нужно еще пройти.
Это обычное стремление смотреть вниз (а по-моему
назад) скорее,чем вверх (а по-моему вперед)2 есть душев-
ный характер,
называемый гордостью] тогда как стрем-
ление смотреть вверх, скорее чем вниз, и чувствовать
(inferiority) недостатки, которых другие, может быть,
не примечают, называется смирением (hunXity) (ib.,
p. 417).
195. (II, 8). Стремление к совершенству. Гордость.
Тщеславие. (Смирение). (Броун)
Глупая гордость — от ограниченности ума и позна-
ний.
«Когда хан татарский кончал свой обед, тогда ге-
рольды кричали, что теперь все владыки мира могут
садиться за стол, когда им угодно»
(р. 417).
Чем больше человек знает, тем гордость его менее.
«Кто же рожден для высшего превосходства, тот
видит пред собою идеал совершенства» (ib., р. 418).
Мое. Этот идеал надобно внедрять детям с дет-
ства, а этот идеал Христос. Каждый христианин рож-
ден для высшего совершенства!
«Он менее думает о том, что сделано, чем о том, что
еще может быть сделано» (ib., р. 418).
196. (II, 9). Стремление к совершенству. Его изв-
ращение. Честолюбие
Честолюбие есть уже стремление
к признанию в
нас совершенств другими. Собственно говоря, основа-
ние его, как замечает и Бенеке (Erz. und Unt., § 6£,
T. I), основа его правильна. Действительно, мы так
часто обманываемся в собственных о себе мнениях,
«что подтверждение наших достоинств и недостатков
324
другими во многих случаях целебно и даже необхо-
димо» (ib., S. 247).
«Вообще, говорит Бенеке, мало таких людей, кото-
рые находились бы в таком самостоятельном отношении
в нравственном и благородном, чтобы не нуждаться в
поддержке, которую дают человеку стремление к доб-
рому имени у других людей» (ib., S. 247).
Тем менее, конечно, можно ожидать этого от
детей, и потому воспитатель не должен подавлять
этого стремления, которое является
часто лучшим
побудительным средством.
Но, с другой стороны, это стремление имеет и
много сомнительного, так как свет, не обращая внима-
ния на внутреннее качество человека, часто хвалит то,
что в сущности вовсе не хорошо.
Поэтому Бенеке советует приучать детей дорожить
мнением избранного кружка и вообще делать различие
в тех, которые его хвалят или порицают.
Вообще он советует возвращать другие мотивы,
так чтобы «воспитанник не поставлен был в слишком
большую зависимость
даже от похвалы или порицаний
своего воспитателя; иначе в случае удаления или смерти
воспитателя у воспитанника отнят будет мотив противо-
стоять искушениям» (ib., S. 249).
Особенно сильно честолюбие действует в женском
поле, так как он вообще восприимчивее (ib.,р. 247). Тще-
славия вообще у женщин более. Искоренять его—значит
действовать против природы женщин; но надобно обра-
тить его в хорошую сторону, и вообще воспитывать
уважение к собственному мнению.
Но вообще советы
Бенеке в отношении склонности
честолюбия слабы и сбивчивы.
Это зависит от того, что, признав за основание
нравственности мнение большинства, он попал в
затруднительное положение, когда практика навела
его на положение, когда мнение большинства прямо
противоположно основам нравственности.
Прямо противодействовать честолюбию следует раз-
витием в детях прямой любви к красоте нравственных
325
поступков. В своих собственных совершенствах мы
можем ошибаться, но в красоте поступка мы не оши-
баемся: картина истерзанного и поруганного Христа
не оттолкнет от него ни одной человеческой души.
Бенеке потому так снисходителен к честолюбию—
этому источнику величайших бедствий человечества,
что, отказавшись от врожденного стремления к нрав-
ственности, ему не на чем было более построить своей
нравственности, как на приговоре большинства;
но
этот приговор одобряет иногда величайшие злодейства
только потому, что они одеты блеском успеха.
197. (II, 10). Стремление к совершенству. (Често-
любие)
Фиеско у Шиллера говорит:
«Позорно подтибрить кошелек, постыдно обмануть
на миллион, но похитить корону — это невыразимо
велико».
198. (II, 11). Стремление к совершенству. Его извра-
щение. Зависть. Соревнование
«Очень странно, что с тех пор, как начали вмеши-
ваться в воспитание детей, для исправления их не
выдумали
другого орудия, кроме соревнования, зави-
сти, ревности, тщеславия, жадности, низкого страха,—
все самые опасные страсти, которые скорее всего начи-
нают бродить и могут скорее всего испортить душу,
прежде даже чем разовьется тело. При всяком прежде-
временном знании, которое хотят внести в голову дитя-
ти, садят пороки в глубину его сердца» (Emile, р. 74).
Перепробовали все средства, говорит Руссо, кроме
одного, которое именно и может успеть: это «la liberté
bien réglée»
(ib., p. 74).
Но из дальнейшего видно, что главное орудие
Руссо — обман. Он как бы дает свободу ребенку, а
за кулисами устраивает дело так, чтобы эта свобода
была не настоящая свобода, а переодетый свободою
гувернер. Но что если дети заглянут за кулисы, или
разглядят гувернера в платье свободы?
326
Это коренная ошибка Руссо, на которую еще,
кажется, не обратили внимания.
Пример далее, как он отучил самовольное дитя,
подкупив отца и целую улицу… А что, если бы кто
сказал дитяти, что эта вся штука устроена? Тогда что
сталось бы с его доверием к воспитателю и отцу?
Хороший совет — сохранять и даже вешать на стену
рисунки дитяти (его прописи и проч.), чтобы оно само
видело свой прогресс (ib., р. 143).
«Du reste jamais de comparaisons
avec d’autres enfants,
point de rivaux, point de concurrents; j’aime cent fois
mieux qu il n’apprenne point ce qu’il n’apprendrait
que par jalousie ou par vanité» (ib., p. 194).— Совер-
шенно верно.
И тут же советует давать ребенку чувствовать свои
успехи сравнением с прошедшим его состоянием.
В другом месте Руссо выражается еще резче против
поощрений ученья соревнованием с .другими: «ces
comparaisons ne ее font jamais sans quelque impression
de haine contre ceux, qui
nous disputent la préférence
ne fût-ce que dans notre propre estime» (ib., p. 245)..
199. (II, 12—13). Стремление к совершенству. Его
извращение. Злоба. (Бенеке)
Мы не внаем, кто бы лучше Бенеке разоблачил
натуру злобы, хотя он и здесь заплатил дань основным
ошибкам своей системы.
Прежде всего он отличает зло вообще, как всякое
нарушение морали, от злобы в частности, которую он
определяет так: это, по Бенеке (сделаем яснее его тем-
ный язык), есть извращение чувств, основанное
на
сравнении себя с другими. Чуждое счастье, чуждые
преимущества испытываются завистливым человеком
с неудовольствием, с болью; а чуждые страдания и
несовершенства в характере испытываются с удоволь-
ствием; и вследствие этого злой человек -стремится
содействовать первым и противодействовать вторым
(Erz. und Unt., T. 1, § 76, S. 320). Где такое извращение
чувств выходит не из случайных, преходящих об-
327
стоятельств, но ив внутреннего человека,— там это
злоба.
В доказательство того, что злоба находит себе пищу
в сравнении, в ярком представлении удовольствий или
страданий другого, Бенеке приводит весьма метко,
что «редко кто-нибудь испытывает зависть или зло-
радство в отношении людей незнакомых» (ib., § 76,
ё. 322, примечание).— Потому что не может живо пред-
ставить себе его счастье или несчастье.
Все это очень верно; но к этому Бенеке
примешал
много ошибок: так, он смешал чувство злобы с чувством
мести (ib., S. 323),— и даже видит однородность чувства
справедливости с чувством злобы, так что они отлича-
ются по его системе только прибавкой чувства личного
оскорбления (ib., S. 323, 324).
Кроме того, он говорит, например: «Из двух сопер-
ников злой не победитель, но скорее побежденный»
(ib., S. 233). Совершенно напротив: тот вол, кто топчет
побежденного, чтобы его страданиями увеличить свою
радость; а
не тот, кто ненавидит победителя.
«Глубочайшее основание, conditio sine qua non —
для образования злобы есть практическое ограничен-
ное самолюбие» (ib., S. 321).
Также справедливо, что люди самолюбивые могут
еще не быть людьми злобы: они просто занимаются
только своими интересами, а не чужими (ib.); что к
этому должно еще присоединиться сравнение] а я
скажу, что и того мало. Вот мое объяснение.
Зависть, a за нею и злоба вырастают из того же
глубокого корня, ив которого
вырастают и лучшие
наши качества; плоды добра и зла росли в раю на одном
и том же дереве.— Этот корень есть стремление х
совершенству. Если стремление это обращается на
любование своими личными совершенствами, более
стремится к наслаждению, чем к деятельности,— тогда
образуется самолюбие. Чем более ассоциаций завязало
самолюбие, чем более человек привык смотреть на все
через очки своего личного или семейного эгоизма; тем
«ближе уже порождение зависти] но для этого необ-
328
ходимы еще ассоциация сравнения. Or зависти до злобы
еще не один шаг: когда человек только с болью смо-
трит на счастье другого, это еще зависть; но когда он
уже радуется несчастью других, это уже шаг далее;
злорадство — высшая степень зависти; но когда он
практически решает сделать себе чувство удовольствия,
испортив счастье другого,— это уже злоба. Но злоба
может являться отдельными случаями и может за-
владеть всей душой. Тут еще много
ступеней: человек,
для которого сами по себе дороги или наука, или ис-
кусство, или отечество, примиряется с счастьем лиц,
служащих общему делу; но если самолюбие наполнило
всю душу и для человека нет других интересов, кроме
личных,— злоба его обращается на всякое счастье.
Но и это еще не последняя ступень извращения души!
Если в самом человеке есть какие-нибудь достоинства,
или если в нем не умерла всякая надежда к достижению
этих достоинств, то злобе его есть предел. Но
если
человек сам вполне сознает свою низость, то единствен-
ное средство для него стать выше других — это пони-
зить всех до своего уровня. Тогда душа его с остервене-
нием кидается на всякое достоинство и на всякое
счастье и наслаждается пороками и бедствиями; Глу-
бока эта степень падения, но есть еще и ниже и это уже
последняя: человек начинает ненавидеть не людей
добра, но самое добро, и гонит его сознательно только
потому, что оно добро.
Мы думаем, что эту именно
ступень злобы надо
разуметь под теми страшными грехами «хулы на духа
святого», которая даже по словам всепрощающего
не может быть отпущена ни в сей жизни, ни в будущей.
Не забудем, что эти слова сказаны спасителем после
того, когда фарисеи приписали его чудеса злому духу.
Не значило ли это называть духа добра духом зла
и духа зла духом добра, и называть сознательно!
Вот что значит хула на духа святого — и такая душа
не прощается потому, что не может быть прощена, ибо
из
человеческой душа делается демонскою.
Далее Бенеке переходит к развитию злобы в детях.
329
«Злые дети, говорит он, являются сначала непре-
менно самолюбивыми или от слишком большой неж-
ности к ним, или от пренебрежения и гонений. Но ни в
каком случае все самолюбивые дети не являются в то
же время злыми детьми. Вообще при веселой обстановке,
как, например, в очень богатых семействах, где во всем
царствует изобилие и отказ в чем-нибудь встречается
редко (и когда дети здоровы), мы находим иногда и
самое развращенное воспитание,
но не находим злобы
и зложелательства. Но и в семействах, выносящих
большую нужду, и в которых царствует ограничен-
нейшее себялюбие, нередко не встречается злоба именно
тогда, когда эти семьи живут отдельно и не имеют слу-
чая часто сравнивать своих обстоятельств с более
счастливыми» (ib., § 76, S. 325).
Это замечание Бенеке чрезвычайно верно, но не
полно; так образуются души завистливые, но еще не
злобные. Только порок, унижающий человека в соб-
ственных глазах, попадая
на характер уже завистли-
вый, делает его злобным. Бенеке странным образом,
сознавая сам, как сложен характер злобы и что для
проявления этого чувства нужны развитые представ-
ления и сравнения, признает в то же время, что злоба
может проявляться в младенцах нескольких месяцев:
это ясное смешение чувства злобы с чувством гнева.
Сердиться могут и бессловесные младенцы, но не злоб-
ствовать. Какое же дитя будет злиться оттого, что
другое дитя счастливо, — это чистая невозможность.
Если
же дитя сердится, когда мать ласкает другого,
то это не злоба, а гнев на помеху получить эти ласки.
Ни одно дитя не будет злобствовать на счастье другого
дитяти, которое радуется ласкам своей матери. Даже
животные сердятся, когда те лица, которых они любят,
ласкают других животных; но, конечно, ни одно живот-
ное не способно к той компликации представлений,
которую сам же Бенеке требует для образования
чувства злобы.
К злобе причисляет также Бенеке желание детей
дразнить
друг друга, но извиняет это только тем, что
330
это отдельные проявления чувства злобы, но которые,
при известной разорванности детских представлений и
чувствований, хотя очень важны, но не имеют еще
гибельного значения; ибо это наслаждение страданиями
другого, гадкое само по себе, нисколько не исключает
добрых чувств, которые может питать дитя к тому,
кого оно дразнит. Пусть ему удастся его попытка,
пусть тот, кого он дразнит, действительно зарыдает,
и ему станет жаль его.
Я же
думаю, совершенно противоположно мнению
Бенеке, что <склонность> дразнить именно часто
проявляется в достаточных семействах. Должно при-
писать (ее) желанию дитяти показать влияние и власть,
а не чувству злобы.
Правда, и Бенеке говорит, что надо остерегаться
смешать то, что злоба, с тем, что еще не злоба, но не
сам ли он назвал эти проявления в детских характерах
отдельными проявлениями злобы. Ясно, что Бенеке
сам сознавал какое-то противоречие в своем изло-
жении.
Противодействовать
образованию злобы (значит) —
противодействовать образованию тех элементов, ив
которых злоба составляется; а именно — образованию
узкого эгоизма, ограниченного личными или семей-
ными интересами, образованию зависти из сравнений и,
наконец, образованию действительной злобы из поро-
ков и потери к себе уважения.
Замечание Бенеке, что противодействие злобе нака-
заниями не ведет к ее уничтожению, хотя может повести
к сокрытию ее (ib., S. 328).
«Если, говорит Бенеке, дитя
поставлено в такое
несчастное положение относительно своих родителей,
братьев, сестер, товарищей, то должно во что бы то ни
стало разрушить те отношения, которые грозят отра-
вить его характер».
Но удовольствие, получаемое из злобы, должно
быть отравлено для дитяти; и при атом открыть
другие источники удовольствий: в счастья люди не
злятся*
331
200. (II, 14). Стремление к совершенству. Его извра-
щение. Властолюбие
Дюгальд Стюарт прекрасно его определяет:
«Видя себя причиною какого-нибудь действия, мы
испытываем гордость, наслаждение сознанием власти,
и это наслаждение вообще пропорционально величию
действия сравнительно с малостью нашего усилия»
(The Emotion, p. 145).
Властолюбие — чрезвычайно рано развивается у де-
тей: «обыкновенные препровождения времени дитяти,
говорит
Стюарт, — те, которые дают ему идеи о его вла-
сти. Бросая камень, производя стук, он доволен именно
тем, что мог это сделать» (ib., р. 145).
Бэн, напротив, выводит это удовольствие из пользы,
которую мы извлекаем из действия; и это ясно противо-
речит факту. Если бы только польза (была) эффектом,
то мне бы все равно, кто бы это ни сделал, но тут именно,
почему не я?— Следовательно, это — врожденное стрем-
ление к совершенству (ib., р. 147,148).
Перечисление дурных и хороших
последствий любви
к власти. Можно бы привести в цитате (ib., р. 154).
Властолюбие принимает чрезвычайно разнообразные
формы: ревность, семейное властолюбие, школьное
(ib., р. 155), чиновничье, завоевательное, властолюбие
науки, искусства, властолюбие мнений—(нетерпимость)
(ib., р. 157).
Бэн вообще слагает чувство властолюбия из трех
удовольствий:
1) удовольствие упражнения силы — мускульное
движение; 2) удовольствие достижения цели, которая
сама по себе нам приятна;
3) удовольствие прекращения
телесных усилий вместе’ с достижением цели. Что—
нибудь одно из двух же? Или это усилие нам приятно,
или неприятно? В последнем случае оно не даст нам
удовольствия.
Достигнутая цель также явление побочное. Какая
сладость видеть перед собой бледного, дрожащего
человека, растерявшегося от страха перед нами?!
332
Вот к каким изворотам должна была <прибегнуть>
психология, не признающая врожденного стремления
к совершенству, из которого прямо вытекает властолю-
бие, осложняемое и извращаемое другими явлениями.
Один из атрибутов совершенства есть сила, и вот
к силе стремится человек: и это стремление законно,
но надобно, чтобы оно научилось отличать истинную
силу от призрака силы: сала ума, добра и смирения —
вот сила из сил.
в) Инстинкт общественности
как природная основа
моральных чувств
201. Как бы ни казалось нам разумным стремление
к общественности в человеке и сколько бы потом чело-
век ни вносил в это стремление ясного расчета тех польз,
которые извлекает он из общественной жизни, но,
вглядевшись внимательно в факты; мы должны при-
знать, что в основе этого стремления к обществу лежит
природный инстинкт, действующий в человеке прежде,
чем становятся в нем возможными эгоистические рас-
четы. Это тем более очевидно,
что тот же инстинкт
общественности действует и в животных, у которых
мы не можем предполагать такого обширного развития
рассудка, какое нужно было бы, чтобы понять пользу
общественной жизни.
Аристотель, кажется, первый назвал человека жи-
вотным общественным, а за ним многие писатели повто-
ряли эту фразу. Не отвергая, конечно, стремления к
общественности в человеке, мы должны однако заме-
тить, что это стремление вовсе не есть исключительная
принадлежность человека. Не
только человек, но и
многие животные живут обществами, а некоторые таки-
ми обществами, обширность и сложное устройство
которых невольно поражают самого человека,— таковы
общества муравьев, пчел и других насекомых, неко-
торых пород рыб, птиц и, наконец, некоторых четверо-
ногих животных и в особенности из породы грызунов.
Следовательно, предполагая в человеке инстинктивное
333
стремление к общественности, мы не можем не видеть
такого же стремления и в животных.
Уже в первой части нашей антропологии, рассмат-
ривая организмы, мы нашли два рода их: организмы
единичные и организмы общественные *. Мы нашли так-
же, что организмы общественные такие же самостоя-
тельные явления природы, как и организмы единичные,
и что происхождение как тех, так и других одинаково
неизвестно и что организмы общественные тем отли-
чаются
от организмов единичных, что тогда как в
последних члены организма связаны материально,
в первых, т. е. в общественных, они связаны между
собою не материальною связью, но условиями жизни и
развития. Мы нашли, кроме того, что существование
общественных организмов можно уже заметить в цар-
стве растений, в тех двудомных растениях, которые, не
будучи связаны между собою материально, тем не
менее необходимы друг для друга, так что родовое их
существование условливается соседством
двух экземпля-
ров равного пола и тем, что ветер или насекомые пере-
носят плодотворную пыль с тычинок одного экземпляра
на плоднички другого. К этому же разряду явлений
мы причислили явления семьи, рода, племени и рас,—
явления, общие человеку, животным и растениям.
Эта потребность общественности, существующая и
в растениях и в животных, не чувствуется в первых по
отсутствию в них чувствующей души и чувствуется
во вторых, точно так же, как потребность пищи и
питья, существующая
и в растениях, только в живот-
ных превращается в голод и жажду, т. е. начинает
ощущаться. Следовательно, мы признаем, что инстинкт
общественности есть только ощущение душою расти-
тельных потребностей тела. К потребностям же расти-
тельного организма мы причислили не только суще-
ствование и развитие организмов единичных, но и их
родовое и общественное существование, о чем забо-
тится та же природа.
* «Педаг. Антр.», т. I, гл. 1, п. п. 5 и 6.
334
Обыкновенно стремление к родовому существованию
видят только в одном, так называемом, половом побу-
ждении, но это несправедливо. Конечно, половое побу-
ждение и половые инстинкты самым очевидным образом
способствуют к родовому продолжению существования,
но не одни они. Соединение животных в обширные и
стройные общества никак нельзя приписать одним поло-
вым побуждениям, из которых также никак нельзя
вывести и забот родителей о своем потомстве.
Бес-
полая, рабочая пчела может служить лучшим доказа-
тельством этого. Она уничтожает трутня, после того
как оплодотворение матки совершилось, и заботится о
черве, т. е. потомстве, вовсе не из половых побуждений.
То же самое замечаем мы у муравьев и многих других
насекомых. Половые побуждения развиваются в из-
вестный период возраста и проходят вместе с ним,
тогда как инстинкт общественности выказывается го-
раздо прежде появления половых побуждений и.
переживает их.
Домашние животные ищут ласки и
ласкаются сами даже к животным другой породы и к
человеку гораздо прежде развития половых побужде-
ний, напротив, с развитием этих побуждений многие
животные ищут уединения. Птицы перед полетом
собираются в стаи вовсе не из половых побуждений,
напротив, многие из них разлетаются в разные сто-
роны, когда начинают строить гнезда. Эти и многие
другие факты того же рода могут убедить всякого,
что инстинкт общественности гораздо обширнее поло-
вого
инстинкта и что половой инстинкт есть только
один из видов инстинкта общественности.
Вот чем объясняется ошибка тех писателей, кото-
рые, как например, Бэн*, самую нежность отношений
между родителями и детьми, а, следовательно, и между
родичами, объясняют половыми инстинктами, что совер-
шенно отвергается фактами. Бэн, например, выводит
материнскую любовь из нежных чувствований (tender
emotions) и объясняет их нежностью кожи ребенка,
* Bain. The Emotion, p. 106,
335
его округленными формами, его светлыми главками,
следовательно, прямо выводит материнскую любовь
к дитяти из половых инстинктов: как будто мать менее
любит свое больное дитя, худое, покрытое золотухою,
слепое и уродливое для всех, кроме матери? Правда,
Бэн потом смягчает эту мысль, говоря, что материнское
чувство возрастает вместе с накоплением забот о
дитяти, которое становится тем дороже для матери,
чем более забот она к нему приложила.
Эта последняя
мысль совершенно справедлива, но здесь дело не в том,
чтобы объяснить, как и почему возрастает материн-
ское чувство в женщине, но в том, чтобы показать, как
оно зарождается вообще в живом существе. Прежде
чем мать станет заботиться о ребенке, она уже чув-
ствует потребность этих забот, а в том-то и дело, чтобы
объяснить появление этой потребности.
Многие животные заботятся о своих детях прежде их
появления на свет, заботятся даже и тогда, когда ник гда
их
не увидят. Следовательно, выводить материнское чув-
ство из предмета этого чувства — невозможно. Оно вы-
ходит из состояния самого организма точно так же,
как чувство голода или жажды, и если мы не можем
объяснить себе появление первого, то нечего удив-
ляться, что не можем объяснить себе и появление по-
следнего. Наше дело состоит только в том, чтобы заме-
тить факт; отделить в нем посторонние примеси и дать
ему надлежащее место в ряду других подобных же
фактов. Так, разбирая
явление инстинктивной мате-
ринской любви в женщине, мы, руководствуясь одними
фактами, а не предвзятыми теориями, не смешаем ее,
с одной стороны, с половыми инстинктами, а с другой
уже с чисто человеческой любовью, не свойственною
животным.
В материнской любви есть только одно общее о
половыми инстинктами, а именно то, что как материн-
ская любовь, так и половые инстинкты выходят из
органической потребности общественности, которая
ощущается душою в различных формах:
и в форме
стремления различных полов друг к другу, и в форме
336
материнской любви, и в форме стремления к товари-
ществу, и в форме сближения существ одного рода
бее различия пола, и в форме потребности ласк. Что же
касается до отличия инстинктивной материнской
любви, общей всему живущему, от материнской любви
женщины, то это различие заключается в том, что
тогда как инстинктивная любовь прекращается вместе
с прекращением тех органических состояний, из кото-
рых она вышла, материнская, чисто человеческая
любовь
не знает себе предела. Самая ласковая собачка
начинает ворчать и огрызаться на своего любимого
хозяина в ту же минуту, как у нее завелся детеныш.
Она еще даже не видала его, а уже любит, ибо в этом
случае гнев есть только выражение любви. Но как
только окончится период кормления, собака уже не
знает своего дитяти. Здесь мы ясно видим возникнове-
ние материнской любви из органических состояний,
с началом которых привязанность начинается, с окон-
чанием которых она прекращается.
Если бы привязан-
ность эта была следствием забот матери о своем дете-
ныше, то тогда такое ее появление и прекращение были
бы необъяснимы. У матери человека есть, без сомне-
ния, и эта инстинктивная привязанность, но в ней есть
и другая, чисто человеческая основа, основа, чуждая
животному миру.
Находя, что в материнской любви, кроме стороны
чисто человеческой, объясняемой только душевными
потребностями, есть еще и инстинктивная сторона, выхо-
дящая из органической потребности,
мы нисколько не
унижаем этой любви, а напротив, придаем ей самое
обширное*, мировое значение. Голос телесной природы
есть также голос творца ее, и слепой разве может не
видеть, как громко говорит этот божественный голос
в природе женщины, как только она станет матерью.
«Как часто можно видеть, говорит Рид, что молодая
женщина, в самый веселый период своей жизни, когда
она без всяких забот проводила свои дни в удоволь-
ствиях,* а ночи в глубоком сне, вдруг преображается
в
заботливую, попечительную, бессонную кормилицу
337
своего дорогого дитяти, которая проводит свой день
только в том, что смотрит на свое дитя и заботится о
малейших его потребностях, по ночам сама себя ли-
шает сна на целые месяцы, только для того, чтобы оно
могло покоиться безопасно на ее руках. Забывая сама
себя, она сосредоточивает все свои заботы на этом
маленьком существе. Если бы мы не видели ежедневно
такого внезапного превращения привычек, занятий и
самого направления ума в женщине,
то оно показалось
бы нам более удивительным, чем любая из метаморфоз,
рассказанных Овидием»*. Но невозможно не видеть,
что эта удивительная метаморфоза совершается слиш-
ком внезапно и быстро, чтобы объяснить ее заботами
матери о ребенке, и что именно происхождение самых
этих забот может найти себе объяснение только в орга-
нических переменах, в которых громко заявляет свои
требования голос природы. Нельзя же объяснить этой
внезапной перемены заботами души, когда именно мы
замечаем
крутую перемену в направлении самих этих
забот, нисколько необъясняемую заботами пред-
шествующими.
Вот причины, побудившие нас, рядом с пищевыми
стремлениями, ощущаемыми душою как состояния
нервного организма, поставить и стремление к обще-
ственности как таковое же отражение в душе органи-
ческих состояний. Первое стремление со всеми своими
формами, голодом, жаждою, потребностью дыхания,
стремлениями к определенной температуре, к свету,
со всеми инстинктами самосохранения,
очевидно, на-
значено природою к сохранению и развитию единичного
организма, как растительного, так и животного, с тою
только разницею, что в растении эти стремления не
чувствуются, а в животном душа ощущает потребность
удовлетворить их. Второе стремление — стремление
к общественности, выходя из тех же органических
состояний, из которых выходят все инстинкты, оче-
видно, назначено природою для сохранения и развития
* Read. Vol. II, p. 561.
338
родового и общественного существований организмов.
Если половые отношения необходимы для продолже-
ния рода организма, то и те общественные, которые не
условливаются половыми, необходимы для того же.
Пчела не может иначе жить, как в рое, но как начался
рой — это нам одинаково неизвестно, как и то, как
начался организм. Само собою разумеется, что, говоря
здесь о том, что эти стремления назначены для про-
должения единичного, общественного
и родового суще-
ствования организмов, мы только свидетельствуем
факт, нисколько не олицетворяя природы, т. е., дру-
гими словами, мы говорим только, что этими инстинк-
тами действительно обеспечивается родовое и обще-
ственное существование организмов.
Удовлетворяя пищевым потребностям и потреб-
ностям общественности, животное ощущает эти потреб-
ности не как потребности природы, для него внешней,
но как свои собственные потребности, значения кото-
рых в общем хозяйстве
природы оно вовсе не понимает.
Животное ищет пищи не для того, чтобы продолжить
свое существование, а потому, что ему хочется есть,
бабочка устраивает судьбу своего будущего потомства,
которого она никогда не увидит, конечно, не для того,
чтобы сохранить для энтомологии известный вид бабоч-
ки, а потому, что чувствует непреодолимую потреб-
ность поступать так, а не иначе. Человек как животное
и настолько, насколько он животное, также подчиняет-
ся голосу природы, не сознавая
мирового значения этого
голоса. Удовлетворяя своим пищевым и общественным
инстинктам, человек как животное просто удовлет-
воряет им только потому, что чувствует потребность
удовлетворить им в их разнообразной форме.
Отсюда уже видна вся несостоятельность перед
фактами тех теорий, которые видят в обществе только
произвольное учреждение человека, устроенное по
эгоистическим расчетам рассудка, и которые предпо-
лагают в основе общества или какой-то социальный
контракт, как
предполагает Руссо, или какую-то пред-
варительную войну всех против каждого, и каждого
339
противу всех, как предполагает Гоббес. Мы же видим,
что если бы человек и не обладал теми духовными
особенностями, которые делают его человеком, то все
же он жил бы, как и многие другие животные, в обще-
ствах и обществами. Какого рода были бы эти обще-
ства,—мы не внаем: человеческие особенности немедлен-
но же начинают видоизменять природные инстинкты,
и ни путешествия, ни история не представляют нам
человека в таком виде, в каком он
должен бы быть,
если бы руководствовался только своими животными
инстинктами, не видоизменяя их своими духовными,
чисто человеческими особенностями. Человек везде
является для нас уже человеком, а не животным, но
это, тем не менее, не должно нам мешать отличать в
человеке то, что обще ему с животным, от того, что
составляет его человеческую особенность. Как бы ни
был видоизменен и развит животный инстинкт особен-
ностями человеческой природы, но мы имеем всегда
возможность
доискаться первичных основ этого ин-
стинкта, или, другими словами, как бы ни казалось
нам разумно или рассудочно то или другое явление
человеческой жизни, мы должны всегда попробовать,
не доищемся ли в основании этого разумного явления
какого-нибудь неразумного инстинкта. Для таких ана-
лизов служат нам превосходным средством факты из
жизни животных. В каком бы диком состоянии мы
ни брали человека, у нас всегда может оставаться
подозрение,, что факты, представляемые его жизнью,
уже
не первичные факты, что в них уже многое изме-
нено человеческою особенностью, но когда мы находим
те же самые факты в жизни животных даже самых
низших пород, тогда у нас не остается сомнения, что
эти общие факты принадлежат и в человеке его животной
природе.
Но тогда как животное не сознает мирового зна-
чения тех инстинктов, которым оно удовлетворяет,
человек мало-помалу достигает до этого сознания и,
удовлетворяя своим инстинктивным стремлениям, более
или менее понимает,
какое значение в жизни мира
340
имеют факты, вытекающие из этого, удовлетворения;
Человек, руководимый инстинктом, создает» общество,
но потом, сознавая пользу общества для себя и его
необходимость для всех людей, живущих и будущих,
видоизменяет это общество сообразно своему понима-
нию, видоизменяет до того, что с первого раза кажется
даже странным приписать основу этой чисто рассу-
дочной работы слепому инстинкту; но, тем не менее,
психолог не должен останавливаться
перед этою стран-
ностью и должен анализом отличить, что в сложных
общественных явлениях принадлежит самосознанию
человека и что его животному инстинкту.
Из инстинктивного стремления к общественности
выходит множество явлений, из которых мы перечис-
лим только самые крупные. Из него выходит: 1) поло-
вое стремление, которое, в свою очередь, обставлено
у многих животных изумительнейшими инстинктами,
2) из стремления к общественности вытекает и чувство
родительской нежности
и побудительная причина
всех тех забот родителей о детях и дальнейшем потом-
стве, которые поражают нас, особенно в царстве насе-
комых, где менее всего можно предполагать рассудоч-
ного развития, 3) из стремления же к общественности
вытекают те явления товарищества, или, лучше ска-
зать, ассоциаций, которые во множестве представляют
нам мир животных, 4) из этого же стремления к обще-
ственности вытекает та потребность ласки, которую
мы замечаем не только у человека, где она
сильно
развита, но и у многих животных и которая иначе не
могла быть объяснена.
Потребность ласки и любви не вытекает из предмета
любви, но есть органическая потребность человека,
проявляющаяся и у многих животных. Это едва ли не
самое высшее проявление животной жизни, которое,
как мы увидим дальше, принимает в человеке совер-
шенно духовную форму. Но как бы ни казалась духов-
на потребность, чтобы нас любили, она, тем не менее,
в глубочайшей основе своей, имеет органический
инстинкт.
Это великий голос природы, говорящий
341
всякому живому существу, что оно есть только часть
мира и что его бытие и благоденствие условливаются
целым миром. Животное безотчетно повинуется этому
голосу, безотчетно повинуется ему и человек. Но,
изучая мир, изучая собственную историю свою, чело-
век понимает, наконец, все великое и глубокое значе-
ние этого голоса природы, сознает себя действительно
только органом мировой жизни и, освещая темный
инстинкт светом идеи, ищет благоденствия
не только
других людей, но и целого мира. Конечно, мы можем
раскрыть это преобразование только тогда, когда
будем излагать явления самосознания и следить за
тем, как человеческая особенность преобразовывает
в человеке все животные инстинкты, как она превра-
щает в разумную идею все те потребности растительных
организмов, которые сказываются в животном инстинк-
тивными стремлениями удовлетворять своим пищевым
и общественным потребностям, самой потребности кото-
рых оно
не знает, но настоятельность которых оно
чувствует. Человек, как и животное, повинуется в
этом случае только голосу природы, но тогда как для
животных этот голос только понудительные звуки, для
человека, по мере его развития, голос этот превра-
щается в понятное слово, а вместе с теми закон необхо-
димости превращается в закон разумный, выполняе-
мый потому, что он разумен, а не потому только, что
ему нельзя не повиноваться (т. IX, стр. 75—84).
г) Как формируется мораль в
человеческом
обществе
202. (III, 20). Нравственность. Совесть. Постепенное
развитие ее у детей
Джемс Милль (Бэн, приводящий эти слова, гово-
рит почти то же самое) говорит (Fragment on Mackintosh);
«Сначала мы выполняем моральные действия только
по авторитету. Родители наши говорят нам, что мы
должны делать и чего не должны, и заботятся о том,
чтобы мы исполняли их приказания. Они имеют для
342
этого два рода влияний на нас: похвалу и порицание,
награду и наказание. Все действия, которые, по их
словам, мы должны делать, восхваляются в высо-
чайшей степени; а все, которых, по их словам, мы не
должны делать, порицаются в высочайшей степени»
(The Emot., p. 314, примеч.).
Но почему нам нравится похвала не только роди-
телей, но каждого? почему нам не нравится порицание?—
вот где корень совести.
Кроме этого и это вздор, что мораль
переходит в
детей через уста родителей и наставников; напротив,
менее всего. Мораль формируется в сношениях дитяти
как со взрослыми, так и с товарищами; но что морали
не передашь детям ни наставлениями, ни наградами,
ни наказаниями, это уже сделалось азбучным правилом
опытной педагогики. Бессилие моральных наставлений
старших младшим давно уже оценено. Следовательно,
в этом и Джемс Милль, и Бэн противоречат известней-
шему факту: напротив, бесконечные моральные про-
поведи
делают негодяев, предупреждая и затрудняя
нормальное развитие из собственных своих действий и
действий других, которое и есть единственное прочное.
Об обязательности или необязательности такой
напускной морали Бэн не говорит ничего; но само собой
видно, что обязательность ее не более шапки, надетой
на меня другим лицом.
«Чувство, сначала образовавшееся и воспитав-
шееся повиновением, может потом приобрести незави-
симое основание, точно так, как ученик, принимавший
сначала
наставления своего учителя, потом приходит ма-
ло-помалу к тому, что верит или не верит им» (Ь., р. 318).
Но разве мы не видим в истории примеров, что
человек стоит выше морали целого его окружающего
общества? Кто научил морали Сократа? Кто мог научить
Христа?!
Как же ничтожна и шатка теория морали материа-
листов!
Вот что происходит теперь под эгидой моды, над
чем посмеялись бы даже до Канта.
343
203. (III, 10). Нравственность. Чувства ее. Совесть.
Самообладание
«Моральное чувство, по Гербарту, возникает из
нравственных суждений и есть ближайшее действие
их на собрание представлений, находящихся в созна-
нии. Нравственные суждения имеют свое место только
в немногих представлениях и именно таких, которые
находятся между собою в эстетических отношениях.
Когда они появляются, то делают то же самое впечат-
ление, как внезапно вошло
в сознание что-нибудь
приятное или неприятное, судя по тому, заключают ли
они в себе похвалу или порицание» (Herb., S. 164).
Так почему похвала приятна, а порицание нет:
этого нельзя объяснить иначе, как врожденным чело-
веческой душе стремлением к совершенству.
Кант говорил, что на нравственном чувстве нельзя
основать нравственного учения. То же замечает и
Гербарт, говоря, что совесть — ибо это и есть нрав-
ственное чувство — при самых разнообразных дурных
поступках «привносит
одинаковое нарушение в течение
наших мыслей», а практическая философия требует
специального различения поступков и правил (ib.f
S. 164).
Странные люди: они хотели бы, чтобы чувство было
мыслью! Жало совести одно и то же, но уколы его
бывают сильнее и слабее, продолжительнее и короче,
прерывистее и постояннее — и этот, повидимому, одно-
образный укол, как иголка телеграфического прибора,
может рассказать самые длинные и разнообразные
истории, если мы только знаем телеграфическую
азбуку.
Но описание борьбы совести с желанием у Гербарта
очень недурно:
«Представим себе, что какое-нибудь желание, на-
чертывая планы, наткнулось на какое-нибудь такое
средство к выполнению их, что немедленно чувствуется
нравственная извращенность этого средства: это чувство
действует как препятствие и останавливает течение
представлений точно так же, как бывает тогда, когда
344
действие почему-нибудь не удается во внешнем мире.
Во время этой остановки происходят два психологи-
ческие события. Сначала представления, исходящие из
желания, вздымаются все сильней и сильней; но одна-
коже и нравственное суждение выигрывает время,
чтобы выступить. Теперь вопрос в том, находится ли
это суждение в связи с сильной массой мыслей, которая,
выступая в сознании все больше и больше, мало-помалу
подавляет это все вздымающееся
желание, не уступая
неприятному чувству, в которое превращается подав-
ляемое желание? Если на этот вопрос можно ответить
утвердительно,— то самообладание произошло» (ib.,
S. 165).
Но почему же это самообладание? Почему нравствен-
ное суждение — более я сам, чем мое же желание?
Нравственное чувство Гербарт уже выводит из
общества: «характер, говорит он, пришедший к зре-
лости, берет направление своей частной воли из общей
воли» (ib., S. 170).
А вот Руссо называет это
незрелостью.
«Понятие человека, выведенное из его назначения
.в обществе, делается в этом случае душой его психиче-
ской организации» (ib.).
Вот оно — где душа-то!
Удачно: «Характер, в котором господствуют планы,—
энергичнее; характер, в котором господствуют пра-
вила,— чище» (ib., р. 171).
«Отдельный человек, в своих собственных глазах
знающий непрочность своего земного существования,
оторванный от общества, слишком мал и ничтожен.
Его общественное значение составляет
высшую цель
его жизни» (ib., S. 245).
Вот до-христианский, из классического мира вы-
званный идеал человека.
204. (III, 19). Нравственность. Совесть
Как эстетическое чувство, так и нравственное
потому трудно получить в их отдельности, что они соеди-
няются со многим.
345
Выводить совесть из общества — нельзя: напротив/
общество опирается на индивидуальную совесть чело-
века; общество берет из морали только то, что ему нужно
для своего существования и преуспеяния; государство
берет то, что нужно государству,— и оба они при-
бавляют свои правила, которые, не вытекая непосред-
ственно из морали индивидуального человека, связы-
ваются однако с ней посредством идеи общества и госу-
дарства. Эти правила делаются
совестью человека не
как отдельного человека, но как члена общества и
гражданина государства. Точно так же церковь берет
из морали то, что ей нужно, и прибавляет свое — что
становится совестью человека как члена церкви.
Это уже условная мораль, основанная на уважении к
церкви,— и насколько это уважение глубоко в сердце
человека, настолько и уставы церковные становятся
его совестью.
Но и общество, и государство, и церковь—черпают
из одного общего источника—индивидуальной
морали,
которая в свою очередь строится на стремлении к истин-
ному (не обманчивому, не внешнему) совершенству.
Но так как само стремление к обществу, государ-
ству, церкви вытекает из того же коренного стремления
человека к совершенству, выражающегося в усовершен-
ствовании своего внешнего и внутреннего быта, то
можно сказать, что и условная мораль церкви, госу-
дарства и общества только своей посредственностью
отличается от непосредственной морали индивидуаль-
ного человека.
Морали
общественная, религиозная и государствен-
ная обязательны для человека настолько, насколько
ими держатся общество, государство и церковь; на
частную же свободу человека они посягать не могут.
Свобода сама по себе есть такое благо, как замечает
Милль (также и Бэн) (ib., р. 306), что стеснение ее допус-
кается только в пользу общества, но не в пользу отдель-
ного лица: принуждать меня быть моральным, значит
уничтожить в самой возможности моральность моих
действий. [Где бы достать
Милля? On liberty?]•
346
Заключительный вывод Бэна таков:
«Моральные правила, преобладающие в лучших,
если не во всех обществах, основываются частью на
пользе и частью на чувстве» (ib., р. 308).
«Совесть наша формируется по внешнему авторитету,
как типу» (ib., р. 313).
Выше же он говорит, что «хорошо известный источ-
ник морали есть диктаторство религиозных проро-
ков, подобных Магомету. Приобрев, так или иначе,
власть над обществом, они предписывают правила,
которые
связывают волю и создают совесть его совре-
менников и будущих поколений» (ib., р. 310).
Весь промах здесь в словах — «приобревши власть
так или иначе». Если бы Бэн вдумался в них, то увидал
бы, что власть Магомета основывалась уже на совести
тех лиц, к которым он обращался с своей проповедью,—
а иначе и речь его была бы непонятна.
Вот на каких шатких основаниях Бэн утверждает,
«что совесть есть подражание внутри нас — управлению
вне нас» (ib., р. 313). Так что сначала является
власть,
а потом уже совесть, внутреннее подражание внешней
власти: «совесть — факсимиле правительственной си-
стемы» (ib.). Ну, можно ли говорить такую чушь?
205. (III, 32). Любовь. Самолюбие. Семейный
эгоизм. Любовь к отечеству
Семейный эгоизм Бенеке справедливо называет
продолжением личного. Это болезнь, сильно у нас
свирепствующая, и напрасно думают, что в нем выра-
батываются гражданские добродетели.
«Лица, охваченные семейным эгоизмом, готовы даже
на самопожертвование
в отношении лиц, составляю-
щих их тесный кружок; но ко всем выходящим из него
интересам они хладнокровны, даже жестоки» (Erz.
und Unt., Т. I, §67, S. 272).
Он часто переходит даже в человеконенавидение
и отвращение к людям, если семейный кружок рас-
страивается (ib., S. 273).
347
Вот почему должно дитя рано выводить за пределы
этого кружка; а также воспитывать его вне сословных,
религиозных и национальных предрассудков» (ib.,
S. 273).
Но не противоречит ли Бенеке сам себе, говоря,
что любовь к человечеству и человеку вообще, а равно
и любовь к отечеству вырастает или складывается из
частных привязанностей? «Абстракт-человек никого
не сделает другом человечества; и по мере того, на-
сколько дитя равнодушно к
отдельным людям, будет
оно позднее равнодушно и вообще к человеку» (ib.,
§ 67, S. 675).
Этому противоречит опыт и само утверждение
Бенеке: история и религия (христианская, конечно),
принимающая, по словам Григория Нисского, целое
человечество как бы одного человека, созданного
по образу и подобию божию*, способны внушить
чувство любви к человечеству и народу; но надобно,
конечно, чтобы чувство любви было уже выработано
у дитяти, а оно вырабатывается в меньших размерах.
На
этом же основании Бенеке осуждает жизнь детей
в больших городах и особенно путешествия, когда дитя
не успевает привязаться к местности и к окружающим
людям (ib., S. 274).
«Не разом или немногими актами образуются столь
многочисленные и сложные представления, каковы
отечество и человечество» (ib., § 73, S. 301).
«Нигде живее не образовывалась любовь к оте-
честву, как в древности, где уже с первых дней дитя
видело вокруг себя людей, занимающихся исключи-
тельно делами отечества»
(ib.).
Действительно, чем менее общество занимается
делами отечества, тем менее можно рассчитывать на
любовь общества к отечеству, любовь на деле, а не на
фразах, которые тем более бывают раздуты, чем менее
в них истинного чувства, которое вообще не много-
* Die Psychologie des heiligen Gregor von Nyssa. Sistematisch
dargestellt von Dr. Stiegler. Regensburg, 1857, S. 9.
348
речиво. Если отечество дает человеку деятельность,
то он будет любить его.
Кроме сердечной любви к отечеству, возможна еще
любовь умственная, основанная на изучении отече-
ства,— и это должно быть развиваемо общественными
учебными заведениями.
206. (III, 31). Нравственность. Стремление к об-
ществу и к уединению
Нравственность детства, да и вообще нравствен-
ность Руссо — только отрицательная.
«Единственный урок морали, приличный
детству и
самый важный во всяком возрасте,— это не делать зла
другому. Даже если этому принципу не подчинен
принцип делать добро, то он опасен, ложен, ведет к
противоречию» (р. 91).
Из этой ипохондрической философии выходит у
Руссо и важное последствие — возможное уединение
(тут же, Note I).
Дидро говорит, что «только злой человек живет
один», а Руссо на это возражает, что только «добрый
живет один».
И то и другое ложь: стремление к уединению или
к обществу не
имеет ничего общего со стремлением к
добру или злу.
207. (III, 33). Общество, его отношение к индиви-
дуальной душе
«Платон сравнивал государство с рукописью, напи-
санной большими буквами, которые читая, слабый глав
привыкает разбирать и мелкий шрифт» (Herb., Е. Th.,
8. 138, §198).
Психология была бы одностороння, если бы рас-
сматривала людей отдельно. «Ибо человек частью
живет в обществе и не только для этой земли; частью же
и то и другое дает повод к рисовке идеалов,
привлека-
тельность которых делает их духовной силой» (ib.,
S. 166, §.240).
349
Следовательно, Гербарт выводит и нравственность
и религию из идеалов, созданных человеком, а силу их
объясняет их привлекательностью. Но откуда, из какой
душевной потребности создаются эти идеалы? Откуда
выходит их привлекательность? Привлекательность
не в предмете, а в душе, стремления которой делают
его привлекательным. Подражая Платону, Гербарт
проводит параллель между представлениями и их
массами в душе,— и лицами и партиями в обществе.
Мое.
Это не только удачное сравнение, но и
глубокая мысль: действительно, как массы представ-
лений действуют в отдельной душе, так мнения и
убеждения партий, классов народа и даже поколений
действуют в обществе, и даже по тем же законам;
но тут произвола уже менее, еще менее его в челове-
честве: личной, свободной воли не имеет ни общество,
ни человечество, ни история; и нарушения законов,
совершаемые в ней личной волей, изглаживаются,
как следы камня, упавшего в море.— Вот чего
и доби-
вался Бокль, впадая в противоречие с самим собою по
поводу непризнания свободы воли. Законы истории не
подлежат сомнению, но и личная воля души также.—
Аналогия завлекательная — увлекла здесь и Платона,
и Гербарта, и Бокля.
«Философия истории, говорит Гербарт, зависит от
психологии» (ib., S. 168). (Недостаток психологической
обдуманности сильно вредит сочинению Бокля).
Попытки начертать законы всемирной истории Гер-
барт называет «глупейшим забвением земной ограничен-
ности»
(ib., S. 168). «Вся теперешняя история есть
только начало, продолжения которого никто не может
предсказать».— Но в другом месте он сам делает по-
пытку предсказать даже жизнь за гробом.
«Чего воспитатель требует от психологии, того
государственный человек ищет в истории философии
и для обеих eiserne Nothwendigkeit, die nichts annehmen,
und absolute Freiheit, die nichts festhalten würde, ein
gleich schädlicher Wahn» (ib., S. 169).— А разве у него
нет в психологии этой железной
необходимости? «По-
350
движные и руководимые (lenksame) (чем?) силы, кото-
рые однакоже при обстоятельствах принимают опре-
деленную форму и мало-помалу приобретают постоян-
ный характер, суть предположения педагогики и
политики» (ib., S. 169).
Верно; но разве здесь сам Гербарт не противоречит
своей теории, вынужденный к тому практикой? Так-то
практика указывает посредством верного чувства души
односторонность увлечения теории!
4. РЕЛИГИЯ КАК ИСТОРИЧЕСКАЯ
ФОРМА
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПСИХИКИ
208. Религия — явление психологическое
В третьем томе нам чаще придется встречаться с
религиозными миросозерцаниями. Нужно ли доказы-
вать, что всякая фактическая наука, а другой науки мы
не знаем,— стоит вне всякой религии, ибо опирается на
факты, а не на верования; на известности, а не на
вероятности; на определенные знания, а не на опреде-
ленные чувствования… Но из этого никак не выходит,
чтобы науки психологические, науки,
имеющие своим
предметом жизнь души человеческой, к которым мы
причисляем и всю обширную систему исторических
наук, могли бы не знать о существовании религиозных
систем…
Тот оказал бы величайшую услугу науке, кто
изучил бы все известные религиозные системы спе-
циально с психологической целью, чтобы узнать,
какой душевной потребностью может быть объяснено
распространение каждой из них. Тогда бы для нас
уяснились и самые потребности души человека, кото-
рые, без сомнения,
в сущности своей, несмотря на все
видоизменения, всегда и везде одни и те же. Мы удив-
ляемся суевериям шаманства; но, может быть, изучив
их ближе, мы нашли бы, что корень их не чужд и нашей
душе (TW IX, стр. 559—560).
351
209. Религиозный антропоморфизм
Поразительная приспособленность, повторяющаяся
в бесчисленном множестве растительных и животных
организмов, должна была уже рано возбудить в чело-
веческом уме вопросы: как это случилось? как объяс-
нить эту удивительную приспособленность организмов
к условиям их жизни? Всего проще, всего сподручнее
было человеку отвечать на эти вопросы, очеловечивая
(антропоморфируя) лежащий вне его мир. Устраивая
какое-нибудь
нехитрое орудие, человек соображал
его устройство с теми целями, для достижения которых
оно должно было служить ему; следовательно, рас-
суждал он, точно так же устроены и организмы,
только устроены они не мною, а какою-то, вне меня
лежащей и подобно мне размышляющей силой. Затем
следовало облечение этой силы во всякие мифологи-
ческие формы, конечно, только для тех народов и для
тех личностей, которым откровенная религия не давала
прямого ответа на мучившие их вопросы. Скептический
ум
мыслителя не мог удовлетвориться таким ответом
(т. IX, стр. 359).
210. (VI, 9). Вера
Бэн доказывает, что вера основана на внутреннем
чувстве, подбирающем те представления, которые ему
соответствуют, и отвергающем те, которые не соответ-
ствуют. И говорит, что «лживость предрассудка, ошиб-
ки, вырастающие из этого влияния чувства на мысль,
разветвляются по всем делам человека и по всем отно-
шениям человеческой жизни» (The Emotion, p. 47).
Но он забывает, что оттуда же
вырастает и все великое
и прекрасное.
«Порывы религиозного чувства имеют свое основа-
ние в отсутствии согласия между душой и миром, каков
он есть, и часть неудовлетворенного душевного дви-
жения принимает направление к сверхъестествен-
ному. Сердце, совершенно удовлетворенное земным,
естественно и остается в этой сфере. Но история чело-
вечества показывает, что такое удовлетворение не есть
352
общее правило нашей природы. Всегда существовали
сильные душевные движения удивления, любви, благо-
говения, которые не могут быть иначе удовлетворены,
как признанием какой-то великой власти над нами»
(ib., р. 246).
211. Бэн о религиозных чувствах
№ 89. Бэн. «Благоговение — это смешение нежных
чувств с другими душевными движениями» (р. 121).
Обширность власти, управляющей миром, расширяет
чувство удивления (wonder and admiration) до
крайних
пределов (ib.). M. Тут-то и хитрость Бэна, что в чув-
ство admiration спрятал он чувство любви,— но откуда
же у нас любовь ко всему, что велико, сильно, мудро,
право и т. д.? Какое мне дело до совершенств, которыми
я не обладаю? А я тем не менее ими любуюсь (admira-
tion— нечто вроде любования), удивляюсь с любовью.
«Отеческое и исполненное доброты изображение
божества вызывает нежные ощущения. Тьма и мрак,
неодолимое могущество и управляющая рука внушают
страх
и подчинение. Возвышение и очищение рели-
гиозного чувства состоит в том, чтобы два первые эле-
мента господствовали над третьим. Самые грубые заб-
луждения — те, на которые ужас наложил свою печать»
(ib., р. 122).
№90. Тут следует оригинальное примечание у Бэна,
показывающее, как путается он со своей теорией,
противоречащей наблюдениям (ib., р. 122, прим.).
(На полях карандашом: Дикие фантазии Бэна о
происхождении религиозных чувств. Совершенно спу-
тался: религия ив
ужаса!)
Он выводит религиозное чувство прямо из чувства
ужаса к могучим, подавляющим явлениям природы,
которые в прежнее время должны были быть гораздо
более, чем теперь, когда мы лучше узнали природу и
ее законы. Таким образом религиозное чувство является
произведением двух самых печальных слабостей чело-
вечества: страха и невежества и, следовательно, осуж-
дается, вместе с ними. Но как же вывести отсюда чув-
353
ство любви, которому и Бэн не может не дать места в
религиозном благоговении? А вот как: «человек, чув-
ствуя себя самого слабым, обнаженным(?), невежествен-
ным посреди обширного и страшного создания, вообще
очень рад (?) признать свою слабость и зависимость и,
как может, выражает это чувство» (ib., р. 122). А выше
говорит: «В человеке не только есть неудержимая
наклонность склонять свою голову и обуздывать
гордую волю пред громадностью
природы, но есть
также сильное чувство комфорта и удовольствия в
этом действии».
Зачем же психолог не остановился на таком любо-
пытном и анормальном явлении: любоваться могуще-
ством и силой, которая нас давит! Это такие противоре-
чия всем психологическим положениям, выводящим
все из удовольствия, что стоило над ними призаду-
маться. Он выводит любовь из телесных нежных ощу-
щений, но как же любить то, что пугает, давит нас?
Тут мы должны были чувствовать ужас и отвращение,—
а
мы чувствуем любовь.
Так-то путается материалистическая психология,
если она еще не отказалась от добросовестности в
наблюдениях,— случай, который мы именно встре-
тили у Бэна.
«Солнце, луна, звезды, ветер, море, горы, реки —
все это имеет естественно подчиняющее влияние на
души, восприимчивые к величию и силе, и должно неиз-
бежно возбудить чувство, которое скоро выразится в
форме религиозного уважения и благоговения» (ib.).
Но что же это такое за восприимчивость души
к
величию и силе? Отчего психолог не объяснил этого?
Тогда бы он увидал, что это есть необъяснимая по его
теории способность души любоваться не одними неж-
ными прикосновениями, но величием и силой даже
тогда, когда они угрожают ей.
Как бы чувствуя падение своей теории, Бэн против
всякого обыкновения для ниспровержения религиоз-
ного чувства прибегает… к чему бы вы думали?—к
самому пошлому мистицизму, или лучше — к волшеб-
354
ству: признает, что некоторые предметы имеют на
человеческую душу неодолимое очаровательное влия-
ние (irresistible fascination, ib., p. 123, примеч.). Бэн
говорит, что, вероятно, многие из нас испытали на
себе такое чародейственное влияние каких-нибудь
предметов. Но мы первые никогда не испытали ничего
подобного.— Бэн ссылается на д-ра Китти, на кото-
рого, по его признанию, деревья и луна имели такое
влияние, что «он не только мог понять,
что они могли
сделаться предметами божественного поклонения, но
даже не мог себе представить возможности проти-
виться их чарующему (fascinatiny) влиянию» (ib.,
р. 123).
Что же это, наконец, такое? Месмеризм в науке,
что ли? И вот к каким фокусам прибегают материали-
сты, чтобы отвертеться от факта врожденности рели-
гиозного чувства человеку!? Идиосинкразия, вероятно,
больного д-ра Китти — хорошее доказательство для
опровержения факта, проявляемого мильонами людей
и
в тысячелетиях, факта, громадного, как мир!
№ 91. Бэн говорит (ib., р. 124), что надобно отличать
религию от морали и искусства. Без сомнения, но не
надо забывать, что они идут из одного источника,—
особенности человеческой природы и, забывая этот ис-
точник для религии, мы не можем оставить его для
искусства и морали. (На полях карандашом: основы
религии, морали и искусства — одни и те же). Вот это
последнее обстоятельство и вводит в большие хлопоты
и Бэна и Милля. Наши нигилисты
были последова-
тельнее: они махнули рукой по всем трем и, уничто-
жая человека в человеке, последовательно уничтожали
религию, искусство, мораль. Эти уже были логичнее,
хотя глупее. Факт этот следует выявить ярче.
NB. Бэн к чувствам же причисляет самолюбие
(Emotion of Self); но странно, что он делает для него
особую главу, тогда как все языки показывают, что
это чувство принадлежит к группе ножных чувств,
к группе любви. Сюда же он относит самонаслаждение,
самодовольство,
эгоизм, славолюбие, властолюбие
355
(для которого у него отдельная глава), самоуважение,
доброжелательство (?), гордость, соревнование, за-
висть, скромность, смирение, расположение, месть.—
Напутано сильно, но много есть хорошего!
NS, №1 Все это (стр. 125—162) мы выделяем в
III главу, как чувства, зависящие от человеческой
особенности и тогда должно будет это пересмотреть;
эти две главы — 1) Emotion of Self и 2) Emotion of
Power, а теперь прямо переходим к гневу или к злым
движениям.
(Ф.
316, № 17, «Материалы к главе о чувствованиях»,
л. л. 45 об.—47 об.).
212. (VI, 12). Страх. Религия
В протестантской, богатой школами и промыш-
ленной Саксонии гораздо более самоубийств, чем в
католической Бельгии (Moral. Stat., von Drob., S. 54).
213. (VI, 1). Вера. Врожденность верований
Получая ощущение от внешнего предмета, я внут-
ренно верю (intuitively believe), что существует внеш-
ний предает, причина этого ощущения» (Mill’s Log.,
В. I, Ch. III, p. 58). Дальнейшее
же суждение об этой
вере не принадлежит логике, но «науке основных зако-
нов человеческой души»?
Мое.
Для психолога также все есть ощущение.— Мета-
физике следует доказывать, что они соответствуют
вещам.
Бокль признает, что атеизм и скептицизм две вещи
не только различные, но даже несогласимые (ч. I,
стр. 307, прим. 177).
У Бэна мы встречаем повсюду верное убеждение,
что вера врождена человеку, а скептицизм есть приобре-
тение опыта. Это очень важно для педагога:
он дол-
жен дать <пищу> сердцу, уму и вере, чтобы не окор-
нать человека; верь во все, чему разум не противоре-
чит и что полезно в практической жизни.
356
Вера врождена;— скептицизм и вслед за ним зна-
ния выходят из борьбы скептицизма и веры, приобре-
тения опыта.
Но, обозрев поле приобретенных знаний и поле
потребностей жизни человеческой, мы приходим к
заключению, что человеку одними знаниями не про-
жить, и потому вера нужна ему как дополнение знаний.
У детей мы видим ясно способность врожденности
веры. Эту способность надо облагородить и развить
чувством эстетического и морального,
чувством хри-
стианства, и тогда сбудется изречение апостола: «серд-
цем верится в правду». Мерилом -же для веры должны
быть плоды ее: «от плодов узнаете веру» (см. в еван-
гелии).
Та вера хороша, которая удовлетворяет человеческой
натуре, открывая ей бесконечную и не эгоистическую
деятельность; дает терпимость; дает место науке, сво-
боде мысли; не признает ничьей власти над моей со-
вестью; стоит за свое; но свое не навязывает; не допу-
скает произвола; хранит исторические
предания; при-
знает свободу воли, а не фатализм, как турки и проте-
станты [словом, наша святая вера].
214. (VI, 2). Вера. Врожденность идеи
Бэн ясно смешивает веру с уверенностью или ожи-
данием, и в таком отношении он совершенно справед-
ливо говорит, что «самое маленькое насекомое, имеющее
постоянное жилище и знающее какие-нибудь средства,
чтобы удовлетворить своим нуждам, имеет способность
веры».
Если я вижу воду и спешу удовлетворить ею свою
жажду, то это на
основании веры в то, что опыт, раз
мною испытанный, повторяется.
Но от этой уверенности, которая есть не более как
ассоциация в нашей душе двух явлений, как причины и
следствия (воды и удовлетворения жажды), следует
отличать собственно веру.
Уверенность, что опыт повторится, еще не вера,
а просто действие идеи причины на идею-следствия;
357
животное имеет веру, но не разуверяется. Человек же,
напротив, не должен бы иметь этой уверенности, ибо
разуверяется, что не всякая вода удовлетворяет жажду
и не всякая жажда удовлетворяется водой.
Что животное верит в причину, это понятно, но не
понятно, что человек ее имеет, ибо он знает столько
явлений без причин и не знает ни одного явления,
причина которого была бы ему известна. Вот почему
удивительно, что человек удерживает веру в
причину.
Человеческая вера проявляется, следовательно, там,
где она удерживается, несмотря на противоречие опыта
и ума; так, например, вера в свободу, вера в прогресс.
Это только и есть вера.
Бэн признает врожденные уверенности, но говорит,
что не все они верны, и что опыт должен решить,
которые верны и которые нет (ib., р. 586, особ, при-
меч.).
С этим мы согласны, но думаем, что опыт не уничто-
жил еще ни одной врожденной веры, а только видоизме-
нил их. Ибо вера
как вера есть не что иное, как стрем-
ление, которое может выразиться в тех или других
представлениях: магометанин верит в рай, наполнен-
ный гуриями; нигилист верит в стремление мира к
анархии и т. д.,— в сущности же это одно и то же стрем-
ление.
Бэн говорит «о сильном инстинктивном стремлении
нашей природы верить, прежде чем мы пройдем длин-
ный ряд опытов» (ib., р. 604).
«Я не только не отвергаю существования врожден-
ных суждений как оригинальных эманации души, но
допускаю
их большое множество; я не придаю им
только никакой цены, никакого авторитета, без хоро-
шей и положительной очевидности» (ib.).
Замечательно, что то самое, что я говорю об отри-
цательном влиянии врожденных уверенностей на раз-
витие, говорит и Бокль: у него «каждая великая реформа
состоит не в введении чего-нибудь нового, а в уничто-
жении чего-нибудь старого», т. е. одним отрицательным
путем (часть I, стр. 204),
358
215. Христианская религия — явление историческое
Как бы кто ни смотрел на христианскую религию,
но наука не может на нее смотреть иначе как на истори-
ческое явление, возникающее из потребностей и свойств
души человеческой. Если бы идея борьбы была
единственным статутом и человеческой жизни, то
самое появление и распространение религии слабых
и угнетенных не было бы возможным в человече-
стве…
Все религиозные системы не только возникали
из
потребностей души человеческой, но и были в свою
очередь своеобразными курсами психологии; в них-то
и формировался более всего взгляд человека на мир
душевных явлений, так что без помощи религиозных
систем мы не можем объяснить себе общечеловеческой
психологии, ее истин и ее заблуждений. Выходя из
психических потребностей, религия в свою очередь
распространяла то или другое психологическое воз-
зрение и распространяла, конечно, обширнее и удач-
нее, чем может распространяться
какая бы то ни было
кабинетная психологическая теория. Великие психо-
логические истины, скрывающиеся в евангелии, рас-
пространялись вместе с евангельским учением, и этим
только фактическая наука может объяснить то умяг-
чающее, гуманизирующее влияние евангельского уче-
ния, которое оно вносило с собой повсюду. Какая
книга в мире представляет более глубокую психоло-
гию, более верное знание людей, и какая книга в мире
более читалась, слушалась, обдумывалась? Если же
евангельская
психология, более или менее глубоко
понятая, сделалась общим достоянием всего хри-
стианского мира, т. е. всего образованного европей-
ского мира, то каким же образом психолог может не
знать этой психологии, может обойти ее, ограничив
свои познания теориями Гербарта, Бенеке или какого—
нибудь другого кабинетного ученого? (т. IX, стр.
560—561).
359
216. Бог— совесть человека
Если человек достигнет до той нравственной высоты,
что боится только одного бога, то значит он боится
одной своей собственной совести — и больше ничего
в мире не боится. Осталась ли эта совесть в своем есте-
ственном состоянии, раскрыта ли она учением откро-
вения, во всяком случае она для человека голос божий,
и если человек, не внимая никаким угрозам и приманкам
света, начнет внимательно прислушиваться только
к
этому голосу, то и откроет в нем источник премудрости,
т. е. нравственности или высшей практической муд-
рости. Но как жалко злоупотребляют этим глубоким
библейским изречением различные любители гадать
страху детям. Они прикрывают им свое неумение
сдерживать гнев, неуменье, которое должно бы вычерк-
нуть их из списка воспитателей, и внушают детям не
страх божий, а страх учительский, из которого родят-
ся ложь, притворство, хитрость, трусость, рабство,
слабость, ничтожество
души,— а не премудрость (т. IX,
стр. 222—223).
217. Форма и содержание христианской религии
Мы берем здесь христианскую идею, конечно,
только в ее форме, независимо от того специального
догматического содержания, которое было вложено в
нее христианским учением. Но тем не менее мы не
можем не назвать этой чисто психологической идеи,
выведенной из глубокого понимания души человече-
ской и ее законов, не можем не назвать христианской;
иначе мы были бы пристрастны и несправедливы.
Такого
глубокого понимания души и ее коренного
свойства мы не встречаем нигде: ни в философско
религиозных системах Востока, ни в философских
системах классического до-христианского Запада (т. IX,
стр. 559).
360
218. (VI, 7). Вера в бога
Вера в бога потому для многих не имеет силы, что
она стара.
«Сравнивая все философские идеи, я нашел, что
первая и самая общая всех проще и разумнее и что
ей недостает только новизны, чтобы соединить за себя
все мнения. Предположите, что все ваши философы,
древние и новые, истощили все их странные системы
силы, случая, фатализма, необходимости, атомов, оду-
шевленного мира, оживленной материи, материализма
всякого
рода, и что после их всех знаменитый Кларк
произнес в первый раз имя творца мира: с каким бы
всеобщим удивлением была бы принята эта новая
система, возвышенная, утешительная, столь способная
возвысить душу, дать основание добродетели и в то же
время такая поражающая, светлая, простая и представ-
ляющая уму менее непонятного, чем находили неле-
постей в других системах» (Emile, р. 299).
219. (VI, 8). Христианство
«Dès que les peuples se sont avisés de faire parler
Dieu,
chacun l’a fait parler à за mode et lui à fait dire
ce qu’il a voulu. Si l’on n’eut écouté que ce que Dieu
dit au coeur de l’homme, il n’y aurait jamais eu
qu’une religion sur la terre» (Emile, p. 333).
«Ils ont beau me crier (теологи): soumets ta raison;
autant m’en peut dire celui qui me trompe: il me faut
des raisons pour soumettre ma raison» (ib., p. 335).
Чтобы веру основать на чудесах, надобно поверить,
были ли эти чудеса за 2000 и за 3000 лет, а для этого
надобна ученость,
которой люди не имеют, и люди будут
осуждены на вечную гибель не за дурные дела, а за
недостаток учености (ib., р. 356). Дьявол также делал
чудеса (ib., р. 357).
Религия хочет убеждать меня, следовательно, хочет
действовать на мой разум, а между тем сама же исходит
из того, что разум ошибается. Как же она уверяет меня,
что в таком случае мой разум не ошибается (ib., р. 340),
361
Но Христос тоже говорит об оке, которым мы гля-
дим;— это и есть разум, но только надобно заботиться,
чтобы это око было чисто, т. е. не было омрачено само-
любием, предрассудком или ученой системой, которая
тоже часто, что предрассудок.
Руссо поделом вооружается против религиозной
нетерпимости, показывая, до какой нелепости доходят
магометане и христиане, обвиняя друг друга (ib.,
р. 340, 348 и друг.).
Это верно. Но вот что также верно,
что в настоящее
время составился такой взгляд на жизнь, цивилиза-
цию и нравственность; так что идеал воспитания,
отбросив всякую религиозную идею, выйдет такой,
что с ним может примириться только христианская
идея. Европейская школа должна быть такова, что
магометанин, вступивший в нее, должен оставить свой
фанатизм, фатализм, многоженство, взгляд на жен-
щину, распространение религии оружием, презрение к
христианам и евреям. Еврей, вступив в европейскую
школу, должен
отказаться от своего взгляда на гоев,
от права их обманывать, от своей замкнутости и т. д.
Мало этого, католик, вступив в хорошую европейскую
школу, должен отказаться от главенства и непогре-
шимости папы, от «цель оправдывает средства»; каль-
винист и отчасти вообще лютеранин — от фатализма,
от веры в неизбежность предопределения, от стремле-
ний построить религию на рассудочных выводах и от
стеснения тем самого рассудка только в области тех
eroL выводов, которые не противоречат
принятой ре-
лигии. •
Вот почему я думаю, что школа не проповедница
религии; но настоящая прогрессивная школа менее
всего противоречит частным принципам православной
религии, имеющей историческое основание и обращаю-
щейся прежде всего к чувству человека.
На Руссо всего более нападают попы всех сект;
но и он их не любит. Они готовы скорее простить атеи-
сту, проповедующему против бога, чем тому, кто против
их [гнусной] касты и их [диких катехизации] усы-
362
пительно-нелепых проповедей. Но в чем же они уко-
ряют Руссо? Попробовали ли они сломить его доводы?
Нет, [а как подлецы более всего] указывают на его
частную жизнь.
Так, Пальмер более всего его укоряет в том, что он
отдал своих детей в воспитательный дом; но кто же
поручится, что у Пальмера нет детей, для которых он
и этого не сделал? Разница только в том, что на такую,
ничтожную жизнь, как Пальмера, никто не обращает
внимания, тогда
как жизнь Руссо доброжелательные
пастыри разобрали по нитке.
О евангелии отличное слово (ib., р. 349).
«Жизнь Сократа, в которой никто не сомневается,
менее засвидетельствована, чем жизнь Иисуса Христа»
(ib., р. 350).
«Если жизнь Сократа — жизнь мудреца, то жизнь
Иисуса — жизнь бога» (ib., р. 350).
«L’évangile a des caractères de vérité si grands,
si frappants, si parfaitemant inimitables, que l’inven-
teur en serait plus étonnant que le héros» (ib., p. 350).
363
К. Д. УШИНСКИЙ
364
Д. Сжатый учебник педагогики4
НАБРОСКИ ПРЕДИСЛОВИЯ К УЧЕБНИКУ
ПЕДАГОГИКИ5
220—221. Предисловие. Необходимость педагогической
теории
«История педагогики показывает, что лучшие теоре-
тики воспитания были часто самыми плохими воспи-
тателями своих и чужих детей, тогда как практический
такт без всякого теоретического образования давал
блистательные результаты» (Benecke’s Erz. und Unterr.,
t. I, § 4, S. 15).
Это справедливо, говорит
Бенеке: «искусство долж-
но во многом отличаться от науки, и есть многое, что
затрудняет одинаковое совмещение и науки и искусства
в одном и том же человеке» (ib.).
«Но если, так наз., педагогический такт есть не что
иное, как темное воспроизведение психических опытов,—
темное вследствие быстроты, с которой эти представ-
ления развиваются, а также потому, что число их так
велико, что ни одно из них не приходит к ясному созна-
нию, а только их результат, из которого и образуется
приговор
такта» (ib., S. 15).
«На один такт, какие бы блестящие результаты он
н& дал в отдельных случаях, положиться нельзя»
(ib., S. 16).
Он-то именно и создал односторонние увлечения в
педагогике.
«Если вследствие этого такта что-нибудь удавалось
в воспитании или в ученьи, то эта удача завладевала
воображением воспитателя или его окружающих, воз-
365
буждался преждевременный энтузиазм, происходило
фальшивое обобщение» (ib., S. 16)…., пока практика
не обнаруживала, что это наблюдение было только
односторонне… «Это краткая история всех тех метод,
которые блистали одна за другой» (ib.).
Совершенно верное замечание!
Что касается до педагогической опытности, то она
уже потому не может иметь слишком большого зна-
чения, что «большая часть воспитательных опытов,
и именно самые главные,
длятся слишком долго,
чтобы следствия с верностью могли быть отнесены к
причинам, и по большей части происходят тогда,
когда уже воспитанник находится вне наблюдений
воспитателя. «Мальчик, который на всех экзаменах
отличается первым, окажется, может быть, впоследствии
ограниченнейшим педантом, тупым и невосприимчивым
для всего, что лежит вне тесного круга его науки, и
никуда негодным в жизни».
К этому еще присоединяется то обстоятельство,
что «воспитательные опыты слишком
сложны и, взя-
тые сами по себе, очень неопределенны. Кроме влияния
воспитателя действуют еще тысячи других» (ib., S. 17).
Так, мы любим часто указывать на практический
успех английского воспитания,— это сделалось люби-
мым припевом многих, не допускающим возражения
фактом, но все забывают, что во всяком случае между
английским воспитанием и нашими целью и средствами
сходства более, чем между нашей и английской жизнью.
«Таким образом, говорит Бенеке совершенно осно-
вательно,
воспитательное искусство должно быть осве-
щено светом воспитательной науки (мое: вернее бы
науки искусства) и именно такой науки, которая сама
объясняется психологией, проникшей до глубочайших
основных элементов человеческой природы» (ib., § 5,
S. 18).
К сожалению, такой психологией Бенеке считает
только свою психологию. (№. Впрочем, он говорит
внизу, что эту перемену сделали Гербарт и он, ib., S. 19,
примеч.).
366
«Педагогика есть главнейшим образом прикладная
психология и судьба ее находится в зависимости от
судьбы психологии» (ib., § 5, S. 19).
Это очень верно; но не от одной психологии, а луч-
ше сказать — антропологии (ибо сюда входит и физиоло-
гия) и философии.
«Развитие души не останавливается ни на минуту:
душа не ожидает художника, как мрамор или полотно.
Если в душе не образуется хорошее, полезное, то обра-
зуется дурное и вредное»
(ib., § 5, S. 22).
(Ф. 316, папки № 25, 26, 28, 29, 31).
222. Предисловие
«Повелительное наклонение есть характеристика
искусства в отличие от знания. Где говорят в правилах
или наставлениях, а не в утверждениях относительно
фактов, там искусство» (Mill’s Logic, В. VI, Ch. XII,
§ 1, P. 539).
«Отношение, в котором правила искусства стоят
к доктринам науки, могут быть так характеризованы.
Искусство избирает себе какую-нибудь цель для дости-
жения, определяет эту цель
и передает ее науке. Наука
получает ее, рассматривает или изучает как явление
или следствие и, изыскав причины его и условия,
возвращает его искусству с теоремой комбинации
обстоятельств, которыми оно может быть произведено.
Тогда искусство изучает эти комбинации обстоятельств
и согласно с тем, находятся ли они или нет в челове-
ческой власти, объявляет цель достижимой или нет»
(ib., § 2, р. 541).
«Заслуживает особенного внимания, что теорема
или умозрительная истина незрела
для того, чтобы ее
можно было обратить в правило, пока не все еще, а
часть только тех операций, которые принадлежат
науке, выполнены».
«Если в этом, несовершенном состоянии науки мы
пытаемся образовать правило искусства, то мы произ-
водим эту операцию преждевременно. Никакие рас-
суждения о самом правиле не помогут нам выйти из
367
этого затруднения: остается только воротиться назад
и кончать научный процесс, который должен пред-
шествовать образованию правила» (ib., § 3, р. 541).
Но если сама наука еще незрела, а искусство не
может быть отложено как искусство воспитания, тогда
какой исход лучший?
В мастерствах несложных можно изучить одни
правила; «но в сложных науках жизни приходится
постоянно возвращаться к законам науки, на которых
эти правила основаны» (ib.,
р. 542).
В педагогике эта потребность постоянно чув-
ствуется.
«Полное искусство какого бы то ни было рода заклю-
чает в себе выбор таких частей из науки, какие необхо-
димы, чтобы показать, от каких условий, следствие,
которое искусство имеет в виду, зависит» (ib., р. 544).
«Основной принцип всякого искусства или общая
главная посылка не заимствуется из науки: эта по-
сылка излагает цель искусства, и потому она является
желательным предметом» (ib., § 6, р. 545).
«Положения
науки излагают предмет сам по себе:
существование, сосуществование, последовательность,
сходство. Основные положения искусства не утвер-
ждают, что что-нибудь есть, но указывают то, что
должно быть».
«Эти общие посылки искусств вместе с главными
выводами, которые могут быть из них сделаны, состав-
ляют (или скорее должны бы составлять) содержание
учения, которое собственно и есть «искусство жизни»
в своих трех главных отделах: нравственности, благо-
разумии или политике
и эстетике. Этому искусству,
которое, к несчастью, должно еще быть создано, под-
чинены все другие искусства».
«Всякое искусство есть соединение результатов
законов природы, открытых наукой, и общих принци-
пов, которые могут быть названы телеологией, или
доктриной целей, которые на языке германской мета-
физики называются началами практического разума»
(ib., р. 548).
368
«Ученый наблюдатель или мыслитель не дает практи-
ческих советов. Его дело только показать, что извест-
ные последствия проистекают ив известных причин и
что для достижения известных целей известные средства
всего действительнее. Но таковы ли цели сами по себе,
чтобы их должно было достигать и в наших случаях
и насколько, решать это не дело ученого или деятеля
науки, и наука одна не дает ему средств для такого
решения» (ib., р. 547).
(Ф.
316, папки № 25, 26, 28, 29, 31)
223. Практический вывод из гипотезы души
Клод Бернар о необходимости предварительной
гипотезы во всяком исследовании (Введ. в изуч. опыт-
ной медицины, стр. 31).
«Факты суть необходимые материалы; но только
обработка их опытным рассуждением, т. е. теория,
составляет и действительно созидает науку. Идея,
формулированная в фактах, представляет науку. Опыт-
ная гипотеза есть не что иное, как предвзятая научная
идея. Теория есть не что иное,
как научная идея, пове-
ренная опытом. Рассуждение только дает форму нашим
идеям, так что все первоначально и окончательно сво-
дится к идее» (ib., стр. 33).
Прекрасные слова именно о том, что опыт научает
нас недоступности абсолютной истины:
«Ум экспериментатора отличается от ума метафизика
и схоластика скромностью, потому что каждую минуту
опыт внушает ему сознание об его относительном и
абсолютном невежестве» (ib., стр. 35).
Но в том-то и беда, что г. г. экспериментаторы
бес-
престанно превращаются в метафизиков и руководятся
в своих опытах метафизическими убеждениями.
Гипотеза должна быть такова, чтобы ее можно было
поверить опытом (ib., стр. 42).
«Когда мы составляем в науках общую теорию, то мы
вполне убеждены только в одной вещи,—в том что все
эти теории, абсолютно говоря, ложны. Они составляют
только частные и временные истины, которые необ-
369
ходимы нам, как ступени, на которых мы отдыхаем,
чтобы потом итти дальше в исследовании и, следова-
тельно, должны будут видоизменяться вместе с воз-
растанием науки» (ib., стр. 46).
То, что Кл. Бернар говорит об опасности системы
в медицинской практике, то вполне относится и к
опасности систем в педагогике (ib., стр. 47).
(Ф. 316, папки № 25, 26, 28, 29, 31).
224. (VI, 25). Предисловие. Знание людей (или к
Канту, где он говорит о страстях)
«Философы
смотрят на людей сквозь предрассудки
философии, а я не знаю, где бы их было более, как
в философии» (Emile, р. 168).
Не вернее ли было сказать, что философы смотрят
на людей сквозь свою систему: это было бы так.
Нужно ли для воспитания знать человека! А где
мы найдем это знание?
Бокль: «задача воспитания. ускорить знакомство
с физическими и духовными законами» (ч. 1, гл. IV,
стр. 199). Следовательно, задача воспитания — зна-
ние, а не нравственность, которая у Бокля что-то
прирожденное,
а не развивающееся.
I. О ЦЕЛИ ВОСПИТАНИЯ
225. (VII, I). Предисловие. Нравственность. Цель
воспитания. (Бенеке). Воспитание — искусство
Бенеке признает, что цель воспитания должна быть
идеальная, на том основании, что если воспитывать,
чтобы они были, как родители, то надо бы иногда вос-
питывать мошенников (Erz. und Unt., § 4 и 5).
«Но откуда взять этот идеал?— спрашивает Бенеке.—
О всеобщей врожденности такого идеала при нынешнем
состоянии психологии не может быть и речи»
(ib.).
Но если этот идеал делается, то где же ручатель-
ство, что тот, который мы составили,— настоящий?
(А я спрошу: есть ли настоящий?).
370
Руссо думал разрешить этот вопрос, сказав, что
следует воспитывать «сообразно природе». Бенеке оправ-
дывает его с исторической точки зрения как противодей-
ствие французскому жеманству (Überfeinerung, ib.,S.6).
«Что Руссо называет натурой, то можно назвать
ненатурою. Культура не есть изобретение злой воли
или каприза, которую по произволу можно также отме-
нить, но она необходимо условливается глубочайшими
основами человеческой природы.
Человеческая природа,
в отличие от животной, содержит не только способность
к культуре, но также стремление к культуре, которая
с неудержимой силой гонит человека к ней, и если б
можно было отказаться от культуры, то она опять была
бы создана» (ib., § 2, S. 7).
Но не впадает ли Бенеке в противоречие со своей
психологической системой? Это ведет его практика
педагогики.
Бенеке старается примирить три главные цели
воспитания — для света, в котором человеку при-
дется
жить (Локк); идеальная и следуя натуре (Руссо),
но примирение это ему совершенно не удалось. «Идеал,
конечно, должен быть взят из природы человека»,
говорит .он (ib., §8); но ниже же говорит, что психология,
рассматривающая душу с ее слабостями и заблужде-
ниями, «не может создать идеала, который нам нужен
для воспитания как направляющая норма» (ib.,§2,S.8).
И этим оканчивает Бенеке свое изыскание цели
воспитания и переходит к рассматриванию воспита-
тельных средств. В этом
высказалась вся слабая сто-
рона бенековской психологии: из нее, так как она не
признает в душе ничего врожденного, не выведешь
цели воспитания.
Правда, Бенеке говорит, что «идеал воспитания
должен быть почерпнут из глубочайших основ чело-
веческой природы». Но тогда надобно принять врожден-
ность. Но и уступка Бенеке одна, что прирождена
сила впечатлительности зрения и слуха над другими,
из чего он выводит в главе о нравственности свой идеал
нравственности, как мы уже
это видели.
371
«Воспитание есть духовное, свободное или идеаль-
ное искусство» (ib., § 4). Следовательно, и Бенеке при-
знает воспитание искусством.
226. (VII, 2). Предисловие. Цель воспитания. Бенеке
«Гармония в человеческом образовании состоит
не в том, чтобы все существующее в человеке развить
с одинаковой силой, но в том, чтобы различные системы
сил подчинить одна другой в таком порядке, как они
расположены в основной природе человека; в под-
чинении
низших по своей натуре высшим по своей
натуре» (Erz. und Unt., § 79, S. 348).— Но что такое
Grundnatur? Не сам ли Бенеке говорит, что и в детях и
в монахах чувственное преобладает над духовным?
Следовательно, можно ли судить по большинству,
как. он судит? — В этом-то и сила, что по системе Бенеке
.низшее то, что слабее, а высшее то, что сильнее…
следовательно, если во мне чувственные стремления
сильнее духовных, то они, значит, и высшие.
227. О необходимости ясного определения
цели вос-
питательной деятельности
… Что сказали бы вы об архитекторе, который,
закладывая новое здание, не сумел бы ответить вам
на вопрос, что он хочет строить,— храм ли, посвящен-
ный богу истины, любви и правды, простой ли дом,
в котором жилось бы уютно, красивые ли, но бесполез-
ные торжественные ворота, на которые заглядывались
бы проезжающие, раззолоченную ли гостиницу для
обирания нерасчетливых путешественников, кухню ли
для переварки съестных припасов, музеум
ли для
хранения редкостей или, наконец, сарай для складки
туда всякого, никому уже в жизни ненужного хлама?
То же самое должны вы сказать и о воспитателе, кото-
рый не сумеет ясно и точно определить вам цели своей
воспитательской деятельности (т. VIII, стр. 17—18).
228 …Приготовлять человека на искреннюю борьбу
с самим собой и с жизнью — вот, кажется, главная
372
цель воспитания, как понимает ее Н. И. Пирогов.
Не навязывание своих убеждений, своих идей ребенку;
но пробуждение в нем жажды этих убеждений и муже-
ства к обороне их как от собственных низких стремле-
ний, так и от других — вот тот воспитательный идеал,
который, сколько мы понимаем, рисовался автору,
когда он писал свои «Вопросы жизни». Но спросим
мы автора — возможно ли развивать так дитя? Не бу-
дет ли это значить развивать форму души,
не давая ей
содержания? Не должно ли воспитание не только
развивать жажду мысли, но давать и самую мысль? не
только развивать искренность чувств, но давать и содер-
жание чувствам? одним словом — не только развивать
способность иметь искренние убеждения, но и давать
самые убеждения? Приготовлять человека к борьбе?
Прекрасно! Но всякий из нас и так борется; но для чего
борется? какими средствами? для какой цели? Не вся-
кий ли из нас отстаивает свои, может быть, скрытые
от
самого себя убеждения? но какие убеждения?
… Мы вполне согласны, что наставник не должен
навязывать своих убеждений воспитаннику, что это
есть величайшее насилие, какое только можно себе
представить: насилие ума взрослого и обладающего
множеством средств над умом бессильным и беспомощ-
ным… Однакоже мы сознаем вполне и то, что невоз-
можно развивать душу дитяти, не внося в нее никаких
убеждений. Если мы будем воспитывать в детях пол-
ных скептиков, то внесем в них одно
из самых крайних
убеждений: убеждение в невозможности убеждений,
развратим душу и сделаем ее неспособной к убежде-
ниям;, а этой способности к искренним и сильным убеж-
дениям именно и требует автор от воспитания. Таким-то
образом самый основной вопрос воспитания приводит
нас к самому трудному вопросу нравственной фило-
софии: каково должно быть содержание убеждения,
которое бы не разрушало необходимой формы всякого
истинного убеждения — не разрушало свободы?
Здесь, в
этом вопросе, показывается вся та тесная
связь, которая существует между воспитанием и фило-
373
софскими науками и которой так упорно не хотят
многие понять у нас (т. III, стр. 24—26).
229. О цели воспитания
… Научить человека искать себе средства для на-
слаждений (эвдемонизм, эпикуреизм) значит обманы-
вать человека и заставлять его накачивать данаидову
бочку; научить человека пренебрегать наслаждениями
и страданиями и искать выше всего свободы (стоицизм)
значит тоже обманывать человека и гнать его в безбреж-
ную пустыню;
но дать человеку деятельность, которая
бы наполнила его душу и могла бы наполнять ее вечно,—
вот истинная цель воспитания, цель жизни, потому что
цель эта — сама жизнь.
Мы уже видели прежде, что основной целью воспи-
тания человека может быть только сам человек, так
как все остальное в этом мире (и государство, и народ,
и человечество) существует только для человека. Мы
видели также, что в человеке цель воспитания состав-
ляет душа, для которой существует тело (см. выше).
Теперь
же мы видим, что и в душе целью воспитания
есть дать ей вечную, по возможности, полную, широкую,
поглощающую ее деятельность. Дать труд человеку,
труд душевный, свободный, наполняющий душу, и дать
средства к выполнению этого труда — вот полное опре-
деление цели педагогической деятельности.— Первая
половина этой задачи (приискание труда) особенно важ-
на для воспитания достаточных классов: бедного чело-
века труд и сам отыщет; богатому надобно его отыскать,
а это совсем не
так легко, как кажется, потому что
труд должен наполнить душу и его должно стать на
всю жизнь, да и в будущем он должен остаться веч-
ным.
Но прежде, чем мы приступим к развитию этой
мысли, взглянем, как определяют цель воспитательной
деятельности другие педагоги, чтобы видеть, в чем мы
согласны и в чем расходимся с ними…
(Ф., 316, № 19, «О чувствах», л 63).
374
230. Угадывать душевное настроение общества и
руководить им составляет главную задачу политики;
во содействовать образованию в душе дитяти такого
коренного строя, который достоин человека,— вот
величайшая задача воспитания и воспитателя (т. IX,
стр. 116).
231. Психолог, относящийся к душевным явлениям
как объектам наблюдения, видит ясно, что для человека
важнее иметь цель жизни (задачу, труд жизни), чем
достигать ее… Свойства этой
цели определяются уже
особенностями человеческой души и потому мы будем
говорить о них в третьей части нашей антропологии; но
и теперь уже ясно, что эта цель для того, чтобы по-
стоянно наполнять постоянно раскрывающуюся пу-
стоту человеческой души (ее стремление к деятельно-
сти), должна быть такова, чтобы, достигаемая постоянно,
она никогда не могла быть достигнута, причем человек
остался бы без цели в жизни (т. IX, стр. 514—515).
II. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ К
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ
ЧАСТИ
1. Общие замечания о физическом воспитании
232. (VII, 19). Физическое воспитание. Гимнастика.
Платье. Сон
У Руссо: стр. 119.
Об усталости славное выражение: «взрывая землю,
мы перебиваем себе постель» (р. 124).
Гимнастика есть лечение волей] но это только начало:
если будет изучена причина болезни, то передвижение
физических сил будет делать чудеса.
2. О воспитании у ребенка власти над его
нервной организацией
233. Исполнение. Воля. Рост ее
«При начале
жизни, говорит Бэн, не существует
никакой связи между каким бы то ни было физическим
375
страданием и действием, рассчитанным на то, чтобы
избавить от этого страдания. На этом факте нельзя
довольно настаивать; ибо через него выясняется перед
нами природа воли, как приобретения, создаваемого
чрезвычайно постепенно» (The Will, p. 251).
Но, во-первых, если этот факт и нужен Бэну для
его теории, то это еще не доказательство существования
факта; а сам же он выше сознается, что точных дока-
зательств его дать нельзя. Во-вторых, зачем
ему нужен
этот факт? Для его материалистического миросозерца-
ния? Но этот факт не уничтожит однако того несомненно
уже факта, что помимо всяких опытов жизни и прежде
их в организме человека дана возможность страданий
от голода, и машина анатомических органов и свя-
занных с ними рефлексов, чтобы избежать этого стра-
дания. Дело, значит, только в том, чтобы человек опы-
том узнал существование этой машины и научился обла-
дать ею. Значит все же,— всему предшествует в этом
случае
чувство голода, потом прикосновение груди
приводит в движение машину и вот неприятное чувство
голода начало упадать, что доставляет облегчение
страданию, т. е. наслаждение. Этим и начинается ряд
опытов пользования подготовленной уже машиной. Но
если бы дитя должно было выучиться опытами одному
процессу сосания и глотания, то необыкновенная слож-
ность этих процессов именно заставила бы наверное
предположить, что дитя умерло бы с голоду прежде,
чем выучилось бы им.
В движениях,
не столь необходимых для жизни,
уже более места для случая и опытов,— и в том, что
воля человека, т. е. власть над движениями тела,
формируется опытами, мы за исключением чисто реф-
лективно подготовленных уже природой действий вполне
согласны с Бэном.
Власть человека над телом за исключением той,
которая уже установлена природой прежде рождения,
растет не иначе, как в опытах и опытами.
Так, мы действительно видим, что способность на-
правлять движения глаз за движениями
внешних пред-
376
метов (ib., p. 369) точно так же, как и движения рук, не
существует в первом младенчестве, а приобретается
мало-помалу заметными опытами ребенка.— Точно так
же устанавливается понемногу связь между слуховыми
и голосовыми органами; а при отсутствии слуха чело-
век не получает возможности управлять произвольно
своими голосовыми органами, как глухонемые (ib.,
р. 382—383).
Вот почему и учение глухонемых состоит в том,
чтобы дать им другой
контроль над голосовыми мус-
кулами, который бы мог заменить слух; контроль
этот — осязание: они держат себя за горло и смотрят
на движение рта учителя и своего в зеркале.
Руссо предлагает средство дрожания тела; но это,
годится только для пения и я полагаю, что им можно было
бы воспользоваться, если только нужно выучивать петь
этих бедняков.
Волю, приобретенную опытом, Бэн развивает далее
очень хорошо: он показывает, как показываем и мы,
что действие, которому мы выучились
медленным и
сознательным путем, может превратиться в рефлекс,
возбуждаемый каждый раз к деятельности при повто-
рении того чувствования, под влиянием которого мы
ему выучились (ib., р. 394).
Так, хотя мы и выучились подымать руку и протя-
гивать ее к предмету и при этом учении нам помогали
и зрение, и осязание, и память и соображение; но мы
уже не повторяем всего этого длинного процесса и нам
достаточно только пожелать протянуть руку к цветку,
чтобы она протянулась и сорвала
цветок.— Это уже
полный рефлекс, или полурефлекс, смотря по тому,
насколько не ново для нас это действие.
Мое. Дитяти, которое нечаянно возьмет чего—
нибудь горького в рот, надобно иногда говорить —
«выплюнь». Но подросши, то же дитя выплюнет горь-
кое, даже не подумавши, что нужно выплюнуть.
(Ф. 316, папки № 25, 26, 28, 29, 31).
377
234. Исполнение. Воля. Усилие. Влияние воли на
тело, на здоровье
Мы показали выше, что душа, не творя физических
сил, имеет способность передвигать их в организме, а
может быть, и превращать одну силу в другую, извле-
кать их из одних органических процессов и сосредото-
чивать в других,— и эта власть души так обширна,
что мы далеко не пользуемся ею. Посмотрите на индий-
ских факиров, что они выделывают сами над собой?
Отчего же эта
власть, высказывающаяся так безгранич-
но-могущественною под влиянием фанатизма, не может
управляться образованной мыслью и знаниями свойств
и потребностей человеческого организма?— Первый и
большой шаг к этому уже сделан… Это — гимнастика—
воспитательная, гигиеническая и врачебная. Что.такое
воспитательная гимнастика как не развитие нашего
организма нашей волей сообразно целям образованной
жизни? Что такое лечение. гимнастикой, принявшее
теперь такие большие размеры, как
не лечение болез-
ней волею больного? Это передвижение сил организма,
совершаемое нашей волей, может оказаться и еще могу-
щественнее, если мы познакомимся более со свойствами
нашего организма,- с причинами болезней и приучимся
свободнее располагать его силами. Это еще поле, далеко
не вполне разработанное человечеством.
Нет сомнения, что передвижением сил мы можем
изменить ткани нашего тела а если присоединить к
этому мысль Ламарка, Шопенгауэра и Дарвина о зави-
симости
самой организации тела от усилий, которые
могут в человеке руководиться мыслью и наукой,—
то пределы изменений, которые мы можем нашей волей
внести в наш организм, скрываются от самого сильного
взора.
По крайней мере, мы убеждены, что медицина посту-
пила бы очень хорошо, обратив в эту сторону свое
внимание: она нашла бы в воле человека живую воду,
если не против всех, то против многих болезней, ив
той же воле человека упорнейшую соперницу своих
внешних лечебных средств.
378
Но власть над передвижением сил приобретается
постепенно, чуть заметными ступенями, а не разом,
й эту привычку надобно приобретать с детства: удер-
жание крика, удержание смеха — вот первые уроки в
ней; ходьба, язык — вторые; гимнастика, естествен-
ная и учебная, танцы, пение, обращение внимания на
предметы учения,— вот эти формы роста власти души
над телом… и вот в какую сторону должно быть обра-
щено особенное внимание современного
воспитания.
Сначала награды и наказания, а равно и цели,
достигаемые тем или другим передвижением сил,
должны руководить ростом этой власти, а потом нами
правит и сама власть: держать постоянно на узде свой
организм и вести его туда, куда указывает мысль выс-
шего блага,— вот идеал этого стремления. Аскетизм
всех возможных религий показал нам только, как
много может сделать человек в этом отношении: раз-
витому разуму и науке следует только воспользоваться
этим путем,
указанным аскетизмом, этой силой, кото-
рую он дает; но направить эту силу не туда.
Если слепой, темный фанатизм добивался такой
власти над телом, то почему же не воспользоваться ею
образованной мысли и для светлых целей? Но не забу-
дем, что для этого мало мысли, а надобно одушевление,
дающее мысли непобедимую силу.
(Ф. 316, папки № 25, 26, 23, 29, 31).
235. О подчинении нервного организма ребенка его
сознанию и воле
Человек владеет далеко не всеми теми силами и
способностями,
которые скрываются в его нервном
организме, и человеку принадлежит из этого богатого
сокровища только то, и именно то, что он покорил
своему сознанию и своей воле и чем, следовательно,
может распорядиться по своему желанию. Одна из
главных целей воспитания именно в том и состоит,
чтобы подчинить силы и способности нервного орга-
низма ясному сознанию и свободной воле человека.
379
Сама же по себе нервная непроизвольная деятельность,
какие бы блестящие способности ни проявлялись в
ней, не только бесплодна и бесполезна, но и положи-
тельно вредна. Этого-то не должны забывать воспи-
татели, которые нередко очень неосторожно любуются
проявлениями нервной раздражительности детского
организма, думая видеть в ней зачатки великих спо-
собностей и даже гениальностей и усиливают нервную
раздражительность дитяти вместо того,
чтобы осла-
бить ее благоразумными мерами.
Сколько детей, прослывших в детстве маленькими
гениями и подававших действительно самые блестящие
надежды, оказываются потом людьми, ни к чему не
способными! Это явление до того повторяется часто,
что, без сомнения, знакомо читателю. Но немногие
вдумывались в его причины. Причина же его именно та,
что нервный организм подобных детей действительно
очень сложен, богат и чувствителен и мог бы действи-
тельно быть источником замечательной
человеческой
деятельности, если бы был подчинен ясному сознанию
и воле человека. Но в том-то и беда, что он именно
своим богатством подавил волю субъекта и сделал его
игрушкой своих капризных, случайных проявлений, а
неосторожный воспитатель вместо того, чтобы поддер-
живать человека в борьбе с его нервным организмом,
еще больше раздражал и растравлял этот организм.
Какими бы радужными цветами ни блистала не-
произвольная нервная деятельность, как бы ни выска-
зывались
привлекательно в ней память, воображение,
остроумие, но она ни к чему дельному не приведет,
если в ней нет того ясного сознания и той самообладаю-
щей воли, которые одни только и мыслям и делам нашим
дают характер дельности и действительности. Без
этого руководителя самые блестящие концепции не
более как фантазмы, клубящиеся прихотливо подобно
облакам и подобно им разгоняемые первым дуновением
действительной жизни.
Конечно, богатая впечатлительная деятельность,
глубокая
и сложная нервная организация есть непре*
380
менное условие всякого замечательного ума и таланта;
но только в том случае и настолько, насколько человек
успел овладеть этой организацией. Чем богаче и силь-
нее нервный организм, тем легче выбивается он из-под
контроля человеческого самосознания и овладевает
человеком вместо того, чтобы повиноваться ему, и пото-
му-то в великих людях замечаем мы не только богатство
нервного организма, но и замечательную силу воли.
Перечитывая биографии
знаменитых писателей, про-
читывая черновые рукописи их творений, мы заметим
следы ясной борьбы сильной воли и сильного само-
сознания с сильно раздражительным и богатым нерв-
ным организмом; мы заметим, как мало-помалу овла-
девал писатель своей нервной организацией и с каким
неодолимым терпением боролся он с нею, отвергая ее
капризы и пользуясь ее сокровищами.
Великие писатели, артисты, а тем более великие
мыслители и ученые настолько же родятся, насколько
делаются сами
и в этой выработке, в этом постепенном
овладевании богатством их сложной нервной природы
показывают они то величайшее упорство, которое
бросилось в глава Бюффону, когда он сказал, что «ге-
ний есть величайшее терпение».
Чем богаче нервная организация дитяти, тем осто-
рожнее должен обращаться с нею воспитатель, никогда
и ни в чем не допуская ее до раздраженного состояния.
Воспитатель должен помнить, что нервный организм
только мало-помалу привыкает, не впадая в раздраже-
ние,
выносить все сильнейшие и обширнейшие впечат-
ления и что вместе с развитием нервной организации
должны крепнуть воля и сознание в человеке. Посте-
пенное обогащение нервного организма, постепенное
развитие его сил, не допускающее никогда нормальной
его деятельности до перехода в раздражительное со-
стояние, постепенное овладевание воспитанником богат-
ством его нервной системы,— должно составлять одну
из главных задач воспитания, и в этом отношении педа-
гогике предстоит
впереди безгранично обширная дея-
тельность.
381
Воспитатель никогда не должен забывать, что ненор-
мальная нервная деятельность не только бесплодна,
но и положительно вредна. Вредна она, во-первых,
для физического здоровья, потому что нет сомнения,
что раздраженная деятельность нервов поддерживается
во всяком случае на счет общего питания тела, которому
таким образом, особенно в период его развития, оно
принесет значительный ущерб. Во-вторых, еще вреднее
такая ненормальная деятельность
потому, что повто-
ряемая часто, она мало-помалу обращается в привыч-
ное состояние организма, который с каждым разом все
легче и легче впадает в раздражительное состояние и
делается, наконец, одним из тех слабонервных орга-
низмов, которых в настоящее время так много.
Прежняя простая жизнь детей более способствовала
воспитанию сильных и стройных организаций, может
быть, не столько чувствительных и чутких, как нынеш-
ние, но зато более надежных. Нет сомнения, что в
слабонервности
нашего века принимают немалое уча-
стие разные искусственные детские развлечения, ран-
нее чтение детских повестей и романов и, конечно,
более всего ранняя исключительно умственная дея-
тельность, которой подвергают детей слишком забот-
ливые родители и воспитатели и которой отчасти тре-
бует громадное развитие человеческих знаний. «Воспи-
татель, говорит английский доктор Брайгем, кажется,
думает, что, возбуждая душу, он заставляет действо-
вать нечто совершенно независимое
от тела и ускоряет
до крайности движения чрезвычайно деликатного орга-
низма, не понимая, к несчастью, его близкой связи с
телом». «Нервная система, говорит модный (?) шотланд-
ский педагог Джемс Керри, центром которой является
мозг, будучи слишком возбуждаема в детстве, остается
навсегда раздражительно-деятельной и вместе с тем
слабой: она начинает властвовать над всем организмом
и остается сама вне контроля. То же самое происходит
и даже еще быстрее при слишком сильном возбуждении
чувств.
Вот почему необыкновенно важно, как для
телесного здоровья, так и для характера детей, пре-
382
дохранять их в ранние годы от всяких сильных страстей,
как в занятиях, так и в играх» (Джемс Керри, «Основа-
ния воспитания в общественных училищах», 1862,
р.. 149—150).
«Всякое преждевременное умственное развитие, опе-
режающее развитие сил телесных, есть уже само по
себе более или менее нервное раздражение, и на этом-то
явлении основывается именно потребность вести одно-
временно и умственное и телесное развитие. Гимнас-
тика, всякого
рода телесные упражнения, телесная
усталость, требующая сна и пищи, прогулка по све-
жему воздуху, прохладная спальня, холодные купанья,
механические работы, требующие телесного навыка,—
вот лучшие средства для того, чтобы удерживать нерв-
ный организм всегда в нормальном состоянии и успо-
коить даже тот, который был уже неосторожно возбуж-
ден, а вместе с тем укрепить волю и дать ей верх над
нервами».
Английские и американские воспитатели поняли
уже важность этой задачи
и сделали многое для того,
чтобы удержать в постоянном равновесии развитие всех
душевных и телесных сил. Германское воспитание, слиш-
ком много налегая на одно умственное развитие, мало
еще покуда сделало для телесного развития, хотя и много
говорит о необходимости его в своих книгах: но ни одно
воспитание не нарушает так страшно равновесия в дет-
ском организме, ни.одно так не раздражает нервную
систему детей, как наше русское. У нас покуда все
внимание обращено единственно
на ученье и лучшие
дети проводят все свое время только в том, что читают
да учатся, учатся да читают, не пробуя и не упражняя
своих сил и своей воли ни в какой самостоятельной
деятельности, даже в том, чтобы ясно и отчетливо пе-
редать, хоть в словах, то, что они выучили или прочли;
они рано делаются какими-то только мечтающими пас-
сивными существами, все собирающимися жить и ни-
когда не живущими, все готовящимися к деятельности
и остающимися навсегда мечтателями.
Сидячая
жизнь, при 20-ти градусном тепле в ком-
383
натах, в шубах и фланелях, жизнь изнеженная, слас-
тенная, без всяких гимнастических упражнений, без
прогулок, без плаванья, без верховой езды, без тех-
нических работ и т. п., все за книгой да за книгой,
то за уроком, то ва романом,— вот почти нормальное
у нас явление в воспитании детей среднего состояния.
Что же способно породить такое воспитание? Книгое-
дов, глотающих книги десятками, и из чтения которых
не выйдет никакого проку, потому
что даже для того,
чтобы написать стройную статью, нужна воля и при-
вычка, и, чтобы высказать словами ясно и красиво
свои мысли, нужна также воля и навык; а школа наша
дает им только знания, знания и еще знания, переходя
поскорее от одного к другому. Развитие головы и
совершенное бессилие характеров, способность все
понимать и обо всем мечтать (я не могу даже сказать —
думать) и неспособность что -нибудь делать — вот плоды
такого воспитания. Часто, видя подобный характер,
желаешь
от души, чтобы он как можно менее знал и
был менее развит, тогда, может быть, выйдет из него
больше проку. Таким воспитанием, расстраивающим и
раздражающим нервные системы детей, мы перепор-
тили целые поколения и, к величайшему сожалению, мы
не видим, чтобы и в настоящее время сделано было
что-нибудь для исправления этой коренной ошибки
русского воспитания. Надеемся, впрочем, что уничто-
жение крепостного состояния, избавлявшего русского
дворянского мальчика даже и от необходимости
вычис-
тить самому себе сапоги и платье, принесет косвенным
образом большое улучшение в этом отношении.
Перечислим теперь некоторые воспитательные меры,
предупреждающие нервное раздражение в детях, или
успокаивающие его, оговариваясь притом, что этих
мер может быть очень много и что благоразумный
воспитатель, понимающий хорошо причину ела, сам
найдет множество средств противодействовать ему.
На основании физиологическо-психической при-
чины, которую мы старались уяснить
выше, здравая
педагогика —
384
1) запрещает давать детям чай, кофе, вино, ваниль»
всякие пряности; словом все, что специфически раз-
дражает нервы;
2) запрещает игры, раздражающие нервы, как,
например, всякие азартные игры, которых развелось
теперь для детей так много; запрещает детские балы
и т. п.;
3) запрещает раннее и излишнее чтение романов,
повестей и особенно на ночь;
4) прекращает деятельность ребенка или игру его,
если замечает, что дитя выходит из нормального
со-
стояния;
5) запрещает вообще, чем бы то ни было, возбуждать
сильно чувство детей;
6) требует педантически строгого распределения
детского дня, потому что ничто так не приводит нервы
в порядок, как строгий порядок в деятельности, и
ничто так не расстраивает нервы, как беспорядочная
ЖИЗНЬ;
7) требует постоянной смены умственных упраж-
нений телесными, прогулок, купаний и т. п.
При самом обучении ребенка, нервная система
которого уже слишком возбуждена, умный
наставник
может действовать благодетельно против этой болезни.
Он будет давать как можно менее пищи фантазии
ребенка, и без того уже раздраженной, и обратит
особенное внимание на развитие в нем холодного рас-
судка и ясного сознания; будет упражнять его в ясном
наблюдении над простыми предметами, в ясном и точ-
ном выражении мыслей; будет ему давать постоянно
самостоятельную работу по силам и потребует строгой
аккуратности в исполнении; словом, при всяком удоб-
ном случае
будет упражнять волю ребенка и, мало-
помалу, передавать ему власть над его нервной орга-
низацией, может быть, потому и непокорною, что она
слишком богата. Но при этом воспитатель и учитель
не должны забывать, что чем более привыкли нервы
впадать в раздраженное состояние, тем медленнее
отвыкают они от этой гибельной привычки, и что вся-
385
кое нетерпеливое действие со стороны воспитателя и
наставника производят последствия, совершенно про-
тивоположные тем, которых они ожидают: вместо
того, чтобы успокоить нервы ребенка, они еще более
раздражают его» (Пед. сборн. 1865 г., апр., кн. VII,
стр. 546—549).
3. Воспитание привычек и навыков
236. Мы потому так долго останавливаемся на
привычке, что считаем это явление нашей природы
одним из важнейших для воспитателя. Воспитание,
оценившее
вполне важность привычек и навыков и
строящее на них свое здание, строит его прочно.
Только привычка открывает воспитателю возмож-
ность вносить те или другие свои принципы в самый
характер воспитанника, в его нервную систему, в его
природу. Старая поговорка недаром говорит, что
привычка есть вторая природа; но, прибавим мы,
природа, послушная искусству воспитания. Привычка,
если воспитатель умел овладеть ею,,даст ему возмож-
ность подвигаться в своей деятельности все вперед
и
вперед, не начиная беспрестанно постройки сначала и
сосредоточивая сознание и волю воспитанника на
приобретении новых, полезных для него принципов,
так как прежние уже его не затрудняют, обратившись
в его природу — в бессознательную или полубессозна-
тельную привычку. Словом, привычка есть основание
воспитательной силы, рычаг воспитательной деятель-
ности.
Не только в воспитании характера, но также и в
образовании ума и в обогащении его необходимыми
знаниями нервная
сила привычки, только в другой
форме, в форме навыка, имеет первостепенное значе-
ние. Всякий, кто учил детей чтению, письму и началам
наук, заметил, без сомнения, какую важную роль
играет при этом навык, приобретаемый учащимся от
упражнения и мало-помалу укореняющийся в его нерв-
ной системе в форме рефлективных, бессознательных
или полубессознательных движений. При обучении
386
чтению и письму важное значение навыка кидается в
глаза само собой. Здесь вы беспрестанно замечаете,
что от понимания ребенком, как что-нибудь должно
сделать (произнести, написать), до легкого и чистого
выполнения этого действия проходит значительный
период времени, и как от беспрестанных упражнений
в одном и том же действии оно мало-помалу теряет
характер сознательности и свободы и приобретает
характер полубессознательного или вовсе бессозна-
тельного
рефлекса, освобождая сознательные силы
ребенка для других, более важных душевных процес-
сов. Пока ребенок должен припоминать каждый звук,
изображенный той или другой буквой, и думать, как
соединить эти звуки, он не может в то же время сосре-
доточить своего внимания на содержании того, что
читает. Точно так же, начиная учиться писать, думая
о том, как вырисовать каждую букву, и, издерживая
свою волю на требуемое учителем непривычное движе-
ние руки, дитя не может сосредоточивать
своего внима-
ния и воли на содержании того, что оно пишет, на связи
мыслей, на орфографии и т. п. Только уже тогда,
когда чтение и письмо превратились для ребенка в
механизм, и в привычку, в бессознательный рефлекс,
только тогда освобождающиеся мало-помалу силы со-
знания и воли дитяти могут быть употреблены на при-
обретение новых, высших знаний и навыков, бот
почему есть ошибка и в той крайности, которой увле-
калась отчасти новейшая педагогика, восставая против
прежних
схоластических методов ученья чтению и
письму, рассчитывавших единственно на бессознатель-
ный навык и не затрагивавших нисколько умственных
сил ребенка. Внести умственную деятельность и в обу-
чение чтению и письму, конечно, необходимо; но не
должно при этом никак забывать, что все же целью
первоначального обучения будет превращение дея-
тельности чтения и письма в бессознательный навык
с тем, чтобы дитя, овладевши этим навыком, могло
освободить свои сознательные душевные
силы для дру-
гих, более высших деятельностей. И здесь, как и везде
387
в педагогике, истина лежит посредине: учение чтению
и письму не должно быть одним механизмом, но в то
же время механизм чтения и письма никак не должен
быть упущен из виду. Пусть разумное учение чтению
и письму развивает ребенка насколько может, но пусть
в то же время самый процесс чтения и письма от упраж-
нения превращается мало-помалу в бессознательный
и непроизвольный навык, освобождая сознание и
волю ребенка для других, более высших
деятель-
ностей.
Даже в самой сознательной из наук, математике,
навык играет значительную роль. Конечно, учитель
математики должен заботиться прежде всего о том,
чтобы всякое математическое действие было вполне
сознано учеником; но вслед затем он должен заботиться
и о том, чтобы частое упражнение в этом действии пре-
вратило его для учащегося в полусознательный навык,
так чтобы, решая какую-нибудь задачу высшей алгеб-
ры, ученик не тратил уже своего сознания и воли на
припоминание
низших арифметических действий.
Дурно, если ученик при решении уравнений будет
задумываться над табличкой умножения, хотя, конечно,
изучение таблицы умножения не должно быть механи-
ческим. Вот почему за ясным пониманием какого—
нибудь математического действия должны следовать
непременно многочисленные упражнения в этом дей-
ствии, имеющие целью обратить его в полусознательный
навык и освободить, по возможности, сознание уча-
щихся для новых, более сложных математических
ком-
бинаций.
Из ясного понимания органического характера
привычки может быть выведено такое множество педа-
гогических правил, что они одни составили бы значи-
тельную книгу. Но так как правила эти выводятся
сами собой очень легко, если только понятие привычки
поставлено верно и данный случай, которых бесконеч-
ное множество, обсужден зрело,— то здесь мы скажем
лишь несколько слов о том, какими средствами укоре-
няются или искореняются привычки.
388
Ив сказанного ясно, что привычка укореняется
повторением какого-нибудь действия, повторением его
до тех пор, пока в действии начнет отражаться рефлек-
тивная способность нервной системы и пока в нервной
системе не установится наклонность к этому действию.
Повторение одних и тех же действий есть, следова-
тельно, необходимое условие установления привычки.
Повторение это, особенно вначале, должно быть по
возможности чаще; но при этом должно
иметь в виду
свойство нервной системы уставать и возобновлять
свои силы. Если действия повторяются так часто, что
силы нервов не успевают возобновляться, то это может
только раздражать нервную систему, а не установить
привычку. Периодичность действий есть одно из
существенных условий установления привычки,
потому что эта периодичность заметна во всей жизни
нервной системы. Правильное распределение занятий и
целого дня воспитанника имеет и в этом отношении
очень важное
значение. Мы сами над собой замечаем,
как известный час дня вызывает у нас бессознатель-
ную привычку, установившуюся в этот именно час.
Занимаясь часто и в продолжение долгого времени
каким-нибудь предметом, мы как будто устаем зани-
маться им, останавливаемся, перестаем итти вперед;
но оставив его на некоторое время и возвратившись к
нему потом снова, мы замечаем, что сделали значитель-
ный прогресс: находим твердо укоренившимся то, что
казалось нам шатким; ясным то, что
казалось нам тем-
ным; и легким то, что было для нас трудно. На этом
свойстве нервной системы основывается необходимость
более или менее продолжительных перерывов в учеб-
ных занятиях, вакаций. Но новый период учебы должен
необходимо начинаться повторением пройденного, и
только при этом повторении учащийся овладевает
вполне изученным прежде и чувствует в себе накопление
сил, дающих ему возможность итти далее.
Из характера привычки вытекает уже само собой,
что для укоренения
ее требуется время, как требуется
оно для возрастания семени, посаженного в землю, и
389
воспитатель, который торопится с укоренением при-
вычек и навыков, рискует вовсе не укоренить их.
При укоренении всякой привычки издерживается
сила, и если мы станем укоренять много привычек и
навыков разом, то можем сами мешать своему делу;
так, например, при изучении иностранных языков, где
навык играет такую важную роль, мы сами вредим успе-
хам учеников, если учим их нескольким иностранным
языкам разом. Конечно, от сравнительного изучения
языков
проистекает значительная польза для разви-
тия ума; но если мы имеем в виду не одно развитие ума,
а действительное знание языка и практический навык
в нем, то должны изучать один язык ва другим и поль-
зоваться сравнением сначала первого иностранного
языка с нашим родным языком, а потом уже второго
иностранного языка с тем, в котором мы предвари-
тельно приобрели значительный навык. Одна из глав-
нейших причин неуспеха изучения иностранных
языков в наших гимназиях заключалась
именно в том,
что мы изучали несколько иностранных языков разом,
не изучив прежде порядочно даже своего родного; на-
значили на каждый язык равное число уроков и, сле-
довательно, незначительное; отодвигали один урок от
другого на три, на четыре дня. Если бы мы то же самое
число часов, которое назначалось в наших гимназиях
на изучение иностранных языков, расположили педа-
гогичнее, занимались изучением сначала одного языка,
а потом другого, занимались каждый день, предупреж-
дая
возможность забвения; словом, если бы мы при
распределении наших уроков в иностранных языках
имели в виду органическую, нервную природу навыка,
то успехи наших учеников были бы гораздо значитель-
нее при тех же самых средствах, какими мы обладали.
Мы же сбиваем один навык другим и гоняемся разом
за всеми зайцами.
Нечего и говорить, что привычки и навыки, укоре-
няемые нами в воспитанниках, должны быть не только
полезны для них, но и необходимы, так чтобы вос-
питанник,
приобрев какую-нибудь привычку или на-
390
вык, мог потом пользоваться ими, а не принужден был
бросать их, как ненужное. Если же, например, учи-
тель старшего класса оставляет без внимания привычку
или навык, укорененные в детях учителем младшего
класса, или, что еще хуже, искореняет их новыми,
противоположными привычками и навыками, то этим
только расшатываются, а не создаются характеры. Вот
почему те учебные заведения, где в старших классах
не обращалось внимания на то, что делалось
в млад-
ших, и где многочисленные воспитатели и учителя не
связаны между собой никаким общим воспитательным
направлением и никакой общей воспитательной тради-
цией,— не имеют никакой воспитывающей силы. Вот
почему воспитание, само не имеющее сильного харак-
тера, не проникнутое традицией, не может воспитывать
сильных характеров, и воспитатель с слабым, неуста-
новившимся характером, переменчивым образом мыслей
и действий, никогда не разовьет сильного характера в
воспитаннике;
вот почему, наконец, лучше иногда
остаться при прежней воспитательной мере, чем посред-
ством воспитательной деятельности без особенно настоя-
тельной необходимости принять новую.
Если мы хотим вкоренить какую-нибудь привычку,
или какие-нибудь новые навыки в воспитаннике, то,
следовательно, хотим предписать ему какой-нибудь
образ действий. Мы должны зрело обдумать этот образ
действий и выразить его в простом, ясном, по возмож-
ности, коротком правиле и. потом требовать неуклон-
ного
исполнения этого правила. Правил этих одно-
временно должно быть как можно меньше, чтобы вос-
питанник мог легко исполнять их, а воспитатель легко
следить за их исполнением. Не следует установлять
такого правила, за исполнением которого следить
нельзя, потому что нарушение одного правила ведет к
нарушению других. Природа наша не только приоб-
ретает привычки, но и приобретает наклонность при-
обретать их, и если хотя одна привычка установится
твердо, то она проложит дорогу
и к установлению дру-
гих однородных. Приучите дитя сначала повиноваться
391
2—3 легким требованиям, не стесняя его самостоятель-
ности ни множеством, ни трудностью их, и вы можете
быть уверены, что оно будет легче подчиняться и новым
вашим постановлениям. Если же, стеснив дитя разом
множеством правил, вы вынудите его к нарушению
того или другого из них, то сами будете виноваты, если
приводимые вами привычки не будут укореняться и вы
лишитесь помощи этой великой воспитательной силы.
При укоренении привычки ничто
так сильно не
действует* как пример, и дать какие-нибудь твердые,
полезные привычки детям, если окружающая их жизнь
сама идет, как попало, невозможно. Первое установ-
ление каких-нибудь правил в учебном заведении не
легко; но если они раз уже в нем твердо установятся,
то вновь поступающее дитя, видя, как все неуклонно
исполняют какое-нибудь правило, не подумает ему
противиться и быстро усваивает полезную ему привычку.
Из этого уже видно, как вредно действует на воспи-
тание
частая перемена воспитателей, и особенно, если
нельзя рассчитывать, что они будут следовать в своей
деятельности одним и тем же правилам.
Рассчитывать же на это можно только тогда, если
воспитатель, как, например, в Англии, невольно под-
чиняется сильно сопротивляющемуся общественному
мнению в отношении воспитания и преданиям, в кото-
рых он сам воспитан,— преданиям, общим для всякой
английской школы, или «по крайней мере, для целого
класса этих школ. Во всякой заграничной
школе, а
не только английской, внимательное наблюдение оты-
щет правила и приемы, идущие еще из того времени,
когда школа была церковным учреждением, общим
западному католическому миру, и из времени реформа-
ции, и из времени первых преобразователей школьного
дела. Словом, на Западе школа есть вполне обществен-
ное, исторически выросшее явление. Эта историчность
и придает воспитательную силу школе, несмотря на
перемену воспитателей. Можно также рассчитывать на
единство
в направлении воспитателей, если они сами
вышли и продолжают выходить из одной и той же
392
педагогической школы. Таково влияние в Германии,
так называемых, педагогических семинарий. Но если
нет ни того, ни другого, ни исторической, ни специаль-
ной подготовки и если воспитатели сменяют, да притом
еще часто сменяют друг друга, внося каждый в одну и
ту же школу свои новые приемы, то нет ничего мудре-
ного, если в такой школе и даже во всех школах какого—
нибудь государства вовсе не образуется воспитатель-
ной силы и они будут
еще кое-как учить, но не будут
никак воспитывать.
Часто приходится воспитателю не только укоре-
нять привычки, но и искоренять уже приобретенные.
Это последнее труднее первого: требует больше обду-
манности и терпения. По самому свойству своему
привычка искореняется или от недостатка пищи, т. е.
от прекращения тех действий, к которым вела привыч-
ка, или другой же противоположной привычкой.
Приняв в расчет врожденную детям потребность бес-
престанной деятельности, должно
употреблять при
искоренении привычек оба эти средства разом; т. е. по
возможности удалять всякий повод к действиям, про-
исходящим от вредной привычки, и в то же время на-
правлять деятельность дитяти в другую сторону.
Если же мы, искореняя привычку, не дадим в то же
время деятельности ребенку, то ребенок поневоле будет
действовать по-старому.
В воспитательных заведениях, где царствует беспре-
станная правильная деятельность детей, множество
дурных привычек глохнут и уничтожаются
сами собой;
в заведениях же с казарменным устройством, где цар-
ствует только внешний порядок, дурные привычки
развиваются и множатся страшно под прикрытием
этого самого порядка, не захватывающего и не воз-
буждающего внутренней детской жизни.
При искоренении привычки следует вникнуть, от-
чего привычка произошла, и действовать против при-
чины, а не против последствий. Если, например, при-
вычка ко лжи развилась в ребенке от чрезмерного ба-
ловства, от незаслуженного
внимания к его действиям
393
и словам, воспитавшим в нем самолюбие, желание
хвастать и занимать собой,— тогда должно устроить
дело так, чтобы ребенку не хотелось хвастать, чтобы
лживые рассказы его возбуждали недоверие и смех, а
не удивление, и т. п. Если же привычка ко лжи укоре-
нилась от чрезмерной строгости, тогда следует проти-
водействовать этой привычке кротким обращением, по
возможности облегчая наказание ва проступки и уси-
ливая его только за ложь.
Слишком
крутое искоренение привычек, предпри-
нимаемое иногда воспитателем, не понимающим орга-
нической природы привычки, которая и развивается и
засыхает понемногу, может возбудить в воспитаннике
ненависть к воспитателю, который так насилует его
природу, развить в воспитаннике скрытность, хитрость,
ложь и самую привычку обратить в страсть. Вот
почему воспитателю приходится часто как бы не за-
мечать дурных привычек, рассчитывая на то, что новая
жизнь и новый образ действий мало-помалу
втянут в
себя дитя. При множестве глубоко укоренившихся
дурных привычек полезно бывает иногда переменить
для дитяти совершенно обстановку жизни: перенести
его в другую местность и окружить другими людьми.
Многие привычки действуют заразительно и потому
понятно, как дурно поступают те закрытые заведения,
которые, не узнавши привычек дитяти, прямо помещают
нового воспитанника вместе со старыми.
Но мы не кончили бы никогда, если бы захотели
вывести все воспитательные правила,
которые выте-
кают сами собой из органического характера привыч-
ки, а потому, предоставляя сделать это самому чита-
телю, обратим внимание еще на один важный вопрос.
Что всякая укореняемая привычка должна быть
полезна, разумна, необходима, а всякая искореняемая
должна быть вредна,— это разумеется само собою.
Но здесь рождается вопрос: должно ли объяснять са-
мому воспитаннику пользу или вред привычки, или
должно только требовать от него исполнения тех пра-
вил, которыми
укореняется или искореняется привычка?
394
Вопрос этот решается различно, смотря по возрасту
и развитию воспитанника. Конечно, лучше, чтобы
воспитанник, сознав разумность правила, собствен-
ным своим сознанием и волей помог воспитателю; но
многие привычки должны быть укореняемы или иско-
реняемы в детях такого возраста, когда объяснить им
пользу или вред привычки еще невозможно. В этом
возрасте дитя должно руководствоваться безусловным
повиновением к воспитателю, и, из этого повиновения
исполняя
какое-нибудь правило, приобретать или
искоренять привычку. Чем и как приобретается такое
повиновение и самое значение его будет развито нами в
главе о воле, здесь же мимоходом скажем только о
значении наград и наказаний при установлении или
искоренении привычек.
Конечно, всякое действие ребенка из страха нака-
заний, или из желания получить награду есть уже само
по себе ненормальное, вредное действие. Конечно,
можно так воспитывать дитя, чтобы оно с первых лет
своей жизни»
привыкло безусловно повиноваться вос-
питателю, без наказаний и наград. Конечно, можно и
впоследствии так привязать к себе дитя, чтобы оно
повиновалось нам из одной любви. Но мы были бы
утопистами, если бы при настоящем положении воспи-
тания видели возможность вовсе обойтись без наказаний
и наград, хотя и сознаем их ядовитое свойство. Не
приходится ли часто и медику давать ядовитые сред-
ства, вредно действующие на организм, чтобы изгнать
ими болезни, которые могли бы подействовать
на него
разрушительно? Мы обвинили бы медика только в том
случае, если бы он употреблял ядовитые средства,
имея в своей власти средства безвредные, достигающие
той же цели. Положим, например, что дети приобрели
вредную привычку лености* и что воспитатель не имеет
возможности преодолеть этой привычки без наказаний
за леность и без наград за труд. В таком случае он по-
* В хорошо устроенной школе эта привычка не может быть
приобретена, как это нами высказано в другом месте.
См. «Род-
ное слове» (книга для учащих).
395
ступит дурно, если откажется и от этого последнего
средства, потому что вредное действие этого средства
мало-помалу может изгладиться, а укоренившаяся при-
вычка к лени мало-помалу разрастется и принесет
гибельные плоды. Положим, что дитя, трудясь вслед-
ствие страха взыскания или из желания получить
награду (что дурно), мало-помалу приобретет привычку
к труду, так что труд сделается потребностью его при-
роды: тогда от труда уже разовьется
в нем и сознание и
воля, так что поощрения и взыскания сделаются не-
нужными и вредные следы их изгладятся под влиянием
сознательно-трудовой жизни.
Таким образом, мы видим, что воспитатель, укоре-
няя в’Воспитаннике привычки, дает направление его
характеру, даже иногда помимо воли и сознания вос-
питанника. Но некоторые спрашивают, какое воспи-
татель имеет на это право? Этим странным вопросом
успела уже задаться и русская педагогика *.
Не отвечая вообще на этот вопрос,
к которому мы
воротимся еще впоследствии, говоря о праве воспита-
ния вообще, мы ответим на него здесь только в отно-
шении привычки и ответим почти словами одного из
опытнейших шотландских педагогов:
«Привычка есть сила, говорит Джемс Керри, кото-
рую мы не можем призвать или не призвать к суще-
ствованию. Мы можем употреблять или злоупотреблять
этой силой, но не можем предотвратить ее действий, не
можем помешать образованию в детях привычек: дети
слышат, что мы говорим,
видят, что мы делаем, и под-
ражают нам неизбежно. Взрослые не могут не иметь
влияния на природу дитяти; а потому лучше иметь со-
знательное и разумное влияние, нежели предоставить
все дело случаю **.
* Этот вопрос высказал и оставил нерешенным граф Толстой
в «Ясной Поляне».
** The principles on Common School Education by S. Currie,
p. 17. Другими словами: взрослые не могут не воспитывать де-
тей, а потому лучше воспитывать их сознательно и разумно,
чем как попало.
396
Если обратимся теперь к нашему русскому воспи-
танию и взглянем на него с той точки зрения, которую
мы старались установить, говоря о привычке и ее зна-
чении, то найдем у нас в этом отношении едва ли не
одни недостатки, и особенно в наших светских школах,
как открытых, так и закрытых. Духовные школы наши
имеют свою самостоятельную историю: они выросли
сами собой из потребности общества, подновляются
лицами, воспитанными в тех же самых
школах, в том
же самом духе, а потому и имеют свою самостоятель-
ную историю, имеют свою педагогическую тради-
цию, словом, имеют воспитательный характер и воспи-
тательную силу, которые и продолжают резко отра-
жаться и хорошими и дурными своими сторонами в
характерах воспитанников, поколения за поколениями.
К хорошему или к дурному направлена эта сила —
это другой вопрос, которого мы не беремся здесь решать,
но все же это сила.
Но наши светские школы возникли вовсе не
из об-
щественной потребности и не под покровом церкви, как
на Западе, они по большей части учреждения админи-
стративные, не выросшие органически из истории на-
рода и имеющие свою особенную летопись (не исто-
рию), бедную последовательным развитием, богатую
беспрестанными переменами, из которых одна проти-
воречит другой. Мы в светских наших школах и даже
вообще в народном образовании так мало подвигались
последовательно вперед и так часто меняли самые осно-
вы и самые
существенные требования, так часто пере-
страивали самый фундамент здания, находя все, сде-
ланное прежде, не только недостаточным, но даже по-
ложительно дурным и вредным, что и теперь, через
полтораста лет после Петра Великого, стоим в деле
светского, народного образования почти при самом
начале пути; еще и теперь задаем себе вопрос— нужно
ли оно, или нет?
При таком отсутствии исторической традиции в
светских школах, при таких беспрестанных переменах
самых принципов
воспитания и его основных стремле
397
ний, нечего и искать какого-нибудь общего определен-
ного характера в этих школах, в их воспитателях и
воспитанниках.
Удалив философские науки из университетов, не
занимаясь почти нигде психологией, читая только кое
где, так себе, для формы, педагогику, имея педагоги-
ческие институты, которые вынуждены были закрывать
в то самое время, когда чувствовали сильнейший недо-
статок в учителях, мы не выработали ни в науке, ни в
жизни никаких
воспитательных правил, которые бы
уже сделались в настоящее время достоянием обще-
ственного мнения, и до сих пор не сознали хорошенько,—
какого человека хотим мы готовить в воспитаннике
русской школы.
Мало этого,— мы не позаботились даже о том,чтобы
десятилетнее дитя имело в школе одного воспитателя,
а не десять учителей; даже о том, чтобы дитя на две-
надцатом году жизни пользовалось тем, что приобрело
на десятом, дополняло и развивало приобретенное
прежде, а не бросало
и позабывало. Мы даже не про-
бовали связать своих воспитательных заведений с
общественной жизнью, пересадить и развивать в них
то из народного характера, что достойно пересадки и
развития и, наоборот, действовать через школу на
характер народа.
У нас весьма обыкновенное явление, что в одном и
том же классе преподаватель одного предмета тянет в
одну сторону, преподаватель другого — в другую,
третьего — в третью, и все они не сходятся в самых
первоначальных воспитательных
принципах, если еще
считают нужным думать о них; а начальник смотрит
только за внешним порядком, под покровом которого
процветает самая пестрая воспитательная безурядица.
При таком положении общественного воспитания,
наши школы учили и развивали еще кое-как, но не
имели никакого влияния на образование характеров и
убеждений в молодых поколениях, предоставляя это
дело чистому случаю, и даже не сообщали своим вос-
питанникам тех навыков и умений, которые могли бы
398
им пригодиться в жизни. Такие школы давали еще
поверхностно развитых и кое-что знающих людей, но
не давали людей дельных, с правилами, с основами убеж-
дений, с зачатками характера, и нечему удивляться,
что, при таком положении дела, даже журналы наши
имели гораздо более влияния на воспитание молодых
поколений, чем наши школы.
Здесь не место говорить о том, как выйти из такого
печального положения, но если некоторые думают вый-
ти из
него таким легким средством, каково внешнее
заимствование тех или других учреждений из иностран-
ных школ, то это показывает только, как мало еще до
сих пор думали у нас о воспитании и его психических и
исторических основах даже те люди, которые считают
себя доками в этом отношении. Хорошо было бы, если бы
таким легким средством, каково повсеместное введение
в школы какого бы то ни было преподавания класси-
ческих языков, можно было дать нашим школам тот
прочный исторический
и воспитывающий характер,
какого им недостает. Но, к несчастью, это совершенно
не так — и преподавание каких бы то ни было предме-
тов не исправит зла. Все доводы наших классикофи-
лов основываются только на том, что заграничные
школы лучше воспитывают, чем наши, и что в боль-
шинстве заграничных школ преподаются классические
языки; но от классических ли языков происходит это
воспитательное преимущество заграничных школ,
этого они не разбирали.
Мы совершенно понимаем тех
заграничных педаго-
гов (и даже отчасти сочувствуем им), которые отстаи-
вают преподавание классических языков в своих шко-
лах. Этот консервативный элемент в педагогическом
мире совершенно понятен на Западе и находит себе
оправдание в том, на психологии основанном, правиле,
которое мы высказали выше, а именно: что в деле вос-
питания всякая старая укоренившаяся мера уже по-
тому имеет несомненное преимущество перед новою,
что она старая и укоренившаяся и обладает вследствие
того
воспитательной силой, которую новая должна
399
приобретать еще в продолжение долгого времени, так
что в педагогическом деле консерватизм, конечно, не
тупой и бессмысленный, более на месте, чем где-ни-
будь. Но разве мы будем консерваторами, вводя уси-
ленно в наши школы классический элемент? Понятно,
что на Западе, где не только вся жизнь выросла на
классической почве, но где и в настоящее время все
взрослое поколение образованного класса получило
традиционно от предков классическое
образование,
понятно, что там все педагоги-консерваторы, понимая
всю важность традиции в воспитательном деле, отстаи-
вают преподавание классических языков в школах;
но у нас это уже выходит не консерватизм, а нововве-
дение. Понятно, что на западе, где преподавание клас-
сических языков отлилось уже давно в определенную
школьную форму и где потому почти каждый человек,
получивший гимназическое и университетское обра-
зование, может быть сносным преподавателем этих
предметов,
многие осторожные педагоги отстаивают
эту давно укоренившуюся форму школьного воспита-
ния, но что же выйдет у нас, когда мы, желая разом
ввести классические языки в наибольшее число гимна-
зий, принуждены набирать учителей этих языков, где
попало и каких попало? Неужели трудно сообразить,
что из классов дурных учителей выйдут дурные уче-
ники, а из дурных учеников опять дурные учителя, и
что, действуя таким путем, мы не введем в наши школы
воспитывающей силы классических
языков, а только
убьем даром невозвратимое воспитательное время но-
вого поколения.
Наша русская школа не имеет истории и обза-
вестись историей, как какой-нибудь заграничной ма-
шинкой, невозможно, а потому волей или неволей, нам
приходится идти рациональным путем,— то-есть на
основаниях научных, на основаниях психологии, фи-
зиологии, философии, истории и педагогики, а глав-
ное — на прочном основании знания своих собствен-
ных потребностей, потребностей русской жизни,—
вырабатывать
для себя самостоятельно, не увлекаясь
400
подражаниями кому бы то ни было, ясное понятие о
том,— чем должна быть русская школа, какого чело-
века должна она воспитывать и каким потребностям
нашего общества удовлетворить и, где в числе этих
потребностей окажутся классические языки, там их и
вводить. Выработка этого убеждения в университетах,
педагогических собраниях и учительских семинариях,
распространение его в обществе, как этим путем, так и
путем педагогической литературы, образование
ясного
общественного мнения в этом отношении, так чтобы
общество знало, чего оно должно требовать от своих
школ, а школы знали, каким требованиям они должны
удовлетворить,— вот, по нашему мнению, единственное
средство прикрепить нашу школу к нашей русской
почве и дать им ту органическую жизнь, которой они в
настоящее время не имеют. Конечно, не близко то
время, когда общество наше будет в состоянии само
воспитывать свои молодые поколения, но всякие проч-
ные реформы, не
разрушающие только, а и созидающие,
совершаются медленно.
В заключение просим извинения у наших читате-
лей, что мы так долго задержали их на главах о при-
вычке, но это и не могло быть иначе: на способности
нашей нервной системы приобретать привычки, удер-
живать их и даже передавать их наследственно, осно-
вывается, главнейшим образом, возможность воспи-
тательной деятельности.
(«Педагогический сборник*, 1865 г., октябрь.)
237. (VII, 33). Привычки. Локк
Локк под
именем воспитания разумел почти един-
ственно «дисциплину души в хороших привычках»
(Locke, W., v. I, р. 23).
«Практика делает как тело, так и душу тем, что
они есть, и большая часть тех превосходств, в которых
видят природный дар, если взглянуть на них ближе,
окажутся произведениями упражнения и достигли
такой степени единственно повторением действий»
(Cond, of the Understand., p. 35).
401
«Никто еще ничего не сделал, только слушая пра-
вила и сохраняя их в памяти: практика должна дать
привычку поступать по правилам без размышления;
и как нельзя стать хорошим живописцем, читая тео-
рию живописи, так нельзя сделаться точным мысли-
телем, научив правила мышления» (ib., р. 37).
Ясно, что Локк под привычкой разумел какое-то
наламывание души, но это совершенно неверно.
Самые ошибки в мышлении он приписывает дурной
привычке
(ib., р. 39).
«Способности нашей души, говорит Локк, улучшают-
ся и делаются для нас полезными точно тем же спосо-
бом, как и способности нашего тела» (ib., р. 40).
Да; но только Локк не знал, как усиливается наше
тело — не упражнением, а содержанием; которое
дается ему упражнением.
III. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
К ОБЩЕПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЧАСТИ
1. О воспитании внешних чувств
238. (VII, 3). Внешние чувства. Упражнение чувств
внешних *
Об упражнении внешних чувств много
дельного
сказано у Руссо (Emile, р. 127—151).
Есть очень оригинальные мысли: Осязание заме-
няет зрение: не может ли оно заменять слуха; нельзя
ли осязанием различать различной вибрации тел? —
Едва ли (ib., р. 135).
Упражнение глазомера (ib., р. 138).
* Примечание на полях: «В главу об ощущении следует
взять многое из выписок из Патологии — в особой тетради».
(См. приложение №4, ркп., Ф. 316, № 19, л. л. 107 об. —
116 об., «Замечания патологические».— Ред.)
402
239. (VII, 4). Педагогическое приложение главы об
ощущениях. Наглядное обучение
Прочную мысль наглядного обучения положил еще
Руссо: другие только показали возможность ее выпол-
нения.
Вот в сжатых и ясных словах вся необходимость
наглядного обучения.
Comme tout ce qui entre dans l’entendement humain
y vient par les sens, la première raison de l’homme est
une raison sensitive *î c’est elle qui sert de base à
la raison intellectuelle
(истинное деление): nos premiers
maîtres de philosophie sont nos pieds, nos mains, nos
yeux. Substituer des livres à tout cela, ce n’est pas
nous apprendre, à nous servir de la raison d’autrui;
c’est nous apprendre à beaucoup croire et à ne jamais
rien savoir» (ib., p. 158).
2. О воспитании внимания
240. Значение внимания для воспитания и учения
Укажем главнейшие черты этого значения.
Внимание важно для педагога в трех отношениях:
1) как барометр, по которому он может
судить о разви-
тии и направлении воспитанника, 2) как ворота, через
которые только он получает доступ к душе воспитан-
ника, и 3) как материал для разработки.
1. Внимание как мерило разви-
тия и показатель направления души.
Мы не знаем никакого лучшего средства заглянуть в
душу другого человека, как наблюдение за проявле-
ниями его пассивного внимания. «У кого что болит,
тот о том и говорит» — русская пословица. Но есть
натуры, которые не любят высказывать своих болез-
ней,
и справедливо было бы сказать: «что кого зани-
мает, тот к тому и прислушивается». Попробуйте в
одном и том же обществе рассказать несколько историй
и замечайте, как, к чему именно и в чем выскажется
* Примечание на полях: «это еще положение Локка».
403
внимание ваших слушателей и слушательниц,—и вы
будете обладать средством глубоко заглянуть в их
души, какого не даст вам самый, повидимому, чисто-
сердечный рассказ человека. И характер, и господствую-
щие наклонности, и степень развития, и направление
этого развития, и современное настроение души,—
словом, вся природа, история и статистика души про-
глянут более во внимании, чем в чем-нибудь другом.
Нечего говорить о том, как важно для
воспитателя
познакомиться с душой воспитанника, а для этого нет
лучшего средства, как заметить, на что воспитанник
обращает большее внимание, чему представляется
много случаев и при ответах учеников, и при повторе-
нии рассказанного им, и в свободных беседах: в своих
вопросах ученик высказывает более, чем в своих
ответах.
2. Внимание как ворота для всего,
что входит в душу. Мимо внимания ничто не
проникает в душу человека — это факт. Следователь-
но, если воспитатель
хочет что бы то ни было провести
в душу воспитанника (а это единственный путь воспи-
тания), то должен быть в состоянии обратить его вни-
мание на желаемый предмет. Для этой цели наш ана-
лиз внимания указывает воспитателю несколько
средств:
а) Усиление впечатления. Усилить впечатление мы
можем прямо, например, возвышая голос, подчеркивая
слова, рисуя большую карту и яркими красками и
т. п.; не прямо, удаляя впечатления, которые могли бы
рассеивать внимание: тишина в классе,
отсутствие в
нем предметов, развлекающих внимание ученика.
б) Прямое требование внимания. Отдел средств,
прямо вызывающих внимание ученика, очень разно-
образен. Одно из лучших средств — частое обраще-
ние к учащимся. Для того, чтобы держать внимание
учеников постоянно направленным на предмет уче-
ния, полезно заставлять маленьких учеников совершать
по несколько действий по принятой команде. Так,
напр.,— встать, сесть, развернуть книги, свернуть и
404
т. п. Это дает ученикам привычку каждую минуту быть
внимательными к словам учителя. Весьма полезно для
классного наставника приобрести привычку сначала
говорить вопрос, а потом, несколько помедля, имя того,
кто должен отвечать на этот вопрос, чем весь класс
приготовляется к ответу. Поднимание рук кверху
всеми могущими отвечать на вопрос, заданный даже
кому-нибудь одному, принятое во всех западных
школах, также одно из хороших средств держать
вни-
мание учеников направленным на учение. Все могущие
отвечать на вопрос слегка подымают руки; учитель по
временам убеждается, что руки подняты не напрасно
(многие из этого рода мер подробно изложены в
наставлении для учителей при «Родном слове»). Если
в школе идет чтение, то каждая ошибка читающего
должна вызвать поднятие рук.— В первоначальных
учебниках должны быть упражнения внимания: не-
оконченные фразы, которые надобно кончать; вопросы,
на которые надобно ответить;
ошибки, которые надобно
исправить. Если один читает, то другие должны сле-
дить, и каждый должен быть в состоянии без запинки
начать там, где читающий остановился. Требование
повторения того, что сказал учитель, что сказал то-
варищ, также очень полезно.
В американских школах употребляется звонок
с очень острым звуком, который часто раздается, чтобы
привлекать внимание учеников. Мы не видали упот-
ребления их, но, может быть, они и полезны, если
только не звучат слишком
часто; удар по столу рукой,
как условный знак, также может быть допущен с поль-
зой.— Словом, все то, что требует прямого напряже-
ния произвольного внимания ученика и дает возмож-
ность учителю следить и узнавать немедленно, кто
внимателен и кто нет. Полезно — всякого, обнаружи-
вающего невнимание, отмечать черточкой и в конце
класса назначать какое-нибудь незначительное взыска-
ние за невнимательность и награду за постоянную
внимательность; но и то, и другое должно быть
очень
незначительно.
405
в) Меры против рассеянности. Кроме рассеянности
частной, когда тот или другой из учащихся отвлекает-
ся от ученья следами своих собственных мыслей или
какими-нибудь посторонними впечатлениями (напр.,
шопот), бывает еще общая рассеянность класса, сон-
ливое его состояние, общее понижение уровня психо-
физической жизни, по выражению Фехнера, состоя-
ние, предшествующее засыпанию. Причины такого
состояния бывают и физические и нравственные.
Причины
физические: слишком жаркая комната;
слишком малое количество кислорода в воздухе, что
часто бывает в тесных и редко проветриваемых клас-
сах; далее — неподвижность тела, переполнение же-
лудков, сильная усталость вообще г
Причины нравственные: монотонность и однробра-
зие звуков преподавания; рутинность наставника,
утомление от одних и тех же занятий и т. п. Наставник,
сам невнимательный к своему делу и действующий как
бы в полусне, по рутине, сам усыпляет внимание уче-
ников,
действуя на них так же, как действуют на
каждого капли воды, падающие одна за другою и издаю-
щие один и тот же звук с маленькими вариациями.
Чтобы не дать дремать классу, учитель сам не должен
дремать, проходя свой урок по легкой протоптанной
дороге раз принятой рутины. Это вовсе однако не
значит, чтобы не должно было быть раз принятого по-
рядка на уроке: он непременно должен быть; но на-
ставник сам должен внести разнообразие в этот поря-
док, не нарушая его. Для этого
каждый урок должен
быть для наставника задачей, которую он должен
выполнять, обдумывая это выполнение заранее: в каж-
дом уроке он должен чего-нибудь достигнуть, сделать
шаг дальше и заставить весь класс сделать этот шаг:
эта задача должна одушевлять его и поддерживать его
внимание.
Внимание самого наставника к своему делу — это
главное радикальное средство против общей сонливости
класса; но есть еще паллиативные меры, к которым
обыкновенно прибегают; а именно: классное
пение;
406
песня, пропетая посреди урока, оживляет класс, будит
его энергию; телесное движение, небольшая классная
гимнастика, особенно для небольших детей, и т. п. По-
трясение внимания — мера, которая не дает уснуть
человеку, как потрясение рукой.
г) Занимательность преподавания. Занимательность
эта может быть двоякого рода — внешняя и внутрен-
няя. Самый незанимательный урок можно сделать для
детей занимательным внешними средствами, не отно-
сящимися
к содержанию урока; урок делается зани-
мательным, как игра во внимание, как соперничество
в памяти, в находчивости и т. п. С маленькими учени-
ками это весьма полезные приемы; но этими внешними
мерами не должно ограничивать возбуждение внима-
ния.— Внутренняя занимательность преподавания
основана на том законе, что мы внимательны ко всему
тому, что 1) ново для нас, но не настолько ново, чтобы
быть совершенно незнакомым и потому непонятным;
новое должно дополнять, развивать
или противоречить
старому,— словом, быть интересным, благодаря чему
оно может войти в любую ассоциацию с тем, что уже
известно; 2) возбуждать и давать удовлетворение воз-
бужденному внутреннему чувству. Чем старше стано-
вится ученик, тем более внутренняя занимательность
должна вытеснять собой внешнюю.
3. Внимание как материал для вос-
питательной деятельности. Мы не ска-
жем ничего лишнего, если выразимся, что даже вся
главная цель воспитательной деятельности состоит
в
том, чтобы сделать воспитанника внимательным к серьез-
ным и нравственным интересам жизни. Сделан-
ный нами выше анализ формирования внимания в
человеке делает для наших читателей понятным это
выражение в его настоящем смысле. Все развитие че-
ловека умственное и нравственное выражается в на-
правлении его внимания. Возбудите в человеке искрен-
ний интерес ко всему полезному, высшему и нравствен-
ному,— и вы можете быть спокойны, что он сохранит
всегда человеческое достоинство.
В этом и должна
407
состоять цель воспитания и учения. Мы не будем рас-
пространяться здесь об этом, так как это заставило бы
нас повторить, что уже было разъяснено выше, и пре-
дупредить то, что следует еще сказать в главах о во-
ображении, рассудке и внутренних чувствах. Скажем
только, что если ваш воспитанник знает много, но ин-
тересуется пустыми интересами, если он ведет себя
отлично, но в нем не пробуждено живое внимание к
прекрасному и нравственному,
то вы не достигли
цели воспитания.
В заключение нам следует еще сказать об отноше-
нии произвольного внимания к непроизвольному.
Старинные педагогики развивали почти исключительно
первое; новейшая почти исключительно второе И та и
другая крайне вредны. Учение, все взятое принужде-
нием и силой воли; изучение букв, складов, обучение
чтению по непонятной книге, потом зубрение вокабул,
грамматических правил, длинных непонятных речей и
т. д,— это все были упражнения произвольного
вни-
мания и могли способствовать развитию сильных, но
едва ли нравственных характеров и развитых умов.
Совершенно противоположное действие должно будет
иметь изучение, стремившееся быть единственно инте-
ресным, учащее читать, играя; дающее детям сейчас же
занимательную шутку, боящееся всякого труда, облег-
чающее изучение, низводящее его до игры, самую
математику обращающее в занимательную игрушку.
Мало давать силы развитию ума, людей с увлекающими,
благородными характерами,
но без воли, без постоян-
ства в действиях, игрушки страстей,— словом, таких
людей, образчики которых мы беспрестанно встречаем
в новом поколении.
Истинный педагог и здесь, как и во всем, соблюдет
средину. Он потребует произвольного внимания и,
следовательно, усилий воли даже от маленьких детей,
но в этих требованиях не превысит их сил; он постарает-
ся сделать ученье занимательным, но никогда не лишит
его характера серьезного труда, требующего усилий
воли.
408
Употребляя произвольное внимание, педагог будет
иметь всегда в виду сделать его непроизвольным и
занятие тем или другим предметом из насильственного
превратить мало-помалу в занятие по склонности. Но
пока воспитанник еще воспитывается, никак не
должно дозволять ему предаваться только своей наклон-
ности, даже хотя бы наклонность эта была самая бла-
городная, и постоянно упражнять его произвольное
внимание. Вот почему нельзя освобождать
воспитан-
ника от занятия всеми предметами курса в силу того,
что он предался со страстью занятию одним или не-
сколькими, хотя, конечно, должно радоваться этой
склонности и поощрять ее. Но выше всего должно
ставить сильную свободную волю, которая одна может
поставить человека на стороне истины и в науке и в
жизни. Увлечение до страсти можно допустить только
в одном отношении и именно увлечение истиной вообще
и правдой вообще и свободой своей воли всегда и во
всем.— Само
собой разумеется, что развитие как про-
извольного, так и непроизвольного внимания должно
быть постепенным. От семилетнего мальчика нельзя
требовать и получасового внимания. Мы сами испытали
на себе, как это трудно. Развитие интереса тоже, ко-
нечно, может быть только постепенное.
Скажем еще несколько слов об образчиках упорной
рассеянности, которую нередко приходится встречать
между детьми. Причины ее бывают разнообразны»
Иногда причины эти бывают физические: известная
тайная
болезнь детей, сильно укоренившаяся, часто
проявляется в упорной рассеянности. В этом случае,
конечно, и лечение должно быть физическое. Весь ор-
ганизм впадает в какое-то трепетное состояние, и внима-
ние под влиянием раздражительных и в то же время
ослабевших нервов никогда не может установиться.
Часто рассеянность зависит оттого, что дитя не
привыкло быть внимательным от частой и быстрой
перемены впечатлений, которые его окружают. В таких
детях,, обыкновенно богатых семейств^
трудно возбу-
дить внимание незатейливыми интересами школы и
409
первоначального учения. Трудно, но возможно, если
веяться за дело с уменьем и вооружиться терпением,
пока внимание формируется понемногу, шаг за шагом.
Но прежде всего надобно изменить обстановку их
жизни, сделать ее проще, естественнее, избегать силь-
ных впечатлений и т. д.
Случается и то, что (рассеянность) бывает от какой—
нибудь детской страсти. Какая-нибудь игра, какое—
нибудь занятие, о котором наставник ничего не знает,
могут
так увлечь дитя, что оно будет невнимательным
ко всему остальному, что только не находится в связи
с увлекшим его интересом.
Случается и то, что начало ученья положено слабо,
поверхностно, так что оно не сильно зовет к себе новые
ассоциации.
Воспитатель во всяком случае узнает прежде всего
причину рассеянности и будет действовать прежде
всего на нее.
Поощряющие средства, как, напр., награды ва
внимание и взыскания за невнимательность, тоже до-
пускаются. Но надобно,
чтобы эти средства не были
слишком сильны, а то это только испортит дело. Отмет-
ки за невнимательность хорошее средство уже потому,
что дают самому дитяти средство заметить, как его
внимание относится к вниманию его товарищей и этого
одного иногда довольно, чтобы сделать дитя внима-
тельнее.
Учитель не должен забывать, что крик, брань,
угрозы, сильно неумеренные похвалы, насмешки и т. п.
нравственные пряности развлекают внимание вместо
того, чтобы сосредоточивать его,
и во всяком случае
дурно действуют на нравственность.
Причина лености большей частью скрывается в
невнимательности и, приучая ребенка к вниманию, мы
большей частью исправляем леность. Научить дитя
внимательно читать урок и делать задачу одна из
самых основных обязанностей учителя (подробности в
«Родном слове»).
(Ф. 316, № 18, «О внимании», № 92—102).
410
241. (VII, 5). Любознательность
Руссо говорит, что он разрешает вопросы своего
Эмиля тогда только, когда ему, воспитателю, угодно,
а не тогда, когда этого хочется воспитаннику, «иначе
это значило бы подчиниться воле воспитанника и по-
ставить себя в самую опасную зависимость от него»
(р. 90, Note 1).
242. (VII, 6). Воспитание внимания
Бенеке справедливо замечает, что очень вредно,
если учитель лично оскорбляется невниманием уче-
ника
и вследствие этого начинает осыпать его упреками,
трактовать как человека, неспособного к учению, ни
к чему высокому и т. д. Ученик чувствует, что это не-
справедливо, и раздражается против учителя, ученье
становится ему противным; он не учится из злости и
становится негодяем (Erz. und Unterr., I В., S. 217,
S 52).
3. О воспитании памяти
243. Педагогические приложения анализа памяти
Три способа заучивания по Канту. Школа схоластическая
и рассудочная. Сократический способ
преподавания. Отдель-
ные педагогические правила? здоровое состояние нервов; проч-
ность первоначальных ассоциации: два рода повторения — пов-
торение предупреждающее и пополняющее; возбуждение вни-
мания; влияние самоуверенности на память; большие и вообще
домашние уроки; постепенное развитие трех родов памяти;
переделки наук в учебники; настоятельность вопроса об отно-
сительной, пользе знаний; посредственно и непосредственно
полезные знания; педагогические правила, вытекающие
из
нравственного значения того, что мы помним.
Всего более пользуется педагогика силой памяти,
в так называемом, изучении наизусть, и потому способы
этого изучения уже давно обратили на себя внимание»
Кант разделяет их на три рода: на механическое,
искусственное и рассудочное. Это деление еще и теперь
приложимо к педагогике, а потому мы и рассмотрим
отдельно каждый из этих способов»
411
1. Механический способ изучения наизусть основан
на механической памяти (сущность которой мы объ-
яснили выше). Новая педагогика, в противополож-
ность прежней, схоластической, поставила уж слишком
низко механическую память и механическое заучи-
вание; однакоже такое заучивание все же остается мате-
риальной основой всякого ученья, как бы оно рассу-
дочно ни было, и оказывается исключительно воз-
можным там, где нельзя построить никакой
рассудоч-
ной ассоциации. Вспоминая собственное имя, год,
число жителей и т. п., мы не можем опираться на
рассудок, и запоминание основывается здесь чисто на
механической, рефлективной связи одной нервной
механической привычки с другою. Так, например,
заучивая первые иностранные слова, дитя инстинктивно
повторяет десятки раз вслух: стол — der Tisch, земля —
die Erde, отчего в голосовых и слуховых органах дитяти
образуется привычная ассоциация, в которой слуховой
орган
и голосовой взаимно поверяют друг друга. Так
же заучиваются нами большей частью члены новых
иностранных языков: der, die, das, le, la, les и т. п.
Тут уже рассудком ничего не возьмешь, а все приобре-
тается механизмом привычки; напротив, если в такое
припоминание замешается рассудок, то может только
испортить дело. Заучив, например, твердо и верно
употребление членов немецкого языка, мы употребляем
их кстати; но стоит только нам задаться вопросом:
действительно ли при таком
слове стоит der или das,
как придется прибегнуть к помощи лексикона.
Вот почему в детстве, когда рассудок не вступил
еще в полные права свои, а нервная система еще свежа
и впечатлительна, иностранные языки изучаются легче,
чем в зрелые годы. Точно так же механически заучи-
ваются нами и собственные имена. При заучивании
годов событий, рассудок может быть призван отчасти
на помощь механической памяти; но мы назовем ту
память хорошей, которая не нуждается в такой помощи
рассудка.
Так, например, если для того, чтобы вспо-
мнить год основания Петербурга, мы должны будем
412
перебрать в голове своей всю историю Петра и при-
помним, и то приблизительно, требуемый год, то это
уже плохая память и очень неудобная, потому что
замедляет и затрудняет нашу умственную деятель-
ность. Следовательно, сколько бы мы ни старались
внести рассудочный элемент во все ученье дитяти,
всегда останется много и очень много такого, что может
быть взято только механической памятью. Вот почему
ученье никак не должно пренебрегать этой
памятью,
хотя и не должно, с другой стороны, на ней одной только
основываться, как это часто было в старинных схола-
стических школах.
Механическая память часто противополагается рас-
судку, и действительно, нередко встречаются люди с
огромной механической памятью, и с рассудком, раз-
витым весьма слабо. Так Дробиш * приводит в пример
знакомого ему мальчика, почти совершенного идиота,
который, прочтя всего один pas довольно длинную
медицинскую Диссертацию на латинском
языке, со-
вершенно ему незнакомом, мог потом без ошибки по-
вторить ее от слова до слова, конечно, не понимая ни
одного. Бенеке ** даже прямо замечает, что необык-
новенная механическая память, переживающая отро-
ческий возраст, прямо указывает на слабость умствен-
ного развития. Оно и должно бы быть так, по психо-
логической системе Бенеке; но на деле выходит иначе.
Если встречаются идиоты с необыкновенною механи-
ческой памятью, то не надо забывать, что и большая
часть
великих людей отличалась замечательной меха-
нической памятью и сохраняла ее не только в* зрелом
возрасте, но и в глубокой старости. Из этого мы скорее
можем вывести, что сильная нервная система, легко
воспринимающая внешние впечатления, твердо удер-
живающая их следы и быстро воспроизводящая эти
следы к сознанию, есть одно из существенных условий
великого ума.
* Empirische Psychologie, S. 89.
** Erzieh, und Unterricht. Erst. B. S. 96.
413
2) Под именем искусственного заучиванья Кант
разумеет такие ассоциации следов, которые мы, не
надеясь на свою механическую память, связываем
искусственно. Так, например, желая затвердить, что
Карл Великий умер в 814 году, я замечаю, что цифра
8 похожа на песочные часы — эмблему смерти, 1 —на
копье, а 4 — на плуг, и запоминаю, что в этот год
умер человек великий на войне и в мире. Иногда такое
искусственное запоминание остается тем прочнее,
чем
нелепее сближение. Так например, желая запомнить
адрес г. Сырникова, живущего, положим, в Соколь-
никах, в Ельницкой улице, на даче Буркиной, я
представляю себе нелепую картину сокола, сидящего
на ели, в бурке, с сыром во рту. И это нелепое сближе-
ние, в котором мой зрительный орган принял сильное
участие, спасает от забвения необходимый для меня
адрес.
Употреблять такие уродливые сравнения, для об-
легчения детям акта запоминания, следует очень
осторожно, и г-жа
Неккер-де-Соссюр * совершенно
права, когда говорит: «Правда, что самая уродливость
этих образов навсегда запечатлевает их в памяти, но
именно этого-то и следует опасаться. Иногда эти урод-
ливые образы преследуют нас до старости, и от этого,
естественно, чистое выражение некоторых идей так
портится, что нельзя возвратить им их настоящего
цвета».
На этом искусственном запоминании основана так
называемая мнемоника, наука памяти. К мнемонике
прибегали еще в классической древности,
а потом в
особенности занимались ею арабы: были изобретены
мнемонические азбуки и разные хитрости, необходи-
мость которых в настоящее время значительно ослабела
выработкой обширных научных рассудочных систем.
Все эти мнемонические подставки памяти, которыми и
теперь пользоваться бывает не всегда бесполезно,
основаны на том психическом законе, что всякое от-
* L’ éducation progressive, 4 édition, t. II, p. 136.
414
дельное представление, оторванное от других, с трудом
укореняется в памяти и быстро из нее изглаживается;
мнемоника же показывает возможность связать это
отдельно стоящее представление с другим, искусствен-
но придуманным, и два представления, поддерживая
друг друга, укореняются в памяти прочнее, остаются
дольше и возобновляются легче. Особенно же мнемо-
ническое припоминание действительно, если посред-
ством его призывается к участию в
акте памяти зна-
чительный орган нервной системы. Так, например, в
первом случае, замечая год смерти Карла Великого,
я всматриваюсь в начертание цифр и представляю в
своем зрительном воображении песочные часы, копье и
плуг. Следовательно, лучшим мнемоническим правилом
будет то, которое мы высказали выше, а именно: при-
зывание к участию в акте памяти возможно большего
числа органов нервной системы. Конечно, лучше, если
это сближение будет совершенно естественное, как,
например,
между историческим событием и картой
местности, где совершалось это событие. Но где такого
естественного сближения установить нельзя, можно
прибегнуть и к искусственному. Так, например, при
изучении наизусть какого-нибудь отрывка, можно
заметить 5—6 главных характеристических слов, веду-
щих за собой другие, или при изучении каких-нибудь
грамматических исключений, основанных чисто на
употреблении, можно прибегать к известным грамма-
тическим виршам, как, например: «Toile:
me, mu, mis,
si cUclinare domus vis»*.
Стихи заучиваются нами легче прозы по тому же
мнемоническому закону. Каданс и рифма приходят на
помощь памяти образов и мыслей, голосовой орган,
начавший известный каданс, стремится его продолжать,
удовлетворяя тем гармонической потребности слухо-
вого органа; голосовой и слуховой органы сами оты-
скивают каданс и рифму, а рифма и каданс ведут за
собой слова и мысли. Заметим, между прочим, что
* «Откидывай: me, mu, mis, если хочешь
склонять domus».
415
каданс и рифма в стихах, независимо от удовлетво-
рения врожденной нам потребности гармонии, нравятся
нам именно потому, что дают сравнительно легкую
деятельность нашим органам памяти, для которых было
бы трудно переменять каданс и припоминать слова, не
вызываемые рифмою. Но зато нет ничего легче, как бес-
смысленно твердить стихи, и педагог должен забо-
титься, чтобы это бессмысленное твержение стихов не
перешло в привычку.
3) Рассудочное
изучение основывается на рассудоч-
ных ассоциациях (сущность которых мы объяснили
выше). Дробиш, желая выяснить различие между рас-
судочным и механическим изучением, берет известную
латинскую поговорку: «Tantum scimus, quantum memo-
ria tenemus» и изменяет ее так: «Quantum scimus,
tan tum memoria tenemus», т. e*— мы удерживаем в
памяти только то, что знаем. Конечно, это выражение
будет совершенно справедливо, если принять в расчет,
что в каждом акте запоминания,— как мы это
дока-
зали выше, участвует рассудок,— иначе различие этих
двух латинских поговорок непонятно. Правда, еще
Монтень сказал: Savoir par coeur n’est pas savoir, и
всякий сознает, что помнить не то же, что знать:
однакоже между этими двумя психическими явлениями
не так легко провести границу, как кажется с первого
разу, потому что во всем, что мы знаем, есть кое-что,
чего мы не понимаем и что, следовательно, внаем только
механически, и наоборот — во всем, что мы помним,
есть
что-нибудь, что мы сознаем. Для того даже, чтобы
выразить самую абстрактную логическую мысль, мы
прибегаем к механической привычке слов и, наоборот,
если мы запоминаем даже собственное имя, то запоми-
наем потому, что сознаем различие между звуками, его
составляющими: иначе мы не могли бы его запомнить.
Отличие же рассудочного изучения заключается только
в том, что здесь логические категории, выработанные
нами, как, например, о причине и следствии, о цели и
средстве, о целом
и частях, о покое и движении, о про-
странстве и времени и т. п. приходят на помощь меха-
416
нической памяти, делаясь напоминаниями, вызываю-
щими забытое. Нет сомнения, что такие рассудочные на-
поминания полезны потому, что облегчают акт памяти,
но еще более потому, что весь материал нашей памяти
приводится ими в такую форму, в которой он дает
плоды для нашего духовного, последовательного раз-
вития. Однакоже легко видеть, что много есть такого,
что нужно знать, и что не может быть переведено в
форму рассудочных ассоциаций и
рассудочного знания,
т. е. что можно только помнить и чего знать, в рассу-
дочном смысле этого слова, нельзя. Таковы не только
собственные имена, года и т. п., но даже все слова язы-
ка, на котором говорим, так как они состоят из произ-
вольных звуков, соединяемых с понятием механической
привычкой памяти, а не рассудком. Жалким бы суще-
ством был человек, если бы его развитие не пошло далее
механической памяти, но жалок был бы человек и
тогда, если бы он лишился вдруг этой
памяти: он не
только не мог бы говорить, но даже и понимать, что
говорят другие.
Из этого мы можем вывести, что рассудочная память
без механической совершенно невозможна и что рас-
судок приводит только в новые рассудочные ассоциа-
ции следы представлений, удерживаемые и воспроиз-
водимые механической памятью. Даже принимая не в
такой исключительности, мы не можем не назвать
большим недостатком слабость механической памяти в
человеке. Представьте себе, например, профессора
истории,
который бы беспрестанно забывал собственные
имена и годы и должен был бы прибегать то к тетрадке,
то к рассудку, и вы согласитесь, что это было бы не-
малым мучением и для него самого и для его слушателей.
На преобладании механического или рассудочного
изучения основывается главным образом противопо-
ложность старой схоластической школы и новой —
рассудочной. Бенеке справедливо замечает, что новая
школа стремится к тому, чтобы прежнее Auswendig-
lernen обратить в Inwendiglernen.
Это различие еще
выражают и так, что прежняя школа * изучала слова,
417
а новая — предметы, означаемые этими словами.
Конечно, дурно изучение слов без знания предметов,
но дурно и изучение предметов бее знания слов. Дурно,
если человек говорит слова, не сознавая ясно предмета,
но дурно также, если, сознавая предмет, он затрудняет-
ся в названии предмета: и те и другие явления встре-
чаются и показывают или недостаток природный, или
недостаток воспитания.
«Как только признали, говорит г-жа Неккер-де
Соссюр,
ничтожность ученья, основанного на одной
памяти, то и стали везде заменять, так называемое,
изучение слов изучением вещей, но не лучше ли было
бы не бросать одного для другого, так как одно тесно
связано с другим. Воспитаннику часто повторяли
обращать внимание только на смысл изучаемого, а не
на выражения, и видя, что воспитанник, отвечая
урок, понимает его смысл, оставались довольными, не
обращая внимания на употребляемые им выражения;
выражения же эти были, по большей части,
неопреде-
ленны и неточны, так как дети — плохие редакторы; но
от этого самое понимание оставалось темным или исче-
зало быстро, не будучи привязано к точным и опреде-
ленным словам». И несколько далее: «Достаточно сле-
дить за дебатами законодательного собрания, чтобы
понять чрезвычайную пользу ясности в воспоминаниях,
и точности в словах. Сколько раз люди, обладающие точ-
ным припоминанием имен и чисел, заставляют умолкать
оратора. А между тем, привычка обращать достаточное
внимание
на выражение не усваивается в жизни, если
воспитанник был вызываем обращать внимание только
на смысл, а не на слова»*.
У нас, к сожалению, очень часто, встречаются на-
ставники, которые не только довольствуются кое-как
отвеченным уроком или кое-как набросанной картой и
т. п., если видят, что ученик понимает в чем дело; но
даже самую эту поспешность и неаккуратность в пе-
редаче принимают часто за признак особой дарови-
* L’éducation progressive, 4 edit., p. 131 et 132.
418
тости ученика. И действительно, в этой поспешности
выражается иногда даровитость дитяти, особенная
быстрота и живость в комбинации следов впечатлений,
но эта же самая даровитость, не направленная во-
время, как следует, не приученная к труду точных вос-
поминаний и к труду воплощения в слово и дело своих
внутренних концепций, может развиться в одно из тех
явлений, которых ныне так много, и представит еще
один экземпляр непризнанного гения.
Это психическое
явление так часто у нас встречается, что мы обратим на
него особенное внимание в главе «о воображении»,
куда оно собственно по существу своему относится;
теперь же замечу мимоходом, что, посетив множество
заграничных школ, я вынес твердое убеждение в боль-
шой даровитости русских детей, особенно сравнительно
с маленькими немцами, и думаю, что у нас гораздо
более, чем в немецкой школе, нужно заботиться о том,
чтобы эта самая даровитость не выработалась в поверх-
ностное
понимание вещей; а дело выходит наоборот: у
нас-то менее всего заботятся об этом.
Рассудочная школа увлеклась в такую крайность,
что вызвала другую крайность, в которой также есть
свои ошибки. Так, например, Эрдман говорит по этому
поводу:
«В то же самое время, как ложная педагогика изго-
няла из мира повиновение, требуя, чтобы детям объ-
ясняли основания каждого приказания, полемизиро-
вали и против памяти. Вместо памяти, как выражались,
должно упражнять рассудок. Это
же давало много
умных детей, то-есть глупых, потому, что то, что умно
в старости, глупо в детстве» *.
И далее: «Изучение наизусть справедливо называют
механическим, потому что представления связываются
при этом механически, внешним образом! Справедливо
также называют такое учение недуховным (geistloses),
потому что, действительно, во время его дух может
* Psychologische Briefe, von Erdmann. Dritte Auflage.
S. 310-312.
419
заниматься чем-нибудь другим, но это, кажется,
оправдывает тех, осуждаемых мною, педагогов, ко-
торые вооружались против изучения напамять? Не-
ужели же должно заставлять человека работать
что-нибудь без участия духа? А почему же нет, если
эта работа такова, что не заслуживает того, чтобы дух
тратил на нее свое время. Что лучше,— то ли, чтобы
человек правильно кланялся, не думая, как ему дер;
жать руки и ноги, или, чтобы он думал об этом?
Что
лучше,— чтобы человек выучил наизусть табличку
умножения, или употреблял свой дух на ту работу,
которую удачно выполняет счетная машинка? Что
может быть исполняемо механически, то и должно быть
так исполняемо, для того, чтобы у человека осталось
достаточно времени для тех занятий, которые требуют
непременно участия его духа. Как многие из людей в
позднейшее время страдают от внутренней пустоты
именно потому, что они не учили наизусть в юности и
остались неспособными
к мышлению именно потому,
что их хотели сделать самостоятельными мыслителями,
в то время, когда они могли мыслить только вслед за
другими *. Детская голова не только выносит много
ученья (наизусть, конечно), но еще освежается от него;
только одно делает ее больною и, может быть, на всю
жизнь: и это именно несвоевременное вызывание само-
стоятельного мышления. Только повинуясь, выучи-
ваются повелевать, и только учась, приучаются думать».
Из всего сказанного мы можем вывести,
что обе эти
школы имеют и хорошие и дурные стороны и что как та,
так и другая в своей крайности и односторонности —
ложны. Если мы представим себе крайне схоластиче-
скую голову, в которой целые ворохи знаний улеглись
механическими рядами, не знающими о существовании
друг друга, так что противоположнейшие факты я
* Здесь непереводимая игра слов: «Wie mancher hat in späte-
rer Zeit an innerer Leere gelitten, weil er in der Jugend nicht aus-
wendig gelernt hatte; ist unfähig
zum Denken geblieben, weil mcjt
ihn zum Denken machen wollte zu einer Zeit, wo er blosser Nach»
denker sein sollte*
420
мысли самых противоречащих свойств, которые должны
бы были вступить в смертельную борьбу между
собою, если бы увидали друг друга, лежат мирно в
темноте такой головы; если мы представим себе такую
темную голову, сам хозяин которой ничего в ней не
видит, кроме той цепи затверженных мыслей и фактов,
на которую он набрел случайно, или которая вызвана
из него вопросом экзаминатора, то, конечно, будем
вправе сравнить ее с сундуком скряги, где
бесполезно,
и для него самого и для света, скрыты богатые сокро-
вища. Но точно так же, если мы представим себе
крайне рассудочную голову, которая, спеша от одной
рассудочной категории к другой, не заботится о при-
обретении положительных знаний, а какие приобре-
тает, то растеривает по дороге при быстром движении
все вперед да вперед, тем удобнейшем, что экипаж-то
очень уж не грузен, то будем вправе сравнить ее с
мотом, который сумел бы отлично распорядиться
деньгами,
если бы они у него были. Дельное же воспи-
тание должно брать средний путь: должно обогащать
человека знаниями и, в то же время, приучать его
пользоваться этими богатствами; а так как оно имеет
дело с человеком растущим и развивающимся, умствен-
ные потребности которого все расширяются и будут
расширяться, то должно не только удовлетворять
потребностям настоящей минуты, но и делать запас на
будущее время.
Мы уже видели выше, что деятельность рассудка
начинается вместе
с деятельностью сознания, с первыми
определенными ощущениями, а потому, конечно, при-
знаем, что ученье и вообще воспитание с первых же
шагов своих должно обращаться также и к рассудку, на-
сколько он самою природой подготовлен к ^деятельности.
Но так как чисто рассудочной деятельности сознания
предшествует в развитии человека деятельность, по
преимуществу усваивающая механическим путем, то
педагог должен пользоваться и этим указанием при-
роды. Он должен в отроческом возрасте
воспитанника
обращать преимущественное внимание на усвоение, не
421
забывая и рассудочных комбинаций усвоенного; на-
сколько это допускается современным развитием рас-
судка в воспитаннике, и насколько это не может повре-
дить механическому усвоению, развив преимущественно
рассудочные комбинации, когда еще нечего комбини-
ровать.
Лучшим способом перевода механических комбина-
ций в рассудочные мы считаем для всех возрастов, и в
особенности для детского, метод, употреблявшийся
Сократом и названный по
его имени сократическим.
Сократ не навязывал своих мыслей слушателям; но,
зная, какие противоречащие ряды мыслей и фактов
лежат друг подле друга в их слабо освещенных созна-
нием головах, вызывал вопросами эти противоречащие
ряды в светлый круг сознания и, таким образом, за-
ставлял их, сталкиваясь, или разрушать друг друга,
или примиряться в третьей, их соединяющей и уясняю-
щей мысли. При сократическом методе, собственно
говоря, не дается никаких новых рядов и групп пред-
ставлений,
но уже существующие ряды и группы при-
водятся в новую рассудочную систему. Наставник
своими вопросами только обращает внимание ученика
на сходство или различие тех представлений, которые
уже были в его голове, но никогда не сходились
вместе. Сократический метод, внеся вопросами свет в
темную голову, сводит мало-помалу в рассудочную
систему, ясную для сознания, все, что хранилось во
мраке этой головы, и, тем самым, отдает во власть ра-
зумного сознания материалы, случайно
и отрывочно
накопленные памятью. Из этого уже ясна сама собою
великая польза сократического метода при учении
детей. Если наставник хочет, чтобы дитя ясно поняло и
действительно усвоило какую-нибудь новую для него
мысль, то лучше всего достигает этого сократическим
способом. Вызывая из дитяти два или многие, уже су-
ществующие в его душе, представления, обращая его
внимание на противоречие или сходство этих пред-
ставлений, наставник открывает самому ученику воз-
можность
совершенно самостоятельно, или с необхо-
422
Димой помощью (чем меньше помощи, тем лучше), пре-
одолеть противоречия и вывести новую истину. Конеч-
но, приложение сократического метода не во всех нау-
ках одинаково возможно. Так, например, он более
приложим в науках математических или философских,
чем в истории. Каждая математическая или философ-
ская истина может быть выведена сократическим спосо-
бом, тогда как факты исторические, географические,
статистические должны быть непосредственно
со-
общаемы памяти ученика. Однакоже и в этих последних
науках, как только дело коснется оценки факта, по-
нимания его настоящего значения, так сократический
метод может и должен быть применяем. Конечно, дело
идет гораздо быстрее, когда учитель сам прямо выска-
зывает оценку факта или навязывает ученику свою, уже
готовую, мысль; но при этом всегда является опасность,
что ученик примет мысль учителя (не факты)
бессознательно, на веру, то-есть примет ее ложно,
примет за
факт, когда она только мысль. Таким обра-
зом, вместо того, чтобы в голове ученика две механи-
ческие ассоциации связались в третью — рассудоч-
ную, прибавится к ним еще новая, такая же механи-
ческая. Сократический способ преподавания имеет,
кроме других своих преимуществ, то еще хорошев
свойство, что удерживает самого наставника от преж-
девременного сообщения детям ины* рассудочных ком-
бинаций: дети поймут при сократическом способе в
этих комбинациях настолько, насколько
станет у них
действительной силы в данное время, т. е. станет их
Знаний и их ума. Но, если даже предположить, что
ученик поймет мысль, объясненную ему учителем, то
и в таком случае мысль эта никогда не уляжется в
голове его так прочно и сознательно, никогда не сде-
лается такою полною собственностью ученика, как
тогда, когда он сам ее выработает, только обратив
внимание на сходство или различие уже укоренивших-
ся в нем представлений *. Вот почему, например,
* «Должно
вести детей так, чтобы они сами делали наблюде-
ния и открытия. Должно как можно менее их учить, а как можно
423
прежде, чем излагать историю или теорию поэзии,
следует прочно укоренить в памяти учеников образ-
чики поэтических произведений того народа, об исто-
рии или поэзии которого мы хотим впоследствии го-
ворить. Вот почему также, прежде чем пускаться в
философскую историю, следует укоренить в детской
памяти исторические факты. Вот почему, наконец, те
наставники, которые прямо вносят свои развитые воз-
зрения в первоначальное преподавание тех
или иных
предметов, оставляют в голове детей смутное, почти
бесполезное, скоро улетучивающееся понятие об этих
предметах и приготовляют верхоглядов. Впрочем,
такие наставники и сами не всегда бывают виноваты;
потому что и сами они получили такое же поверхност-
ное воспитание, какое сообщают и своим питомцам.
Если такое верхоглядство раз заведется в школах, то
его очень трудно выжить, так как оно переходит от по-
коления к поколению. К сожалению, у нас это одна из
самых
глубоких и распространенных педагогических
болезней и напрасно думают ее искоренить переменой
предметов преподавания или введением классических
языков: сила тут не в предметах, а в людях, и мы ду-
маем, что Это ело выведется только тогда, когда на-
ставники будут получать полное и основательное педа-
гогическое приготовление, которое выяснит для них и
потребности детской природы и потребности дельного
воспитания. Только от такого коренного преобразо-
вания самих воспитателей,
основанного на знаниях и
убеждениях, а не на per ламентациях и побуждениях
какими-нибудь внешними приманками, можно ожидать
коренного преобразования в русском воспитании.
Хотя почти везде при изложении явлений памяти
мы показывали и на их приложение в педагогике; но
более направлять к тому, чтобы они сами делали открытия. Чело-
вечество только самоучкою делало прогресс (by selfinstrnction),
а что и для отдельного человека это тоже самый лучший путь,
то доказательством этому
служит множество замечательных лю-
дей, которые сами себя образовали» (Herbert Spencer, Education,
Lond., 1861, p. 77).
424
считаем здесь не лишним, по нашему обыкновению,;
изложить отрывочно несколько наиболее важных пра-
вил, применяющих психический анализ акта памяти к
практике воспитания и ученья.
1) Если педагог сознал вполне, что механическая
основа памяти коренится в нервной системе, то поймет
также вполне все значение здорового, нормального
состояния нервов для здорового, нормального состоя-
ния памяти. Он поймет тогда, почему, например, гим-
настика,
прогулки на свежем воздухе и вообще все, что
укрепляет нервы, предотвращая в них как вялое, так
и раздраженное состояние, имеют большее значение
для здоровья памяти, чем все возможные мнемониче-
ческие подставки;
2) Припоминая, что первые возможные следы, из
которых слагаются потом всевозможные ассоциации,
потому только не издерживаются в этих ассоциациях,
что беспрестанно подновляются впечатлениями внеш-
него мира, воспитатель поймет, почему жизнь в четы-
рех стенах,
лишенная свежих впечатлений природы,
постоянное сиденье ва книгой действует отупляющим
образом на способность памяти-.
3) Сознавая всю важность первых ассоциаций сле-
дов, составляющих, так сказать, фундамент памяти,
на котором она строится, привязывая новые звенья к
прежним,— воспитатель позаботится, чтобы вообще
при начале ученья и при начале изучения каждого
предмета в особенности, заложены были самые прочные
й самым прочным образом сознанные ассоциации.
На этой необходимости
основывается великое значе-
ние наглядного обучения вообще и наглядности в
первоначальном обучении каждому предмету. Пони-
мая всю важность прочности этих первых ассоциаций,
воспитатель будет возвращаться к ним при каждом
удобном случае, и не для того только, чтобы испы-
тывать, прочен ли фундамент, но для того, чтобы по-
вторением делать его все прочнее и прочнее, так как,
по мере ученья, он выдерживает все большую и боль-
шую тяжесть.
425
4) Воспитатель, понимающий природу памяти,
будет беспрестанно прибегать к повторениям не для
того, чтобы починить развалившееся, но для того,
чтобы укрепить здание и вывести на нем новый этаж.
Понимая, что всякий след памяти есть не только
след протекшего ощущения, но в то же время, и сила
для приобретения нового, воспитатель будет беспре-
станно заботиться о сохранении этих сил, так как в них
лежит залог для приобретения новых сведений.
Вся-
кий шаг вперед должен опираться на повторение преж-
него.
5) Повторение может быть двух родов, из которых
одно мы назовем активным, а другое пассивным.
Пассивное повторение состоит в том, что ученик вновь
воспринимает то, что воспринимал уже прежде; видит
то, что уже видел, слышит то, что уже слышал, причем,
как мы показали выше, следы ощущений углубляются.
Активное повторение состоит в том, что ученик само-
стоятельно, не воспринимая впечатлений из внешнего
мира,
воспроизводит в самом себе следы воспринятых
им прежде представлений. Это активное повторение
гораздо действительнее пассивного, и способные дети
инстинктивно предпочитают его первому: прочитав
урок, они закрывают книгу и стараются проговорить
его напамять. Большая сила активного повторения,
сравнительно с пассивным, заключается в сосредото-
ченности внимания. Можно прочесть десять раз стра-
ницу без внимания и не помнить; но нельзя ни разу
проговорить этой страницы, не сосредоточив
внимания
на том, что говоришь, если не на самой связи содер-
жания, то на связи слов, строчек, букв. Можно ис-
править иногда в ребенке замечательную неспособ-
ность к ученью, приучив его к активному повторению
урока, если он сам еще не открыл его пользы своим
маленьким опытом. Активное повторение не только
так же, но гораздо сильнее усиливает следы, чем пас-
сивное восприятие; но этого мало: активное повторе-
ние, или другими словами, воплощение опять во внеш-
ние формы
содержания того, что мы восприняли из
426
внешних форм, дает учащемуся необходимый навык
такого воплощения. Отвечая вслух и с величайшею
точностью свой выученный урок, выражая изустно или
письменно воспринятую мысль, рисуя напамять изу-
ченную карту и тому подобное, учащийся приобретает
навык воплощать в слово и отчасти в дело свой внут-
ренний мир.
6) Чем менее возраст учащегося, тем чаще следует
прибегать к повторениям, потому что первые следы
науки укореняются гораздо труднее
последующих.
«Начатки знаний, сообщаемых детям, говорит Неккер
де-Соссюр, очень легко исчезают, потому что ни к чему
не прикрепляются в их пустых головках, и очень часто
чудеса памяти сменяются в детях чудесами забвения» *.
На этом основывается также правило, чтоб не начинать
учить детей преждевременно таким наукам, которых
потом нельзя с ними дельно продолжать. В беспорядоч-
ном семейном воспитании очень часто случается, что
дети, по чьей-нибудь прихоти, слишком рано начинают
чему-нибудь
учиться: географии, истории, ботанике и
т. п.; а потом, так как серьезное изучение этих наук
-еще невозможно, то приобретенные знания, ни к чему
не приложенные, исчезают быстро, что вообще вредно
действует на память и на характер дитяти.
7) Как дети не любят повторять того, что позабыли,
так любят передавать то, что свежо сохранилось в их
памяти. Этим указанием природы должен пользоваться
педагог и употреблять повторение как предотвращение
забвения. Дети с удовольствием высказывают
то, что
знают; но, конечно, всему есть предел, и повторение,
как справедливо замечает Бенеке**, не должно итти
до того, чтобы надоесть детям и возбудить в них чув-
ство неудовольствия, которое, составив с представле-
нием новую ассоциацию, может повести совсем не к
той цели, к какой стремился педагог.
* L’éducation progressive, t. II, p. 139.
** Erziehung’s-und Unterrichtslehre, von Benecke, I. В., S. 97.
427

непременно в том же порядке, в каком оно было вы-
учено, а напротив, гораздо еще полезнее, по замечанию
Керри *, повторения случайные, вводящие выученное
в новые комбинации, то-есть, другими словами: тем,
что выучено, должно беспрестанно пользоваться, чтобы
приучать и дитя пользоваться теми богатствами, ко-
торые приобрела его память. Лучшие из дидактов,
каких мне удавалось слышать в заграничных
школах,
кажется, только и делают, что повторяют, но между
тем быстро идут вперед. Это объясняется тем, что при
каждом повторении наставник вплетает какое-нибудь
новое звено в установившуюся уже в детских головах
сеть следов: или объясняет, что с намерением не было
объяснено прежде, или добавляет какие-нибудь по-
дробности, которых с намерением не сказал прежде,
зная по опыту, что две-три лишние подробности, когда
еще не укоренилось главное, могут подкопать все
здание,
и подробности и главное, и что те же самые под-
робности и объяснения, передаваемые после того, как
главное укоренилось, воспринимаются чрезвычайно
легко и укореняются прочно. Особенно такое дидакти-
ческое искусство заметил я при передаче детям библей-
ских рассказов, а также географии и истории. Кажется,
например, что дитя читает, то-есть рассказывает все
одну и ту же географическую карту, а между тем каж-
дый рассказ является все полнее и совершеннее. Конеч-
но, это искусство
приобретается только навыком; но
педагог должен знать психическую основу, на которой
побоится полная необходимость такого искусства.
9) Наставник должен, как можно чаще, застав-
лять учеников воплощать их идеи и мысли в следы
памяти, и тем самым приучать воспитанников к вопло-
щению своего внутреннего мира в слово и дело. Об
этом, впрочем, мы будем говорить подробнее в главе
«о воображении».
* The Principles of Education, by S. Currie. Edinb. 1862,
p. 108.
428
10) Зная, что забвение есть отчасти дурная привыч-
ка, происходящая от непрочного усвоения многочис-
ленных следов комбинаций, которые, исчезая из памяти
сами, увлекают за собою и те элементы, из которых они
были составлены, воспитатель должен предупреждать
такое поверхностное усвоение. Вот почему, например,
лучше давать детям читать немногое, но с отчетом в
прочитанном, чем многое без всякого отчета. При вы-
боре чтения воспитатель должен
соображать, чтобы
содержание книги каким-нибудь образом могло при-
вязаться к тем следам, которые уже есть в голове вос-
питанника. Чтение разнохарактерное, беспорядочное,
без повторений и выводов, кладет в молодую голову
множество плохо связанных, слабых рядов, которые не
только сами перепутываются и уничтожаются, но и
ослабляют силу прежних, твердо положенных ассо-
циаций. Едва ли я ошибусь, если скажу, что ни в одной
стране мира образованный класс, и в особенности дети
и
юноши обоего пола, не читают так много и беспоря-
дочно, как у нас в России. Если книг у нас расходится
сравнительно немного с Германией или Америкой, то
только потому, что образованный класс у нас не велик.
У нас не редкость встретить двенадцатилетнюю де-
вочку, которой уже не знаешь, что дать читать, не
только на русском, но и на иностранных языках, со-
образное с ее возрастом: так усердно снабжал ее кни-
гами какой-нибудь столь же юный и незрелый просве-
титель человечества.
Но что же выходит из такого
чтения? Смутный и призрачный хаос понятий и пред-
ставлений, всезнание, соединенное с полнейшим неве-
жеством, уничтожение любознательности, сильное
ослабление памяти и пустое, но раздутое самодоволь-
ство. Жалко смотреть на такое бедное создание, напо-
минающее собою цветок, развернутый руками, вялый
и неспособный к свежей, сильной жизни.
11) Зная, что напряженность внимания есть необ-
ходимое условие прочного и верного восприятия па-
мятью,
воспитатель должен приучать воспитанника все
к сильнейшему и продолжительнейшему сосредоточе-
429
нию внимания. Этот же последний акт, как мы яснее
увидим ниже, зависит или от силы воли воспитанника
и от власти, приобретенной им над своим нервным
организмом, или от интереса, возбуждаемого самым
предметом усвоения. На основании этого мы и самое
внимание разделяем на активное и пассивное *. Легче
для воспитанника возбуждается внимание пассивное,
и потому Бенеке **, весьма справедливо, советует
говорить детям преимущественно о том, к чему,
судя
по предварительному приготовлению, в них можно
возбудить живой интерес; а там, где возбудить внима-
ние интересом предмета невозможно,— возбуждать его
посторонним каким-нибудь интересом: например, стрем-
лением выполнить желание воспитателя и т. п. Мы же
думаем, что лучше всего приучить дитя прямо к выпол-
нению его учебных обязанностей, каковы бы они ни
были; но облегчать ему эти обязанности там, где можно,
интересом предмета. Воспитатель не должен забывать,
что
ученье, лишенное всякого интереса, и взятое только
силою принуждения, хотя бы она почерпалась из луч-
шего источника — из любви к воспитателю,— убивает
в ученике охоту к учению, без которой он далеко не
уйдет; а ученье, основанное только на интересе, не
дает возможности окрепнуть самообладанию и воле уче-
ника, так как не все в учении интересно и придет мно-
гое, что надобно будет веять силою воли. Гегель также
сильно осуждал обращение детского ученья в игру, и,
конечно, такое
играющее ученье расслабляет ребенка,
вместо того, чтобы укреплять его.
12) Упорное припоминание есть труд, и труд иногда
не легкий, к которому должно приучать дитя понемногу,
так как причиной забывчивости часто бывает леность
вспомнить забытое, а от этого укореняется дурная при-
вычка небрежного обращения с следами наших воспо-
минаний. Вот почему учителя нетерпеливые, подска-
* См. также «об активном и пассивном внимании» в учитель-
ской кн. «Родн. слово».
** Erziehung’s
und Unterrichtslehre, В. I., S. 97. См. также
Lehrbuch der Erz. und Unterr., von Curtmann, 1856, I. B, 8. 388.
430
зывающие ребенку, как только он запнется, портят
память дитяти.
13) Так как усвоение памятью требует сосредото-
ченности внимания, то все, что рассеивает дитя, мешает
усвоению и воспоминанию усвоенного; а потому, если
учитель, как справедливо замечает Бэн *, пугает ре-
бенка для того, чтобы заставить его что-нибудь вспо-
мнить, то сам же мешает акту воспоминания. Бывают
такие нервные дети, что, под влиянием учительского
крика, они забывают
и то, чего, казалось, невозможно
было забыть.
14) С этим правилом связывается также и другое,
что должно, по возможности, избегать всего, что бы
могло внушить ученику неуверенность в его памяти;
потому что эта неуверенность, соединяющаяся часто о
общей нерешительностью характера, нередко произ-
водит в детях настоящее беспамятство. Вот почему,
соглашаясь вполне с Куртманом**, когда он говорит,
что дети не должны заучивать ничего ложного и непра-
вильного и что частым повторением
должно исправлять
эти вкравшиеся неправильности в заучивании, мы
совершенно не согласны с ним, когда он советует посе-
лять в детях недоверие к своей памяти. Если слова:
«мне кажется, я думаю», и проч.,— которые, по мнению
Куртмана, ученик должен прибавлять ко всему, что
утверждает,— только пустая форма, то они ни к чему
не ведут; если же они действительно показывают не-
уверенность ученика в верности своей памяти, то такая
неуверенность очень вредна, потому что память выдает
свои
сокровища только тогда, когда сознание подходит
к ней не колеблясь, смело и решительно. Можно уче-
ника, одаренного самой счастливой памятью, испортить
именно постоянным недоверием к его памяти, беспре-
станным указанием ее ошибок и преувеличенным зна-
чением этих ошибок.
* The Senses and the Intellect. Second Edition, London, 1864,
p. 339.
** Lehrb. der Erzieh., von Gurtmann. В. I, S. 382.
431
15) Сюда же относится и то правило, чтобы не за-
давать детям уроков, которые им не по силам, потому
что такие уроки, которых дитя одолеть не может,
надрывают память, точно так же, как чрезмерные
телесные усилия могут надорвать телесный организм.
Если дитя не могло несколько pas выучить своего урока,
несмотря на искренние свои усилия, то у него зарож-
дается неуверенность в своих силах, а эта неуверен-
ность имеет чрезвычайно ослабляющее
влияние на
память. Кроме того, видя перед собою большой урок,
дитя тревожится, беспокоится, иногда плачет, а эта
все такие душевные акты, которые не дают сосредото-
читься вниманию, необходимому для усвоения урока.
Кроме того, многие дети не выучивают своих уроков
именно потому, что не умеют взяться за дело: не знают
субъективных свойств памяти и объективных свойств
урока, чего нельзя от них и требовать, а потому лучшие
педагоги решительно вооружаются против задавания
уроков
на дом детям младшего возраста и требуют,
чтобы школа или наставник выучили детей сначала
учиться, а потом уже поручили это дело им самим. От
несоблюдения этого правила чрезвычайно много стра-
дают наши русские дети, и бессмысленной задаче до-
машних уроков в первых трех классах наших гимназий
мы приписываем то дикое явление, что младшие классы
у нас переполнены учениками, а в старших стоят почти
пустые скамейки. Хорошо еще, если у маленького
ученика есть дома кто-нибудь,
кто может помочь ему
выучить урок; но если нет никого, то положение нашего
маленького гимназиста бывает иногда совершенно без-
выходное: сначала дитя плачет, мучится, тоскует, потом
становится понемногу равнодушнее к своим неуспехам
и, наконец, впадает в апатию и безвыходную лень.
Если бы наставники употребляли свои пять часов еже-
дневных занятий как следует и действительно заставляли
работать детей в классе, то детям оставалось бы разве
только повторить дома выученное в
школе. Но на деле,
большей частью, бывает не так. Учителя сваливают на
детей всю тяжесть ученья, не подумав о том, чтобы
432
выучить их учиться; сами же, или занимаются легким
спрашиваньем уроков, выученных дома, что даже можно
делать в полусонном состоянии, или, если они ярые
прогрессисты, развитием детей, не имеющим никакого
отношения к урокам, попросту же — болтовней, а
уроки и экзамены все-таки падают всей своей тяжестью
на маленького ученика. Конечно, есть и такие препо-
даватели, которые развивают детей именно ученьем
уроков в классе, но, к несчастью, таких
преподавателей
у нас немного, по причине совершенного отсутствия
педагогического их подготовления. К утешению нашему,
мы можем сказать’, что и в Германии еще немало школ,
где учителя и в младших классах занимаются почти
только спрашиваньем уроков, выученных дома, пре-
вращая таким образом каждый урок в какой-то глупый
экзамен.
16) Сообразно последовательному развитию сна-
чала механической памяти, потом рассудочной и,
наконец, духовной, и ученье должно давать сначала
преимущественно
(не исключительно), пищу для пер-
вой, потом для второй и, наконец, для третьей. Конечно,
предполагается само собою, что воспитатель принимает
человека за цельный организм и, обогащая механиче-
скую память следами ассоциаций, в то же время упраж-
няет рассудок над этими ассоциациями и подготовляет
материал для будущего развития дитяти. Точно так же,
развивая рассудок воспитанника, воспитатель, с одной
стороны, свяжет это развитие со следами механической
памяти, не переставая
ее обогащать, а с другой сто-
роны, — направит рассудочные комбинации к поро-
ждению идей, двигающих вперед духовное развитие
юноши. В юности идея должна сделаться главной ду-
ховной пищей человека: она должна возбуждать и
рассудочные комбинации и формы их выражения в меха-
нической памяти. Для такого развития юность, всегда
уже по природе идеальная, даст и силу и плодородную
почву. Окончание юности и учебного периода должно
быть отмечено специальным направлением, составляю-
щим
переход к практической жизни зрелого возраста.
433
Нарушение этих законов последовательного развития
человеческой природы ведет за собой печальные послед-
ствия. Пренебрежение обогащения механической па-
мяти в годы отрочества дает пустых резонеров и отни-
мает возможность всякого плодотворного развития.
Пренебрежение развитием рассудочной памяти, если
оно делается в пользу развития механической, дает
мертвых схоластов; если же оно делается в пользу
идеального развития, дает нам столь же
бесплодных
фантазеров; пренебрежение дельного идеального раз-
вития в юношеском возрасте в пользу специального
направления дает или узких эгоистов, людей сухих,
рутинеров, или, смотря по натуре, опять же фантазе-
ров, идеальная сторона которых, не получив должного
воспитания, увлекает их в безобразные, ни на чем
не основанные, полудикие фантазии.
В нашей русской жизни мы, к сожалению, беспре-
станно натыкаемся на образчики всех этих упущений в
воспитании: на произведения
схоластической школы
с головами, набитыми всяким, ни к чему негодным,
хламом, с которым сами владельцы этих голов не знают,
что делать; на детей, резонирующих без всяких поло-
жительных знаний; на юношей, общее идеальное воспи-
тание которых было до того пренебрежено, что самая
нелепая книжонка или журнальная статья — может
увлечь юношескую энергию их души в дикую край-
ность, и, наконец, на у эких, специалистов, рутинеров в
восемнадцать лет, на школьной скамейке уже рассчи-
тывающих
места и доходы. Наши духовные училища о
курсами 16-го столетия, выучивающие своих воспитан-
ников по-еврейски и по-гречески, и часто не выучи-
вающие говорить их по-человечески; наши гимназии,
читающие университетские лекции десятилетним маль-
чикам; наши бывшие корпуса, воспитывавшие десяти-
летних моряков и артиллеристов; наши университеты,
из которых выбросили и психологию, и философию и в
которых думали равными специальными предметами
(камералистикой, например, сводом
законов и т. п.)
вычеркнуть из жизни человека период идеальной
434
юности; — все эти заведения наперерыв старались
подарить русскую жизнь теми образчиками человече-
ских личностей, которые мы описали выше. Ни от чего,
быть может, русское воспитание не страдало столько,
как от непоследовательности и диких противоречий его
с законами развития человеческой природы.
17) Из тех же законов постепенного развития чело-
веческой природы вытекает необходимость педагоги-
ческих применений в науках. Понятно само собою,
что
наука, в своем систематическом изложении, неодина-
ково удобна для изучения человеком во все возрасты
его жизни и что не только науки различаются в этом
отношении, но что и во всякой науке есть многое, что
должно быть взято механической памятью, другое —
рассудочной, а третье — духовной. В прежнее время
вносили в школу полную систему науки, и потому
часто то, что может быть понято только развитым рас-
судком, вступившим уже в полные права свои, усваи-
валось механически
и, наоборот, юношу, уже разви-
того самой природой, заставляли зубрить бессмыслен-
нейшим образом. Теперь уже сознано почти всеми, что
научное и педагогическое изложение науки две вещи
разные, и педагоги всех стран деятельно трудятся над
переработкой научных систем в педагогические. H о хотя
началом такой переработки мы можем считать уже
«Orbis Pi et us» Комениуса, появившееся в половине
17-го столетия, однакоже многое еще остается сделать.
Над этой переработкой наук в учебники
отразилась и
вся история педагогических систем и педагогических
заблуждений. Так, например, рассудочная школа,
увлеченная в крайность противоборством с схоласти-
ческой, внесла глубокие и обширные идеи в учебники
первого детства, перепортив, конечно, эти идеи и пере-
шагнув и механическую память и развитие рассудка,
или заботясь исключительно о развитии рассудочных
ассоциаций, тщательно выкидывала все фактическое,
избегая имен и чисел и забывая, что период отрочества
есть
период силы механической памяти, оставляла
435
юности ту работу, которая для нее несносна, а была
легка для отрока.
Несмотря на бессчисленное множество учебников
всякого рода, особенно в Германии, лучшие швейцар-
ские и германские педагоги большей частью и теперь
крайне недовольны учебниками и находят необходимым
то сокращать их, то дополнять, то изменять, то вовсе
заменять записками. Сообразив же, что хороший
учебник и в Германии доставляет очень хороший доход
своему составителю,
можно заключить из этого, что
педагогическая переработка науки — дело очень и
очень нелегкое. Однакоже хорошо уже и то, что самая
идея этой переработки беспрестанно развивается.
18) Многие говорят, что память современного чело-
века значительно ослабела сравнительно с памятью
людей древнего мира, когда в изустном предании со-
хранялись такие произведения, каковы Илиада и Одис-
сея Гомера. Но это едва ли справедливо. Если мы срав-
ним познания посредственно образованного человека
нынешнего
времени с познаниями древнего грека, то
увидим, напротив, как вообще расширились и раз-
множились познания людей, как распространились они
в массе народа и как много должна выдерживать па-
мять современного человека сравнительно с памятью
древнего.
Много помним мы, но, пересматривая науки, уви-
дим, какое множество есть необходимых сведений,
которые, являясь теперь достоянием одних специали-
стов, не приносят далеко той пользы, какую могли бы
принести, если бы были достоянием
всякого образован-
ного человека, и не избавляют человечество от тех бес-
численных вол, от которых могли бы избавить, если бы
перешли в общее сознание людей.
Соображая, таким образом, громадное число необ-
ходимых для человека сведений, открытых доселе нау-
кой, и принимая в расчет краткость того периода чело-
веческой жизни, который может быть посвящен
436
ученью *, невольно нападешь на мысль, что давно пора
серьезно подумать о том, чтобы оставить в наших
школах и наших учебниках только то, что действительно
необходимо и полезно для человека, и выбросить все,
что держится только по рутине и учится для того, чтобы
быть впоследствии позабытым, а между тем отнимает
много часов из короткого драгоценного периода жизни
и заграждает память, также имеющую свои пределы.
О пользе знания тех или других
наук писалось много;
но пора бы уже подвергнуть генеральному смотру все
науки и все сведения, в них полагаемые, в педагоги-
ческом отношении такому же, какому подвергнул их
когда-то Бэкон в философском. Эта работа так громад-
на, требует такого полного знания и науки и жизни,
что, конечно, ожидает гениального работника. До сих
же пор педагогика больше думает о том, как учить
тому, чему обыкновенно учат, чем о том, для чего что—
нибудь учится. В этом отношении сделано так
мало,
что мы с удовольствием указываем нашим читателям
на статью английского ученого и замечательного мы-
слителя, Спенсера, под заглавием: «Какие из знаний
нужнее» (What knowledge is of most wonth**). В этой
статье, имеющей, впрочем, одностороннее назначение,—
доказана необходимость введения опытных наук в
число предметов общего образования.— Спенсер по-
казывает с полной очевидностью, что при выборе пред-
метов ученья везде еще следуют слепой рутине, ничем
неоправдываемым
преданиям и обычаям и даже глупей-
шей моде (последнее особенно в женском воспитании).
Мы валим в детскую голову всякий, ни к чему негод-
ный хлам, с которым потом человек не знает, что де-
лать, тогда как, в то же самое время, самые об раз о-
* У людей среднего состояния период этот очень недолог,
а еще короче у тех, кто с 12-ти или 13-ти лет уже вынужден снис-
кивать себе кусок хлеба.
** Помещена сначала в июльской книжке Westminster Review
за 1859 г., а теперь в особое
издание, которому автор напрасно
придал слишком обширное заглавие: Education intellectual, mo-
ral and physical, by Herb. Spencer. Lond., 1861.
437
ванные люди не знают того, что необходимо было бы
им знать, и за незнание чего они часто расплачиваются
дорогой ценой. «Человек,— говорит Спенсер,— оде-
вает ум своих детей, как одевает их тело, по господ-
ствующей моде, и в этом случае делает то же, что ди-
карь, который прежде заботится об украшении, чем о
необходимом, и, убирая голову перьями или испещряя
тело татуировкой, не умеет прикрыться от холода и
палящих лучей солнца. Мы также
учим детей своих
по-гречески и по-латыни не потому, чтобы это было
им действительно нужно, а потому, чтобы дать им
джентльменское воспитание и приложить к ним печать
известного социального положения».
«Принимая в расчет, говорит Спенсер далее, как
немного отмежевано нам времени для ученья, не только
краткостью нашей жизни, но еще более ее заботами, мы
должны с особенным вниманием стараться, чтобы
употребить это время на то, что принесет нам наиболь-
шую пользу, и строго
рассчитывать, чтобы было пра-
вильное отношение между временем и трудом, употреб-
ленным на приобретение какого-нибудь знания, и
пользою, которая проистекает для нас от такого при-
обретения. Конечно, полезно, например, знать рас-
стояние одного города от другого, но время, которое
мы должны были бы употребить на изучение расстоя-
ний всех городов друг от друга, далеко не соответство-
вало бы.пользе, приобретаемой случайно от такого
знания».
Далее Спенсер показывает с
большой ясностью, как
много бедствий переносит человек именно оттого, что
незнаком с устройством своего тела и самыми первыми
условиями своего здоровья. «В этом отношении, говорит
он, предрассудок так укоренился, что образованный
человек, который сочтет за личное себе оскорбление,
если его заподозрят в незнании какого-нибудь грече-
ского полубога, вовсе не стыдится признаться в незна-
нии того, какое число ударов составляет нормальный
пульс человека и как надуваются легкие.
Родители,
заботясь о том, чтобы их дети знали хорошо все пред-
438
рассудки, существовавшие за 2000 лет, даже поло-
жительно не хотят, чтобы их познакомили с устройством
и отправлениями человеческого тела: таким подав-
ляющим образом действует влияние установившейся
рутины и так властвуют в нашем воспитании вещи
украшающие — над полезными».
Указывая на необходимость, чтобы каждому чело-
веку, который будет современем родителем, и, следо-
вательно, воспитателем своих детей, сообщались
здоровые понятия
о воспитании, Спенсер говорит:
«Если по стечению каких-нибудь странных обстоя-
тельств от нас останутся и дойдут до наших отдаленных
потомков только наши учебники или несколько экза-
менаторских листов наших коллегий, то мы воображаем,
как удивится антикварий, не найдя в них ни малей-
шего признака каких-либо знаний, приготовляющих
человека к воспитанию детей. «Это, должно быть,
скажет он, программы учения какого-нибудь монаше-
ского ордена: я вижу здесь прилежное приготовление
для
многих вещей, особенно для чтения книг исчез-
нувших наций и чужих современно существующих
народностей (из чего я могу заключить, что на языке
этого народа было мало написано книг, достойных
чтения); но я не нахожу ничего, что бы относилось к
воспитанию детей. Без сомнения, они не были так
безумны, чтобы пропустить всякое приготовление к
исполнению такой важной обязанности,— и потому я
заключаю, что это была коллегия монашеского ордена».
Посмотрите,.говорит далее Спенсер,
на десятки тысяч
убитых детей, прибавьте сотни тысяч переживших со
слабым здоровьем и миллионы живущих с организмом,
слабейшим того, каким бы он мог быть, и вы составите
себе некоторую идею о том, какое бедствие поражает
потомков, потому что родители не знают самых первых
законов жизни. Когда сыновья и дочери растут больные
и слабые, то родители отыскивают этому какие-нибудь
сверхъестественные причины, так как, в большей части
случаев, сами же родители виноваты.
Обращаясь,
к современному изучению истории,
439
Спенсер говорит: «Положим, что вы подробно изучили
все знаменитейшие битвы, бывшие на земном шаре,
знаете имена генералов, участвовавших в этих битвах,
сколько было кавалерии и сколько пехоты, в какое
время дня победа клонилась на одну сторону и в какое
на другую, но скажите: сделается ли от этого умнее
подача вашего голоса на ближайших выборах? Вы
говорите, что это факты, интересные факты. Без сомне-
ния, это факты,— если не выдумка вполне
или напо-
ловину,— и, может быть, факты эти интересны для
многих; но ведь и тюльпаноманиак не променяет луко-
вицы тюльпана на вес золота, а для иного — старая,
разбитая китайская чашка кажется самым драгоцен-
ным предметом в мире».
Несмотря на односторонний взгляд автора, нельзя
однакоже не согласиться, что он во многом совершенно
справедлив, и действительно указывает в своей статье,
с одной стороны, на существование огромной массы
школьных познаний, передающихся по рутине
и не
приносящих человеку никакой пользы ни в материаль-
ном, ни в нравственном отношении, а с другой — на
массу таких сведений, которые должны быть знакомы
каждому человеку, посвятившему на ученье три или
четыре года своей жизни, а известны только немногим
специалистам. Однакоже нетрудно видеть, что Спенсер,
увлекшись важностью знаний, непосредственно при-
ложимых к жизненной практике, выпустил из виду те,
которые хотя и приложимы только посредственно, но
часто важнее
непосредственно приложимых. Если,
например, знание древней истории не имеет непосред-
ственного приложения к практической жизни, то это
еще не значит, чтобы оно не имело никакого к ней при-
ложения. Если изучение древней истории может подей-
ствовать на мой характер и образ мыслей, то может
отразиться и в моих поступках. Здесь, следовательно,
должно поставить вопрос другим образом: взглянуть
на то, насколько и как действует изучение древней
истории на характер и образ мыслей
человека и, со-
ображаясь уже с этим, передавать ее события. При
440
такой мере мы выкинем из наших учебников многое,
что интересно только для специалиста и антиквария,
и, ограничив курс истории только нравственно полез-
ным для человека, дадим место тем необходимым све-
дениям, которые открыла наука в своем современном
состоянии.
Конечно, прав Спенсер отчасти и тогда^ когда он
удивляется, как много человек занимается пошло-
стями и как безразличен к величайшим явлениям при-
роды: «не хочет взглянуть
на величественное строение
неба и глубоко интересуется ничтожными спорами об
интригах Марии Стюарт; критически разбирает грече-
скую оду и не бросит взгляда на великую поэму, начер-
танную перстом божьим на пластах земного шара».
Однакоже, нельзя не заметить, что для того, чтобы
почувствовать все величие этой поэмы, надо воспитать
в себе глубокое человеческое чувство, и если греческая
ода или драма Шекспира могут содействовать этому, то
мы поймем тогда их практическую пользу.
Мы
с намерением привели эти отрывки из замеча-
тельной статьи Спенсера, чтобы показать, как много
знаний со всех сторон стучится в двери современной
школы, и какое еще хаотическое представление имеем
мы о том, что заслуживает великой чести сделаться
предметом ученья для детей; как много должно быть
выброшено из школы того, что остается в ней повсе-
местно и в продолжение столетий, и как много должно
быть внесено нового, что теперь известно только немно-
гим. Конечно, мы не можем
и думать о том, чтобы сде-
лать здесь такой педагогический смотр человеческим
знаниям, но однакоже считаем не лишним указать на
существование этого громадного вопроса, на всю труд-
ность и вместе с тем настоятельную необходимость его
решения. Это указание имеет, впрочем, и практический
смысл: каждый педагог-практик может и должен уже и
в своей скромной деятельности оценивать относитель-
ную важность и значение для жизни человека каждого
знания, которое придется ему сообщать.
Так, например,
преподавая историю, он остановится только на тех
441
событиях, которые могут иметь какое-нибудь важное
воспитательное влияние, или на тех, которые хотя не
имеют этого влияния, но необходимы для того, чтобы
объяснить и усвоить события первого рода и отбросить
факты, имена и числа, имеющие значение только для
специалиста в истории. В ученике своем воспитатель
должен видеть не будущего историка, а только челове-
ка, пользующегося плодами исторической разработки
для своего нравственного и умственного
усовершен-
ствования. Вообще при сообщении каждого сведения
преподаватель должен непременно иметь в виду пользу
воспитанника, нравственную или материальную, и
избегать всего того, что только заваливает память г
оставаясь в ней бесполезным камнем, или делается
необходимо добычей забвения. Память человеческая
имеет свои пределы, а период ученья очень короток;
этого не должен никогда забывать воспитатель и на-
ставник и припоминать правило, высказанное практи-
ческим англичанином,
что труд, употребляемый на
приобретение каких-либо знаний, должен соразме-
ряться с пользою, от них проистекающей.
19) В старинной педагогике науки обыкновенно раз-
делялись: на науки, развивающие только формально,
и на науки, дающие материальное содержание разви-
тию. К первым обыкновенно причисляли классические
языки и математику, ко вторым — остальные пред-
меты. Странно, что это деление попадается и в таких педа-
гогиках, которые уже пользовались или могли поль-
зоваться
опытной психологией Гербарта и Бенеке.
Признав главные основания этой психологии в анализе
памяти, изложенные нами выше, мы должны навсегда
уже отказаться от такого деления наук и признать,
что формальное развитие есть пустая выдумка, пока-
зывающая только прежнее психологическое невежество,
и что каждая наука развивает человека, насколько
хватает ее собственного содержания, и развивает имен-
но этим содержанием, а не чем-нибудь другим. Если
изучаемая наука находится по содержанию
своему в
связи с другой какой-нибудь наукой, то и подготовляет
442
к мучению этой второй науки, насколько хватает ее
собственного содержания и насколько это содержание
находится в связи с содержанием предстоящей к
изучению науки. Науки, будто бы особенно развиваю-
щие память, рассудок или воображение, не более как
порождение прежней схоластической психологии, и
эти выражения должны быть навсегда вычеркнуты из
педагогики, которая строится на началах опытной
психологии, а всякая другая педагогика была бы
диким
анахронизмом. Если бы нужно уже было делить как—
нибудь науки в педагогическом отношении, то гораздо
основательнее и практичнее было бы разделить их на
науки, приносящие пользу непосредственно и посред-
ственно. Но и это деление провести строго невозможно,
потому что почти в каждой науке есть сведения, усвое-
ние которых полезно непосредственно; и многие све-
дения могут быть полезны в одном отношении посред-
ственно, а в другом непосредственно. Так, например,
изучение
какого-нибудь иностранного языка есть
только средство приобрести те полезные сведения, ко-
торые могут быть приобретены только на этом языке.
С другой стороны, изучение грамматики этого языка
приносит пользу, не только как ключ к пониманию на
этом языке, но и само по себе, уясняя для нас грамма-
тическую конструкцию того языка, на котором мы
говорим и пишем, конечно, если преподавание ино-
странной грамматики идет сравнительно. Так, в исто-
рии— усвоение одних фактов дает
нам непосредственно
нравственную пользу и, в то же время, эти факты могут
служить нам средством для понимания других. Так
хронология, например, не имеет никакой непосред-
ственной пользы, но она необходима для верного по-
нимания и верной оценки исторических событий.
Если мы станем разбирать непосредственно практиче-
ческую пользу, приносимую изучением классических
языков, то, конечно, мы признаем их вместе с Спенсером
совершенно бесполезными. Но эта оценка будет неверна.
Изучение
классического языка, не принося действи-
тельно ни малейшей непосредственной практической
443
пользы (если не считать практической пользой того,
что в Англии человека, знающего классические языки,
будут считать джентльменом, а в России примут в
университет, или, что можно быть учителем этих язы-
ков), может приносить нам посредственную пользу, или
делая нам доступными те непосредственно или опять
же посредственно полезные сведения, которые можем
мы почерпнуть из чтения классических авторов, или
уясняя нам конструкцию родного языка.
При этом
следует еще иметь в виду, нельзя ли достигнуть той же
пользы другим, менее трудным и более коротким пу-
тем *. Словом, при всякой оценке сообщаемых сведений
должно иметь в виду, какую пользу доставляют они
ученику (нравственно или материально) — непосред-
ственную или посредственную, и в этом последнем слу-
чае— верное ли выбрано нами средство, нет ли более
верного. Многие, правда, думают, что легкость не есть
педагогическое достоинство и что самая трудность
приобретения
сведений может составлять, наоборот,
достоинство. Но ложность этой мысли очевидна: если
бы в распоряжении человека было так мало сведений,
что их можно было бы усвоить легко и слишком скоро,
или жизнь человеческая была бы так длинна, что уж
некуда было бы ее девать, тогда, пожалуй, можно бы
еще говорить о безотносительной пользе трудности
усвоения знаний; но так как знаний так много, что
человеческой жизни не хватает, чтоб усвоить все необ-
ходимое, полезное или приятное,
то отыскивать труд-
ности ученья ради самой трудности было бы совер-
шенно нелепо. Трудность, правда, бывает иногда
полезна, но полезна только относительно, как средство
сосредоточения внимания: так, например, ребенку
труднее самому добраться до какой-нибудь истины, но
этот труд вознаграждается именно пользой лучшего
усвоения. Учить, например, латинскую грамматику
потому только, что она труднее других, есть бессмыс^
* Подробная оценка влияния на развитие человека изуче-
ния
иностранных языков вообще, и классических в особенности,
найдет себе место далее, в главе «О слове».
444
лица, но предпочитать, например, чтение классического
автора на его языке именно потому, что самая труд-
ность этого чтения заставляет нас более вникать в смысл
читаемого, имеет свое основание. Тогда следует оце-
нивать пользу изучения этих языков той пользой,
которую дают именно сведения, сообщаемые класси-
ческими авторами, и подумать о том, нельзя ли этих
сведений, если они окажутся необходимыми, усвоить
другим путем, но столь же основательно.
Следователь-
но, во всяком изучении главную цель должно составлять
самое содержание, а не форма, в которой оно излагается,
если почему-нибудь мы не сделали самую эту форму —
содержанием, как, например, при грамматическом изу-
чении, которое в свою очередь не может составлять
окончательной цели, а только средство для достижения
другой полезной цели. Вот почему, например, нельзя
не считать совершенно бесполезно потерянным време-
нем того времени, которое употребит ученик на
изу-
чение вокабул и грамматики чужого языка, хотя бы то
был латинский и греческий, если ученик не достигает
до понимания авторов, и если эта грамматика изу-
чалась так, что не принесла пользы даже родному
языку. Это, кажется, очевидно; но так именно изу-
чаются, большей частью, иностранные языки в наших
училищах. Тут нечего утешать себя той мыслью, что
хотя ученик и не пошел дальше склонения и спряже-
ния, но все же это принесло ему пользу: ни малейшей
пользы, а, напротив
— вред, отняв у него бесполезно
время из короткого учебного периода и злоупотребив
его трудом, который мог бы быть направлен на приоб-
ретение полезных сведений, недостающих тому же
ученику. Педагог должен ясно сознавать не только
пользу, но и характер пользы всякого сообщаемого им
сведения и относительную величину этой пользы и
идти верно к цели, то-есть к доставлению действитель-
ной и наибольшей пользы ученику. Против этого пра-
вила много грешат не только наши, но и заграничные
школы.
Мы, например, часто, для приличия только,
удерживаем в училище три-четыре иностранные языка,
445
хотя ясно сознаем, что не можем научить и одному так,
чтобы это знание принесло действительную пользу
хотя половине учеников. Недавно в одном журнале был
подан, например, совет: сделать обязательным хотя
начатки изучения греческого языка для всех гимназий,
имеющих возможность получить учителя этого языка,
хоть на два или на три часа в неделю. Чтобы оценить
пользу такого совета, следовало бы вычислить, сколько
из учеников гимназий пойдут
в университет на филоло-
гический факультет, где могут продолжать изучение
греческого языка до тех пор, пока оно станет приносить
им пользу, сколько пойдет на другие факультеты или
вовсе не поступит в университет и будет забывать вы-
ученные начатки, и тогда мы увидели бы, что автор
этого совета предлагает за один проблематически по-
лезный час заплатить пятьюстами часов, истраченных
совершенно бесполезно из той бедной суммы часов,
которая отмежевана человеку на ученье. Точно
так
же мы видим, например, в нашем гимназическом уставе,
что для преподавания естественных наук в классиче-
ских гимназиях назначено по часу в неделю в первых
трех низших классах, а потом преподавание их вовсе
прекращается, и спрашиваем себя: какую пользу при-
несет такое преподавание? Все, что будет выучено на
этих уроках, без сомнения, будет впоследствии забыто;
следовательно, здесь имелось в виду не содержание
изучаемого, а форма изучения. Действительно, практи-
ческое
изучение родного языка очень много выигрывает,
если мы при этом изучении пользуемся той нагляд-
ностью, какую представляют предметы естественных
наук; но тогда спрашивается, почему же это препода-
вание отделено от преподавания отечественного языка?
Вероятно, потому, что наши преподаватели русского
языка незнакомы с естественными науками; но тогда
возникает другой вопрос: если преподавание естествен-
ных наук в классических гимназиях имеет целью до-»
ставить ту пользу, какую
доставляет наглядное обу-
чение (преимущественно выработка логической пра-
вильности суждения и определенности в языке), то
446
приготовлены ли наши преподаватели естественных
наук к дельному наглядному обучению, так чтобы их
труд мог слиться с трудом преподавателя родного языка?
Из ясного понимания нравственного значения
того, что мы помним, также вытекают многие практи-
ческие правила воспитания. Зная, что душевные чув-
ства * оставляют следы в памяти, как и представления,
что следы представлений комбинируются со следами
чувств, что из этих ассоциаций следов чувств
и следов
представлений происходят нравственные наклонности
и страсти,— воспитатель будет видеть в способности
памяти не только возможность влиять на умственное
развитие воспитанника, но и на его характер и на его
нравственность.
Само собой разумеется, что в том, что сообщается
ученьем, не должно быть ничего безнравственного, и
если в истории, например, сообщаются какие-нибудь
безнравственные поступки отдельных личностей или
народов, то они должны быть сообщаемы так, чтобы
они
возбуждали негодование, отвращение, презрение, а
никак не восторженное удивление. Бог знает, как
много принесли человечеству вреда картины войн,
рассказанные детям с увлечением, где излагалось тор-
жество победителей, а не страдания побежденных, или
картины пустого величия, стоившего людям стольких
слез, трудов, крови и жертв. В этом отношении следо-
вало бы переделать не одну страницу в наших истори-
ческих учебниках. Мы не можем также оправдать тех
натуралистов,
которые приучают детей равнодушно
смотреть на страдания животных, и думаем, что пока не
окрепло чувство у человека, должно довольствоваться
при преподавании естественных наук картинами,
чучелами и т. п.
* Слово «чувство» употребляется у нас безразлично — и для
чувств, зарождающихся непосредственно в нашем телесном орга-
низме: чувство зрения, чувство боли и т. д. и для чувств, заро-
ждающихся в душе: чувство любви, чувство гнева. Мы говорим
здесь о чувствах последнего рода
и называем их предварительно
душевными, хотя по сущности, как мы увидим это при анализе
чувств, всякое чувство есть душевное чувство>
447
Но этого мало: не хорошо и то ученье, которое-вовсе
не затрагивает чувства, предоставляя ему развиваться
под случайными, и, может быть, вредными влияниями.
Воспитатель должен пользоваться всяким случаем,
чтобы через посредство ученья закинуть в душу дитяти
какое-нибудь доброе семя и связывать хорошее чув-
ство с всяким представлением, с которым оно только
может быть связано. Такие случаи беспрестанно пред-
ставляются почти во всех науках;
но часто бывает, что
преподаватель не только не пользуется этим случаем,
но, наоборот, сам портит то доброе или эстетическое
чувство, которое представляет ему предмет. Так, на-
пример, нет никакой возможности, чтобы эстетическое
или нравственное какое-нибудь стихотворение запало в
душу ребенка, если изучение его обошлось ему дорого
и сопровождалось, может быть, упреками и наказа-
ниями *. Какое чувство останется в душе дитяти от
иной высоко нравственной страницы библии, когда
изучение
этой страницы сопровождалось жестокими
словами учителя или даже наказаниями. Нам часто
случалось видеть, как дитя, захлебываясь от слез,
отвечает наставнику какую-нибудь вдохновенную мо-
литву, и, конечно, эти слезы были внушены не вдохно-
вением. Грозное, суровое, схоластическое преподавание
закона божия, зависящее, конечно, от того, что и сам
преподаватель его так же учился, оставило печальные
следы не в одной детской душе. Очень может быть, что
то непонятное ожесточение
против религии, которое,
к сожалению, так часто теперь встречается, имеет своим
психическим источником именно эту ассоциацию тяже-
лых чувств с религиозными представлениями, усвоение
которых сопровождалось этими чувствами. Многие
* Вот почему мы также не советуем делать грамматического-
разбора тех стихотворений, на нравственное или эстетическое
влияние которых рассчитываем, и советуем разучивать их в клас-
се, чтобы облегчить их усвоение. Подробности изложены в моей
статье:
«О преподавании родного языка», помещенной в жур-
нале «Педагогический сборник», №№ 1 и 2,1864 г. (См. Собрание
сочинений К. Д. Ушинского, т. V, стр. 333—355.— Ред.)
448
упорные наклонности, сильные страсти и предубежде-
ния слагаются у нас в душе именно из этих чуть-чуть за-
метных черточек, которые, ложась одна на другую,
проводят неизгладимую борозду в характере, имеющую
потом сильное влияние на формирование наших убеж-
дений. Заметим, кстати, что большинство наших ярост-
нейших нигилистов принадлежало к числу людей,
вырвавшихся из-под тяжелой семинарской ферулы.
Кроме тех чувств, которые возбуждаются
в душе
ребенка преднамеренно воспитателями, гораздо более
и притом чувств гораздо сильнейших, возбуждается
в душе детей или самими же воспитателями, но не пред-
намеренно, или средою, окружающей дитя. И всякое
из этих чувств оставляет свой след в душе, и всякий из
этих следов сливается или комбинируется с такими
же или подобными следами; и из всей этой сети следов
вырастают нравственные или безнравственные наклон-
ности и характер человека. Неужели воспитание, видя
громадность
своей задачи, должно отказаться от стрем-
ления сколько возможно завладеть этими влияниями,
создающими действительного, а не учебного человека
и, по крайней мере, бороться с дурными, если не может
создать хороших. Все, что может быть сделано в этом
отношении, должно быть сделано: так, например, каж-
дая школа должна хорошо знать среду, к которой при-
надлежат дети, воспитываемые в ней, и должна, сколько
можно, бороться с вредными влияниями этой среды,
давая полный простор
влияниям хорошим.
Из всего, что сказано нами, видно, как далека еще
не только практика, но даже самая теория воспитания
от того, чтобы воспользоваться вполне всем тем могу-
ществом, которое передает в руки воспитателя способ-
ность памяти. Если мы взглянем, насколько психиче-
ские законы памяти усвоены практиками, а еще более,
насколько применены они к искусству воспитания в
его теории, учебниках, распределении предметов пре-
подавания по возрастам детей, в выборе этих предметов,
в
самом преподавании, в школьной дисциплине, в
домашнем воспитании,— то найдем, что в этом отно-
449
шении искусство воспитания только что зарождается.
Однакоже мы не должны пугаться громадностью задачи,
была бы только верна ее идея, которая, как говорит
Кант: «есть не более, как понятие о совершенстве, не
достигнутом еще на практике. Однакоже пусть только
наша воспитательная идея будет справедлива и тогда
она окажется возможною, какие бы препятствия ни
стояли на пути к ее выполнению» * («Педагог, сбор-
ник», 1866 г., март, гл. 15).
4.
О воспитании рассудка
244. Рассудок. Ложное понятие Руссо о рассудке
Нравственное развитие не должно основываться
на одном рассудке.
О нравственной обязанности с детьми не рассуждать.
«Рассуждать с детьми было главным правилом.
Локка». Руссо вооружается против этого: «Из всех
человеческих способностей рассудок, который, так
сказать, состоит из всех прочих, развивается всех
труднее и всех позднее и его-то именно хотят
употреблять, чтобы развивать первые? Это значит,
начинать
с конца» (Emile, р. 70).
Вот какие смутные психологические идеи имели
тогда. Рассудок начинается тогда, когда дитя начинает
различать и сравнивать, а это начинается вместе с
сознанием; но Руссо совершенно прав, говоря, что
нельзя рассуждать с детьми о нравственных обязан-
ностях, как этого хотели педагоги конца прошлого и~
начала нынешнего столетия; но нельзя рассуждать не
потому, что у дитяти нет рассудка, а потому, что ему
надобно говорить об идеях, выходящих ив’ таких
чувств,
которых дитя еще не испытало.
(Ф. 316, папки № 25, 26, 28, 29, 31 )
* Kant’s Rechtslehre. 1838, S. 373.
450
245. Руссо. Его главная мысль и коренная ошибка.
Сообразность воспитания возрасту. (Не к рассудку ли?)
«Самый опасный возраст жизни человеческой —это
от рождения до 12 лет. Тут-то зарождаются ошибки и
пороки, тогда как нет еще орудия, которым бы можно
было их разрушить; а когда прийдет орудие (т. е. рас-
судок), корни уже слишком глубоки и прошло время
вырывать их» (Emile, р. 76).
На этом-то основании Руссо и говорит: «Первое вос-
питание
должно быть чисто отрицательное. Оно состоит
не в том, чтобы учить добродетели и истине; но сохра-
нить сердце от порока и ум от ошибки. Если бы вы
могли ничего не делать и ничего не позволять делать;
если бы вы могли довести вашего воспитанника до
12 лет — здорового, крепкого, так чтобы он не умел
отличить своей правой руки от левой,— то с первых же
ваших уроков глаза его понимания открылись бы разу-
му; без предрассудков, без привычек, дитя не имело бы
в себе ничего, что
могло бы противодействовать вашим
заботам. В ваших руках ваш воспитанник сделался бы
скоро мудрейшим из людей; и начав тем, что вы ничего
не делали, вы сделали бы из него чудо воспитания»
(ib., р. 76).
От этого — откладывайте все ваши уроки, сколько
возможно.
Далее: «всякий ум имеет свою особенную форму,кото-
рая требует и особенного управления»… и потому пусть
«зародыши его характера появляются свободно».
— Увы, Руссо! Ничего не появится и ничего не уви-
дите, кроме
животного. Вы, по крайней мере, должны
выучить его говорить для этого; а с языком сколько
привычек, понятий, чувств войдут в его душу!
Вот почему Руссо затруднялся, куда поместить сво-
его Эмиля, а хотел бы его спрятать на луну и прячет в
глухую деревню, жителей которой подкупает (sic!) с
ним заодно обманывать ребенка. Да это тюрьма на
воле. Вот эти-то предрассудки и разрушила новая пси-
хология (там же).
451
246. К рассудку. (Сравнение — кар.) Учить вещам,
а не словам
«Les choses! Les choses! Je ne répéterai jamais assez
que nous donnons trop de pouvoir aux mots! Avec notre
éducation babillarde nous ne faisons que des babillards»
(Em., p. 189).
«Ум, формирующий свои идеи по действительным
отношениям, есть ум основательный; ум, который до-
вольствуется кажущимися отношениями,— ум поверх-
ностный; ум, видящий отношения таковыми, каковы
они
на самом деле, есть ум верный (juste); ум, который
оценивает их дурно,— ум ложный (l’esprit faux); тот,
кто находит воображаемые отношения, не существую-
щие ни на деле, ни по видимости, есть безумец (fou);
тот, кто не сравнивает, глупец (imbécile). Большая или
меньшая способность сравнивать идеи и находить
между ними отношение именно и составляет ум чело-
века» (ib., р. 212).
«Простые идеи не что иное как сравненные ощуще-
ния. В простых ощущениях есть также суждение, как
и
в ощущениях сложных (?), которые я называю идея-
ми простыми».
До сих пор Руссо совершенно верно как бы прихо-
дит к моей мысли, что самосознание есть уже рассу-
док; но вдруг старая логика его повернула.
«В ощущениях, продолжает он, суждение (le
jugement) чисто страдательное: оно утверждает, что
чувствует, т. е. чувствует. В восприятии (la perception))
или идее суждение длительно; оно сближает, сравни-
вает, определяет отношения, которые не определяются
чувством. Вот
все различие: но оно велико. Никогда
природа нас не обманывает: всегда мы сами себя оправ-
дываем» (ib., р. 219).
Какой смысл в последней фразе? Что то, что есть,—-
есть; а мы не всегда знаем то, что есть. Но кто же об-
манывает дикаря, что земля стоит, а солнце движется.
Отсюда вывод: «так как люди, чем более знают, тем
более обманываются, то лучшее средство избежать
ошибки, есть незнание» (ib., р. 221).
452
Еще ближе подходит Руссо к той же мысли, когда
говорит: «Сознание каждого ощущения есть предложе-
ние, суждение. Итак, если только мы сравниваем одно
ощущение с другим, мы уже рассуждаем. Способность
судить и способность рассуждать совершенно одно и
то же» (ib., р. 223).
Если бы Руссо держался этого, а не противоречил
сам себе и не отделял рассуждения от сознания, то не
впал бы в страшный парадокс, что «чем менее человек
знает, тем
менее ошибается» (ib., р. 221).
(Ф. 316, папки № 25, 26, 28, 29, 31).
247. Рассудок. Не учи детей словам. Память и
рассудок
«Дитя удерживает слова, и все, кто слушают его,
его понимают, иначе оно себя не понимает» (Em., р. 94).
«Детство есть сон разума» (ib.).— Эка дичь!
«Хотя память и рассудок две способности совершен-
но различные, но одна не развивается иначе, как
вместе с другою. Прежде возраста рассудка дитя вос-
принимает не идеи, а только образы» (ib., р. 94).
«Образ
может быть один в представляющем его уме;
но всякая идея предполагает другую. Воображая —
только видят; понимая же сравнивают» (ib., р. 95).—
Что ни слово, то ложь.
И сам же Руссо далее как зоркий наблюдатель сам
себе противоречит: «я слишком далек от того, чтобы
думать, что дети не имеют никакого рассудка. (Внизу
сам Руссо замечает это противоречие и ссылается на
недостаточность языка, но это ошибка: если язык не
дал двух слов для рассудка, то это потому, что он дей-
ствительно
один). Напротив, я вижу, что дети рассу-
ждают очень хорошо о том, что знают и что относится к
их настоящим и ощутительным для них интересам. На
обманываются именно в их знаниях, предполагая в них
такие, каких у них нет» (ib., р. 95).
Вот наилучшее подтверждение моего взгляда на
рассудок. Философ Руссо плохой, но часто наблюда-
453
тель превосходный, как говорит о нем М-е Necker-
de-Saussure (t. 1, p. 121).
(Ф. 316, папки № 25, 26, 28, 29, 31).
248. Рид о воспитании мышления
Никакая способность ума не доставляет так много
удовольствия его обладателю, как способность изоб-
ретения, которую он употребляет в механике ли, в
науке ли, в правилах ли жизни и т. д. (Read, vol. I,
p. 383).
Человек нуждается в долгом детстве и долгой юно-
сти уже потому, что почти каждое
положение в граж-
данском обществе требует правильных рядов мыслей,
до того усвоенных частым повторением, чтобы они
являлись сами собой, когда представится к тому случай
(ib., р. 384). Способность человека в этом отношении
заслуживает поистине удивления: стоит ему переменить
место, положение, вообразить себя в другой роли, и у
него потекут другие ряды мыслей.
«Ряды мыслей могут быть управляемы и направляе-
мы, как конь, на котором мы едем. У лошади есть свои
силы, своя
бойкость, свои привычки; она заучила неко-
торые движения и многие полезные приемы, что делает
ее способнее для наших целей и послушнее нашей воле;
но чтобы совершить путешествие, она должна быть
управляема ездоком» (ib., р. 385). Ученье дает мате-
риалы воображению, составляет в нем целые ряды,
связывает эти ряды и приготовляет для человека более
или менее хорошего коня. Значение воображения в че-
ловеческой жизни превосходно и очень красноречиво
развито Ридом. Эту страницу
можно перевести всю в
конец воображения.
«Большинство слов в языке — имена общие. Целые
томы книг часто заключают в себе одни только общие
имена, а между тем, все, что существует в мире, суще-
ствует не иначе как индивидуально» (ib., р. 389).
Употребление родов и видов (genera et species)
положило основание всем человеческим знаниям; оно
конденсирует все знаемое человеком. Я говорю: «это
454
человек» и приписываю ему, следовательно, одним сло-
вом все бесконечное число признаков человека (ib.,
р. 391).
«Ученье языку есть процесс образования понятий»
(ib., р. 409). Очистить понятие от случайных призна-
ков, мелькающих в воображении, есть дело ученья.
Слово закрепляет понятие, но, конечно, не оно его
производит. Суждение не может быть без материала, а
материал не может быть без суждения. Птица родится
из яйца, яйцо из птицы.
Каждое должно быть прежде
другого, а как это сделалось вначале, мы этого не
понимаем. «Первые действия способности понимания и
суждения скрыты от нас, как источники Нила, в неиз-
вестной области» (ib., р. 417). Для образования опреде-
ленных ощущений нужно уже суждение, признает Рид,
а суждение может быть только о том, что мы ощущаем.
Самосознание. У Локка (внутреннее чувство) созна-
ние принимается в смысле самосознания. Без созна-
ния мы не могли бы иметь понятия и о внешних
пред-
метах. Но можно иметь сознание и не иметь самосозна-
ния, как у животных. Самосознание есть источник
слова, посредством которого мы хотим возбудить в
душе другого человека то же движение, какое заметили
в нас.
Я считаю, говорит Рид, что всякая наука строится
на первых принципах, как всякий дом имеет фунда-
мент.
(Ф. 316, № 69, «Записная книжка», л.л. 74—80).
249. Bain. The Senses. Для человека, занимающе-
гося механикой, лошадь, пароход и водопад очень сход-
ные
вещи. Нам кажется теперь легким видеть в воде
движущую силу, но не так было легко отвлечься от
других признаков воды: шума, блеска и увидеть в ней
только движущую силу (ib., р. 505). Тут же приводится
и история открытия Уатта. Отсюда можно вывести, как
полезно направлять мысль детей на существенные
свойства реального мира. Образование классификаций
есть тоже следствие отдаленнейших сближений, руко-
455
водимых сильным направлением ума в одну сторону.
Таково было направление ума Линнея, который нашел
сходство между самыми разнообразными растениями,
поражающими чувства других именно своим разно-
образием (ib., р. 509).— Бремена года самые первые
обобщения, которые делает человек (ib., р. 515). Только
холодная рассудочная натура Франклина могла открыть
сходство между явлениями электрической машины и
грозы (ib., р. 535). Каждый шаг в науке,
за исключением
только оригинального наблюдения или опыта, есть или
абстракция, или дедукция, или индукция (напрасно
Бэн видит только аналогию между стадом, растением
и обществом: это не только аналогические, но одно-
родные явления жизни, как заметил Аристотель). За-
мечательную силу отождествления ума, работающего
над конкретными фактами природы и человеческой
жизни и истории литературы, мы можем видеть в Бэ-
коне (ib., р. 545). Это была натура в высшей степени
чувствительная
к малейшим сходствам и малейшим
различиям (ib., р. 546).
(Ф. 316, № 19, «Записная книжка», л. 63).
250. Бэн, ч. I (О воображении)
Способность находить сходство в разнообразии яв-
лений и сосредоточивать внимание на одной особен-
ности, находить ее в других, во всем различных вещах,
вела ко многим открытиям: так, способность видеть
двигающую силу в человеке, в лошади, в воде, в паре —
теперь нами уяснена, но прежде этого не было (р. 503—
504). Уменье проследить один признак
в самых разно-
образных вещах и отвлекаться от их разнообразия, так
чтобы оно не мешало, есть способность сильных умов
и вела к открытиям. Таково открытие паровой силы.
Развито у Бэна очень хорошо (ib., р. 505). Ватт открыл
силу пара, потому что ум его был уже постоянно на-
правлен на силы движущие всякого рода и он увидал
силу там, где ее никто не видел. Самый ничтожный
признак пара сделался для него главным (ib.).
456
(Мое). Из этого вытекает необходимость занятия
техническими науками у нас и вообще реального под-
готовления. В Англии это заменяется жизнью (в Лон-
донском университете есть уже кафедра технологии),
а у нас эта жизнь в руках людей, не получивших ника-
кого образования (ib., р. 506). У нас занятие естествен-
ными науками приняло метафизический характер,
чрезвычайно вредный для самих естественных наук и
реального прогресса; потому что мысль
направляется
на метафизические свойства, а не реальные признаки
естественных предметов. От этого у нас плохи естествен-
ные науки, хотя причин этому много. В самой Германии
в последнее время метафизика преобладает; а Ньютон
сказал, что это уже не наука (см. «Отеч. зап.», ст.
Кл. Бернара). Этим объясняется и относительная бес-
плодность германской науки.
Предметы природы представляются нам как группа
представлений (ib., р. 506). Постепенные успехи в
минералогии, ботанике,
зоологии,— все выражаются в
этой борьбе разума, отыскивающего единство в раз-
нообразии и существенные признаки. Признание рту-
ти металлом. Линней должен был позабыть, отбро-
сить видимое яркое деление растений на деревья,
кусты, травы и т. д. и сосредоточить внимание на при-
знаке столь незаметном, что он совершенно ускользнул
от толпы. Окен — его открытие структуры позвоночных
животных и увлечение далее того, чем говорит = =(ib.,
р. 507—512). «Прогресс реальных открытий
состоит в
уловлении руководящих (pawading) сходств и упуще-
нии других».
У англичан потому, может быть, и шло дело лучше,
что установившаяся жизнь политическая и религиозная
не отвлекала их от предмета изучения, забрасывая в
ней свои вопросы. Успокоившись в этом, англичанин
мог всю силу своего ума сосредоточить на своем заня-
тии и не раскидываться. У нас совершенно противопо-
ложное явление. Все перемешалось, и естествоиспы-
татель, бросив беглый взгляд в микроскоп и
не рас-
смотрев хорошенько предмета, спешит уже делать
457
громадные выводы и поведать миру вынесенные им из
содержания клеточки метафизические, религиозные,
социальные открытия, долженствующие перевернуть
мир.
(Ф. 316, № 69, «Записная книжка», л. л. 8—10).
251. (VI, 17). Рассудок. Формальное развитие вообще
«Нет никакого общего формального развития: ни-
какого общего упражнения памяти, рассудка и проч.,
но каждое формальное образование идет настолько,
насколько идет его предмет. Изучение латинских
слов,
например, нисколько не упражняет памяти вообще, но
только память слов; изучение математики усиливает
созерцательную, рассудочную и т. д. способности только
для математических отношений, но не в области языка,
характера, жизни и т. д.» (Benecke. Erz. und Unt.,
§ 12, S. 51).
«Оно настолько действует на другие сферы, 1) на-
сколько входит в них, как материал; 2) насколько
делается образцом для других подобных ассоциаций
(ib.). «В душе животного не образуется рассудок»
(ib.,
§ 30, S. 126).
Кто же вам сказал, что у животного нет рассудка?
Но педагогические правила для развития рассудка
у Бенеке изложены отлично и ясно.
252. (VI, 16). Рассудок. Педагогические приложения
Это отлично изложено у Бенеке. Erz. und Unt.,
§31, S. 128, Th. I.
Ее надобно перевести почти без перемен.
А также параграфы 32, 33, 34 и 35.
253. Воспитание рассудка по Бенеке
«Прежде, чем излагать правила воспитания детского
рассудка, мы должны сделать несколько
общих заме-
чаний.
Рассудок считается обыкновенно прирожденной спо-
собностью души: разница только в том, что, по мнению
одних, прирождены самые понятия, а по мнению дру-
458
гих — только общие формы понятий, суждений и умо-
заключений. Мы уже указали выше, на основании глу-
бокого психологического анализа, совершенную неосно-
вательность этого мнения. Рассудок есть способность
понимания или, так как для понимания нужны поня-
тия,— способность образования понятий. Понятия же
всегда возникают из отдельных представлений и ощу-
щений путем отвлечения или взаимного притяжения
сходных составных частей. Следовательно,
до возник-
новения первого акта отвлечения в человеческой душе
нет никаких рассудочных форм, а, значит, нет и рас-
судка. Этот первый акт абстракции или, правильнее,
след, оставляемый им в глубине души, кладет основание
рассудку. Последний развивается в ширину по мере
умножения этих актов и оставляемых ими следов; раз-
вивается в вышину по мере того, как самые представ-
ления претерпевают такие же процессы абстракции, в
силу которых возникают более общие понятия. «Пони-
мание»
возможно только в том случае, ежели понятия
сохраняются в глубине души и могут быть вновь вы-
званы или воспроизведены в сознании.
Конечно, для того, чтобы подобный результат был
возможен, душе человека должна быть прирождена
известная степень совершенства; в душе животных рас-
судок не развивается, хотя сна подлежит тем же законам
и процессам развития, как и человеческая душа. Но
это прирожденное совершенство человеческой души со-
стоит только в большей энергии ее задатков,
о которых
мы уже говорили выше. Благодаря этой большей энер-
гии и самое восприятие простейших чувственных впе-
чатлений (содержащих зачатки всех человеческих со-
вершенств) происходит энергичнее, чем у животных;
так что следы остаются более совершенные, следова-
тельно, и воспроизводятся полнее, а, стало быть, обра-
зуют и более полные и ясные представления, которые,
поэтому, могут образовать более многочисленные и
постоянные группы (по сходству), а следовательно,
слиться
одно с другим до полного взаимного проникно-
вения и выделения своих сходных частей, которые я
459
продолжают существовать уже в виде понятий. Эта
большая энергия прирожденных задатков человека и
может быть названа в обширном смысле слова спо-
собностью рассудка, так как только она делает воз-
можным и даже необходимым развитие рассудка в
человеческой душе. Но нужно иметь в виду, что эта
прирожденная способность не представляет никакого,
даже поверхностного, сходства с настоящим рассуд-
ком. Действительный рассудок не может развиться
ранее
образования понятий.
Если после всего сказанного мы зададим себе вопрос:
когда у детей начинает. развиваться рассудок? то, без
сомнения, должны ответить: весьма рано. Ибо, как
только в ребенке появится достаточное количество
однородных представлений, тотчас начинает обнару-
живаться взаимное притяжение их сходных составных
частей или процесс абстракции. Прежде всего этому
процессу подвергаются представления чувственных
предметов, окружающих ребенка и ежедневно воспри-
нимаемых
им. Но, во всяком случае, развитию рассудка
по отношению к каждому роду или разряду представ-
лений (видимому, слышимому и т. д.) должно предше-
ствовать появление отдельных представлений, и притом
не одного, а многих.
От рассудка в тесном смысле слова или способности
образования понятий мы можем отличить еще способ-
ности суждения и умозаключения. Суждение есть под-
ведение отдельных представлений под общее их понятие.
Простое утвердительное суждение возникает в том слу-
чае,
когда понятие сознается как непосредственно со-
держащееся в известном отдельном представлении.
Поэтому каждый след известного понятия или его за-
чаток есть вместе способность или сила суждения, ибо
он делает возможным суждение со стороны его преди-
ката, или главного условия суждения. Но кроме того,
для суждения необходима и способность образования
отдельных представлений, служащих его субъектами;
так что для суждения вообще требуется Присутствие
более сложных условий, чем
для деятельности рассудка
460
в тесном смысле слова. Способность суждения требует
развития обеих вышеупомянутых способностей; так
что можно обладать отличным рассудком и вместе с
тем посредственною силой суждения*. Но кроме того,
сила суждения может развиться и иным способом.
Именно, коль скоро при соблюдении сказанных усло-
вий возникло суждение, то оно оставляет след в глубине
души, заключающий в себе возможность его (сужде-
ния) вторичного воспроизведения; так что
мы имеем
здесь способность суждения другого рода, которой,
очевидно, свойственны большая точность и большее
значение, чем первой.
То же самое следует сказать и о способности умо-
заключения. Умозаключение есть комбинация сужде-
ний; суждения, как мы видели, происходят посредством
понятий, следовательно, способность умозаключения
уже заключается в рассудке и силе суждения. Послед-
ние делают возможным и первое. Но покуда умозаклю-
чение не возникло действительно, его нельзя
еще счи-
тать предсуществующим, прообразованным в его за-
чатках. Последние образуются только тогда, когда
предшествовавшее умозаключение уже оставило след в
душе, служащий действительным прообразом, или на-
стоящей способностью умозаключения.
Правила воспитания рассудка
Правила воспитания рассудка могут быть выведены
весьма просто из вышеприведенных общих соображе-
ний о его природе.
Прежде всего бросается в глаза то обстоятельство,
что развитие рассудка в основе
своей зависит от сте-
пени первоначального развития отдельных представ-
лений и от силы удержания их в душе; следовательно,
должно идти параллельно с развитием способностей
чувственного восприятия и внимания, а также памяти и
воображения. Ясное понятие и суждение возможны
* Подробное рассмотрение этого вопроса см. в моих «Psych.
Skizzen», II, 187 и сл. «Lehrbuch der Psych.»», § 124 и сл., § 134
и сл.
461
только при энергии восприятия и воспроизведения вос-
принятого. Поэтому, все правила развития этих способ-
ностей приложимъ! и к воспитанию рассудка. В особен-
ности вредны в этом отношении небрежность и невнима-
тельность в восприятии предмета, против которых,’
поэтому, воспитатель особенно должен бороться. Если
дитя обнаруживает эти свойства, то дело воспитателя —
приводить его почаще, окольными путями, к одному и
тому же восприятию для
того, чтобы путем повторения
увеличить его ясность и силу; еще лучше — предостав-
лять ребенку делать по собственному его плану различ-
ные изменения и видоизменения в предмете. То, что мы
произвели сами, путем целесообразной самодеятель-
ности, запечатлевается в нас всего глубже. При не-
внимательности понятие не может возникнуть даже и в
том случае, когда нужные для того представления уже
образовались. Однородное претерпевает взаимное при-
тяжение только в том случае, когда
известный ряд пред-
ставлений предлежит сознанию, в течение более или
менее долгого времени; чем скорее он исчезает из созна-
ния и чем слабее действует на последнее, тем менее
шансов на развитее понятий из представлений.
Большая степень ясности понятий сравнительно с
представлениями зависит, как нам известно, оттого,
что в понятиях сливаются вместе многие элементы,
содержащиеся в представлениях в отдельности; от
числа этих элементов зависит и большая или меньшая
ясность
мышления. Следовательно, в интересах ясного:
мышления нужно позаботиться о присутствии в душе
ребенка возможно большого числа сходных представ-
лений. От этого числа зависит также и богатство мысли.
Оно возможно только тогда, когда, при образовании
понятий путем слияния однородных признаков пред-
ставлений, прочие признаки сохраняют свой союз с
этими слившимися признаками и, следовательно, легко
могут быть вызваны в сознание, следовательно, богат-
ство мысли вполне зависит
от числа представлений, сое-
динившихся для образования понятий. Отсюда видно,
что не следует слишком спешить в деле рассудочного
462
развития ребенка. Если мы слишком рано остановим в
нем развитие отдельных представлений, то вместо того,
чтобы содействовать развитию его рассудка, эта оста-
новка, рано или поздно, принесет сказанному развитию
существенный вред. Вот отчего, из скороспелых детей
обыкновенно выходят посредственности. Абстракция
слишком рано берет в них перевес над собиранием мате-
риала, так что понятия их складываются слишком скоро:
а раз привыкнув к пренебрежению
непосредственно
данного, свежего материала, они уже с трудом возна-
градят этот ущерб впоследствии. Пусть же лучше и.в
этом отношении дети остаются детьми, покуда того
требует естественный ход их развития. Природа чело-
века такова, что чувственность должна первоначально
в нем преобладать; затем преобладание переходит к
способности воспроизведения и, наконец, к умственной
самодеятельности; этого естественного хода развития
воспитатель не должен нарушать.
Для образования
понятия однородные или сходные
представления должны быть сопоставлены, должны быть
сознаны вместе. Это обстоятельство заставляет нас
пополнить предыдущие соображения еще с одной точки
зрения. Именно, хотя это сопоставление представлений
и обусловливается вообще стремлением однородных
психических образований к соединению, но в частности
каждое такое соединение должно преодолеть весьма раз-
нообразные препятствия. Умственное развитие впервые
приходит в этом случае в известный
антагонизм с
памятью и припоминанием, хотя, как мы видели, оно
имеет с ними общее основание. Именно, если количе-
ство представлений, сохраняемых в памяти, слишком
велико, так что одна группа их неминуемо ведет за
собой длинный ряд других, то тем самым возможность
соединения и слияния однородного более или менее за-
трудняется. Если, например, представление какой—
нибудь исторической личности вызывает в сознании
представления многих других подобных личностей и
если,
притом, воспроизводятся представления одно-
временных личностей и событий года, заученные на-
463
изусть и т. д., если это воспроизведение происходит с
большой силой,— то сознание постоянно отвлекается
к новым и новым представлениям, и образование по-
нятий постоянно прерывается. Если эти помехи повто-
ряются слишком часто, то умственное развитие тем
самым может быть удержано на самой низкой степени.
Вот почему так называемые замечательные дети,
придя в возраст, обыкновенно оказываются ниже своих
сверстников в умственном отношении.
Их первоначаль-
ное «замечательное» развитие состояло преимуществен-
но в запоминании многочисленных групп и рядов пред-
ставлений; но эти группы и ряды могут не только не
представлять условий для образования умственных ком-
бинаций (по сходству), а напротив, служить ему даже
препятствием, так что рассудочное развитие этих
детей может встречать не только обыкновенные, но и
большие обыкновенных препятствия к своему осуще-
ствлению. Напротив, комбинации остроумия и сравне-
ния
помогают в этом случае развитию рассудка. Итак,
следует остерегаться слишком набивать память ребенка
и придавать большое значение одному количеству
удержанных им восприятий.
Далее, для образования в ребенке понятий и, осо-
бенно, понятий необыденных явлений, требуется из-
вестный способ приложения способности притяжения
однородного; следовательно, ребенок нуждается в
известном досуге, известной свободе от наплыва внеш-
них впечатлений. Поэтому, не следует непрерывно
(как
это делают часто с похвальным намерением, но
с излишним рвением) действовать на ребенка различ-
ными чувственными возбуждениями, не следует пере-
полнять его ими, но, напротив, оставить ему время,
охоту и силу на их самостоятельную внутреннюю пере-
работку. Всякое дробление духовных сил в этом слу-
чае вредно для развития рассудка уже потому, что оно
ослабляет напряженность отдельных представлений,
необходимую для процесса абстракции. Еще более
вредит оно, уменьшая степень
законченности этого
процесса и чистоты, с которой общий признак выде-
464
ляется из массы других, несходных. Вот почему у детей?
получивших светское воспитание, или подвергавшихся
действию каких-либо других слишком разнообразных
впечатлений, мы часто находим рановременную широту
и богатство мысли, но редко, даже впоследствии, встре-
чаем у них ясный и правильный рассудок. Вследствие
постоянного перерыва умственной работы процесс
абстракции останавливается у них в самом начале, так
что получаются не законченные
понятия, а только за-
чатки их.
Мы видели уже, что богатство или плодотворность
понятия зависит от тесного союза с отдельными, разно-
образными признаками представлений, не сливающи-
мися в понятие. Чем богаче понятие, тем легче совер-
шается переход от абстрактного мышления к конкрет-
ному и наоборот, и, следовательно, тем более условий
для полного развития силы суждения. Так что и в этом
отношении воспитателю следует озаботиться о разно-
образии и свежести восприятий
и ощущений его пи-
томца, а равно и о возможно более частом освежении и
расширении, уже готовых понятий, путем тесного
союза их с отдельными и первоначальными элементами
мышления.
***
Сказанное следует еще дополнить некоторыми со-
ображениями существенной важности.
Не только отдельные представления и ощущения, но
также различные их комбинации и отношения как
таковые могут подвергаться процессу отвлечения, при-
чем общие их признаки принимают характер понятий.
Положим,
напр., что ребенок воспринял одновременно
несколько различных предметов (лиц или вещей),
сходных между собой в некоторых свойствах; представ-
ления этих свойств сознаются вместе; наиболее общие
их признаки путем последовательной абстракции все
более и более отделяются от менее общих, и таким об-
разом постепенно образуются понятия видов, родов,
классов, содержащие в себе целые группы признаков
465
вещей, хотя отнюдь не самые вещи. Равным образом,
известные события (деятельности предметов) представ-
ляют для ребенка ряды сходных членов и представле-
ния этих членов, сливающиеся в одном акте сознания,
кладут начало понятию ряда признаков, или более или
менее общему понятию события. Точно так же ребенок
обращает внимание и на простые общие отношения
вещей и событий, на их величину и число, внешний и
внутренний характер, постоянство
и изменчивость, воз-
можность, необходимость, вероятность и т. д., и все
эти отношения воспроизводятся в его сознании более
или менее отвлеченные от самых представлений. Но
независимо от того, самые чувства и стремления могут
входить в состав этих групп и рядов и подвергаться про-
цессу отвлечения, что кладет начало общим представ-
лениям или понятиям известной степени: приятного
или неприятного, прекрасного, желательного, справед-
ливого, доброго, необходимого для всех и
т. д. Выражен-
ные в суждениях, эти общие представления становятся
правилами или положениями. Дитя судит, что извест-
ные свойства всегда даны вместе, что известное событие
всегда следует за другим, что известные предметы
всегда бывают такой-то величины, или в таком-то
числе, что нечто должно для всякого, по крайней мере,
в известных случаях составлять предмет одобрения
или порицания, удовольствия или неудовольствия,
стремления или отвращения и т. д. Таким образом раз-
виваются
главные категории способностей суждения и
умозаключения.
Нет сомнения, что понятия, суждения и умозаклю-
чения, выражающие эти группы и отношения, вообще
позднее развиваются в ребенке, чем понятия об отдель-
ных ощущениях и представлениях. Ибо и для развития
самых групп и рядов, настолько разнообразных, на-
сколько это потребно для абстракции, нужно извест-
ное время. Еще позднее, следовательно, развиваются
понятия особенных свойств или форм этих различных
комбинаций и
отношений: напр., понятия вещи и ее
признаков — субстанций и акциденций, причинности,
466
числа, величины, возможности, необходимости и т. п.
Ибо эти последние понятия отвлекаются от всего со-
держания различных комбинаций и отношений; послед-
ние должны для этого еще более разнообразиться:
только при этом условии содержание различных групп
и рядов может сделаться безразличным для сознания,
так что будет ясно сознаваться одно представление их
формы (способа комбинаций). Вот почему ребенок,
внимание которого бывает обыкновенно
привлечено и
удержано преимущественно действительно существую-
щими предметами, может возвыситься до этих фор-
мальных понятий лишь постепенно. Не следует сме-
шивать понятий с выражающими их словами. Послед-
ние ребенок постоянно слышит от своих воспитателей
и рано приучается употреблять их, не выражая еще
ими никакого действительного понятия.
Определение наиболее отвлеченных из этих поня-
тий во всей их чистоте и отчетливости составляет
задачу метафизики, задачу, которая
ни в каком случае
не входит в область нашего настоящего исследования.
Цель, к которой стремится этот отдел философии,
остается для большей части людей недостижимой, да и
достижение ее для них не необходимо. Но не следует
упускать из виду того обстоятельства, что даже обык-
новенное здравое развитие рассудка только потому
может назваться здравым, что оно направлено к этой
цели; так что постепенное освобождение детского духа
из непосредственного ограничения вещами и связан-
ными
с ними интересами и постепенное возвышение
его до созерцания общих форм, их комбинаций и отно-
шений должно во всяком случае считаться необходимой
и существенной задачей воспитания.
К этой цели направлена в той или другой мере и
большая часть, так называемых, упражнений рассудка,
на которые было обращено вполне заслуженное внима-
ние, начиная со второй половины прошлого столетия.
Но хотя многие из этих упражнений могут и даже долж-
ны начаться дома ранее собственного обучения,
тем не
менее, их изложение и оценку лучше всего отложить до
467
того времени, когда мы будем говорить об обучении.
Только тогда, при систематическом и связном изло-
жении всех средств обучения, возможно получить о
них глубокое руководящее понятие, между тем, как
говорить о них здесь — значило бы только повторять
старое. Поэтому мы в настоящем случае будем говорить
об этих формах лишь как о внутренних задатках, или
умственных силах.
Развитие внутренних задатков от-
влеченного мышления
Развитие
внутренних задатков или сил происходит
и в данном случае согласно общему закону, а именно
так, что каждый психический процесс оставляет свой
след, служащий основой дальнейших процессов того
же рода. Таким образом каждое восприятие известных
отношений не только делает ребенка способнее к
восприятиям тех же отношений, но и к суждению о
том, что входит в область этих восприятий; следова-
тельно, развивается и совершенствуется не только его
способность восприятия, но и способность
суждения.
Согласно сказанному, усовершенствование различных
умственных отправлений этого рода должно подчиняться
следующим педагогическим правилам.
Воспитатель прежде всего должен позаботиться об
образовании достаточного количества и достаточно
разнообразных групп и рядов представлений.
С первого взгляда очевидно, что содержание этих
групп и рядов не может достигнуть совершенной пол-
ноты в продолжение периода воспитания. Так как
большая часть предметов и житейских отношений
еще
недоступна ребенку, то, следовательно, и большая
часть человеческих познаний, которые все, более или
менее, основаны на группах и рядах представлений,
должна быть приобретена уже впоследствии. Но с
нашей точки зрения можно потребовать, чтобы воспи-
тание сообщило ребенку настолько разнообразные
знания, насколько необходимо для усвоения различных
родов комбинаций и отношений различных предметов
468
(внешнего и внутреннего мира, прошедших, настоящих
и будущих и т. д.) и для того, чтобы сделать дитя в
окончательном результате способным к приобретению
чистых формальных понятий.
Но несравненно строже является требование пол-
ноты в формальном отношении. В душе ребенка. долж-
ны быть развиты не только те или другие формы комби-
наций и отношений, но все существенные формы ему
не должны оставаться неизвестными, даже главные из
частных
их подразделений. Следовательно, внимание
его должно быть направлено не только, например, на
комбинации качеств, или на вывод причин из следствий,
или наоборот и т. п., но в сознании его должны быть
всесторонне и живо развиты все основные формы чело-
веческого духа.
Но одного разнообразия еще недостаточно: группы
и ряды должны быть с надлежащей энергией воспри-
няты и развиты во внутренние задатки.
В этом отношении нам достаточно сослаться на
все те правила, которые были
установлены выше для
развития энергии представлений. Именно и в настоящем
случае можно часто посоветовать, вместо облегчения
восприятий, как того обыкновенно желают, напротив,
скорее затруднить их. Общие формы групп и рядов,
как и вообще способы комбинаций и деятельности
чувственных и духовных предметов, воспринимаются
тем энергичнее, чем более времени и труда требует про-
цесс их восприятия; при этом же условии, следователь-
но, становятся они и способнее служить основами
даль-
нейшего духовного развития. Равным образом следует
остерегаться навязывать ребенку, так как сам он до
того не дойдет, понятия, слишком для него высокие,
для понимания и оценки которых требуется опытность
и сила суждения более зрелого возраста. Этого рода
понятия он может усвоить только поверхностно и,
следовательно, слабо; внушить их ему, значит разви-
вать в нем предрассудок, или, что еще хуже, приучать
его пассивно заимствовать чужие мысли и легкомыс-
ленно судить
о том, что превышает его понимание.
469
Развитие рассудка в этом направлении должно проис-
ходить с сохранением его ясности и чистоты, без скач-
ков, без большой поспешности; способности восприя-
тия должно быть предлагаемо только то, что она дей-
ствительно и вполне может осилить.
При этом следует также почаще повторять восприя-
тия одних и тех же групп и рядов для умножения и
укрепления их следов.
Принимая характер объективной истины лишь по
отношению ко всей совокупности
отдельных случаев,
общее правило приобретает субъективную наглядность
и полезность лишь путем многократного испытания
или, по крайней мере, ясного представления и глубо-
кого усвоения на основании собственного опыта. Если
же оно с самого начала носит чисто отвлеченный харак-
тер, то лишается всякого значения и может привести
лишь к тому, что человек вообразит себя знающим нечто,
о чем он в действительности не знает ничего, а способен
только бегло болтать. В тех же случаях,
когда дело
идет о приложении этого правила, он естественно ста-
новится втупик.
Само собой разумеется, что комбинации и отноше-
ния представлений в ребенке должны соответствовать
действительности и что они должны столь полным и
точно соответствующим образом быть восприняты и
запечатлены в душе, что ничто важное не должно быть
в них опущено и ничто ложное не должно быть к ним
примешано. Для исполнения этого правила должно
обратить внимание на следующие два обстоятельства:
Во-первых,
следует принять в расчет, что значи-
тельная часть человеческих заблуждений проистекает
вследствие доверчивого принятия за. истину неверных
наблюдений, представлений воображения, поспешных
выводов и т. д. других людей. Поэтому воспитатель
как можно ранее должен внушить ребенку стремление
к самостоятельной проверке сообщаемого ему. Конечно,
дитя, опытность которого и самые способы ее расшире-
ния чрезвычайно ограничены, должно в несравненно
большей степени, чем взрослый, верить
другим людям.
470
Но это доверие не должно переходитъ у ребенка в необ-
думанное легковерие. Только в том случае, когда че-
ловек с самого начала приучен к самостоятельности
в решениях, эта самостоятельность может впослед-
ствии развиться до надлежащей степени. Поэтому дело
воспитателя,— как можно ранее приучить ребенка не
усваивать без предварительного обдумывания ничего,
сообщаемого ему другими (словесно или посредством
книг): но, напротив, постоянно сопоставлять
и сравни-
вать полученные сведения с тем, что ему удалось ранее
испытать, думать, выучить.
Первоначально воспитателю придется, конечно, са-
мому проделать за ребенка большую часть этой работы,
но, если только он поведет дело терпеливо, то может
настолько же приучить ребенка к этому внутреннему
порядку мышления, как и к внешнему порядку поведе-
ния. Кроме того, во всех тех случаях, когда возможно
прямое наблюдение и изучение предмета, воспитатель
должен направлять к нему
ребенка; он должен с бла-
госклонным вниманием и одобрением относиться к тем
продуктам детского мышления, которые, как бы несо-
вершенны они ни были, выражают однакож самодея-
тельность ребенка, разумеется, если только со стороны
последнего нет лености и небрежности, но заметно
умственное возбуждение и внимательное пользование
прежними сведениями. Воспитатель должен также поощ-
рять эту работу питомца посредством вопросов, а
равно и сам охотно отвечать на вопросы ребенка,
если
они имеют надлежащий характер.
Но опасность заблуждения представляют нам не
только наблюдения и выводы других людей, но и наши
собственные, если они неполны или ложны. Поэтому,
наряду с умеренно скептическим отношением к сооб-
щениям других людей, воспитатель в еще большей
степени должен стараться развивать в питомце скром-
ность в оценке собственных (питомца) знаний и склон-
ность несколько сомневаться в них. Воспитатель дол-
жен при случае и в надлежащей форме (так,
чтобы не
унижать ребенка и не лишать его бодрости) указывать
471
питомцу, как мало он еще знает и как мало из того,
что он знает, правильно; он должен приучать питомца
воздерживаться от суждения в тех случаях, когда это
суждение еще не имеет достаточных оснований. Дети
в особенности склонны к преждевременным обобщениям,
на основании одного или немногих фактов. Одним
порицанием, как бы часто оно ни повторялось, эту
склонность их вряд ли можно вполне искоренить;
лучше всего, если воспитатель, после слишком
поспеш-
ного обобщения, сделанного ребенком, даст ему возмож-
ность знакомиться с каким-либо решительно противоре-
чащим его заключению фактом и таким образом убедит
даже его, без всякого дальнейшего замечания, в необ-
думанности его образа действия.
В тесной связи со сказанным находится другое
правило: стараться, чтобы группы и ряды ребенка но-
сили характер живых стремлений. Без сомнения,
каждый след есть уже известная душевная сила, но
существует большая разница, приходит
ли эта сила в
действие только путем прямого и сильного внешнего
возбуждения, или же только не прямого и слабого,
или, наконец, оказывается деятельною сама по себе,
без всякого особенного внешнего возбуждения. Так как
последнее всего желательнее, то воспитатель должен
с самого начала предоставить питомцу как можно более
самостоятельности в деле его умственных приобретений.
Так, напр., лучше, если ребенок сам собирает и иссле-
дует цветы, бабочек, минералы и т. д., чем, если
ему
показывают и объясняют готовые коллекции; лучше
предоставить ему в сомнительных случаях самому
искать правильного вывода, самому делать опыты и
усилия ума, чем сообщать ему готовый вывод *• Пусть он
* «Есть нечто чрезвычайно привлекательное в тех первых
знаниях, которые приобретаешь путем грудной самодеятельно-
сти без всякого постороннего давления Эта бедность сведений,
соединенная со стремлением к их расширению, сопровождается
милою невинностью: мы любим те немногие
предметы, которые
занимают нас не муча, и постепенно увеличиваем объем наших
сведений…» (Steffens, «Was icb erlebte»).
472
проверяет прочтенное собственными опытами и наблю-
дениями; пусть он привыкает немедленно применять
каждое вновь приобретенное практическое правило, и
вместе с тем приучается к деятельности в тех условиях,
которые он может вполне ясно представить себе и
оценить.
В этом отношении особенно важно стараться о том,
чтобы стремление к познанию приобретало выдержан-
ный и связный характер. У большей части детей оно
не идет далее непосредственного
возбуждения. Отве-
чали они на вопрос или нет, решена или не решена ими
задача: как кончился урок — они об этом более и не
думают. Между тем, воспитателю именно следует за-
ботиться о дальнейшем внутреннем развитии стремле-
ния к познанию, или, другими словами, к пополнению
новыми членами уже возникших групп и рядов пред-
ставлений. Он может, напр., задавать ребенку утром
сложную задачу, решение которой должно быть пред-
ставлено вечером или на следующий день; что заставит
ребенка,
при всех прочих разнообразных занятиях,
возвращаться к заданному уроку, и таким образом,
более или менее, постоянно удерживать его в голове.
Эти задачи можно постепенно делать обширнее, труднее и
сложнее и, таким образом, все более и более развивать
господство воли над представлениями, а с тем вместе сооб-
щать и самой, направленной таким образом, воле более
постоянства.
Мы должны обратить внимание еще на одно важное
обстоятельство.
Различные комбинации и отношения первоначально
представляются
неопределенными и как бы скрытыми
за отношениями совместности, последовательности и
различными чувствами. Из этого смешения они разви-
ваются лишь постепенно, с свойственным им особен-
ным характером: существенное и необходимое отде-
ляется от случайного, причинное следование от внеш-
него следования, пространственные комбинации от
временных, индивидуальные чувства от общечело-
веческих и т. д. Чем это отделение резче, чем каждое
473
понятие точнее характеризуется по отношению к другим,
тем и мышление происходит совершеннее. Именно этот
признак и отличает высшую степень развития рассудка
от низшей; так что смешение различных родов комби-
наций и отношений служит признаком недостаточного
его развития. И действительно, на это смешение могут
быть сведены почти все и притом главнейшие предрас-
судки. Все они состоят в том, что случайные и единич-
ные совпадения принимаются
за постоянные и необхо-
димые. Так, частое совпадение комет с эпидемиями и
войнами, или появление первых перед последними
толкуются так, что первые суть причины или знамения
последних. Излечение болезни воспоследовало при
употреблении лекарства или после него — и следова-
тельно, лекарство исцелило больного; воображаемое
признается действительным; приятное или полезное
одному признается общей обязанностью, названия
нравственного и безнравственного, вместо того, чтобы
выражать
внутреннее настроение, начинают выражать
внешние поступки, часто связанные с этим настроением,
и т. д.
Словом, большая часть человеческих заблуждений,
вероятно, исчезла бы, если бы понятия различных ком-
бинаций и отношений сохраняли свой резко опреде-
ленный, особенный характер. Воспитатели часто не
обращают достаточного внимания на это обстоятель-
ство: дурной пример, небрежность, заметное в наше
время стремление к поверхностному, так называемому
гениальному, сближению
существенно различных от-
ношений весьма благоприятствуют развитию заблужде-
ний. Следует, поэтому, как можно ранее указывать на
эти различия; пояснить их осязательными примерами;
следует быть в этом отношении строгим к самому себе,
а равно внушать ту же строгость и ребенку к себе и
другим. В особенности полезно приучать ребенка к
точному (как словесному, так и письменному) выраже-
нию мыслей. Покуда мышление сохраняет характер
внутреннего представления, до тех пор оно остается
всегда
несколько смутным, особенно у детей; если же
474
они, напротив, привыкнут выражать его в точной речи,
то это побудит их к более точному сравнению, к более
точному разграничению сознаваемого. Но этого, ко-
нечно, недостаточно. Как много заблуждений было
высказываемо и повторяемо бесчисленное множество
раз во всех науках, не только словесно, но и печатно,
без того, чтобы кто-нибудь обратил на них внимание.
Так, рано приобретенная привычка делает невнима-
тельным и невосприимчивым к сказанным
различиям;
так точно рано приобретенная привычка к правильному
и тщательному отличению их делает невозможным
их смешение, а, следовательно, обеспечивает за мышле-
нием ту силу и точность, которые служат главными
основами всякого просвещения и освобождения от
предрассудков.
Различные направления рассу-
дочного развития
Уже ранее было упомянуто, что понятия различных
форм (способов), комбинаций и отношений развиваются
путем различных процессов отвлечения; так получаем
мы
понятия сосуществования, последовательности, вещи
и ее признаков, причинности, действительности, необ-
ходимости и т. д. Но эти понятия, оставаясь понятиями,
могут вместе с тем соединяться с различными стремле-
ниями и другими возбуждающими элементами, и таким
образом становиться руководящими формами или об-
разцами. Это свойство их проявляется и в обыденной
жизни; в особенности же характеристично оно для
научной деятельности. Так одна отрасль знания (а
стало быть и лицо,
занимающееся ею) может, например,
иметь в виду главным образом наблюдение и описание
явлений, другая исследует преимущественно отноше-
ние следствий к причинам, третья — причин к след-
ствиям, или средств к цели; наконец, может быть и такой
род исследований, при котором человеческий ум пре-
имущественно направляется к определению отношений
различных чувств (родов чувств: прекрасного и отвра-
тительного, нравственного и безнравственного и т. п.).
475
Это различие зависит от того, что, в силу различных
условии первоначального развития рассудочных ком-
бинаций и отношений, одни из них могут получить
перевес, сделаться более сильными стремлениями и,
стало быть, привлекать и усиливать сходное с ними,
подавлять и отодвигать на задний план несходное, а,
следовательно, приобретать характер образцов. Таким
образом, мыслимы различные роды рассудка, завися-
щие от преобладания той или другой
особенной формы.
Хотя, конечно, в одной и той же душе возможно и рав-
новесие различных форм и свойственных им стремле-
ний, но тем не менее уже и в детях замечается часто
предпочтение той или другой формы. Один ребенок
все спрашивает: «почему?— другой «зачем?» или «для
чего?». Вся их маленькая фантазия направлена на раз-
решение этих вопросов; все содержимое их памяти
перерабатывается в эту форму и все, предлагаемое им
в другой форме, проходит для них бесследно.
Очевидно,
что и в этом случае сохраняют свое зна-
чение общие правила воспитания рассудка. Воспита-
тель не должен поощрять одностороннего развития,
ни активно, умышленно, предоставляя решитель-
ный перевес каким-либо руководящим формам; ни
пассивно, относясь безучастно к случайно возникшему
перевесу этого рода. Этот перевес, бесспорно, есть,
в известном отношении, признак гения, который не-
редко жертвует и пренебрегает всеми прочими отноше-
ниями для развития одного из них. Но воспитатель
ни
в каком случае (как будет доказано подробнее в
другом месте) не может поощрять в детском возрасте
такого изолирования способностей; напротив, если
оно даже возникло само собою, он должен всеми силами
стараться противодействовать ему, конечно, не путем
подавления или ослабления особенно выдающихся по
своей силе руководящих форм, но путем развития дру-
гих такой же, или по крайней мере, подобной же силы»
(Бенеке Ф. «Руководство к воспитанию и учению»,
ч. I, §§ 31-35).
476
5. Педагогические приложения глав о чувствах
254. Первое педагогическое приложение
Слабость научной разработки психических явлений,
известных под именем стремлений, чувствований и жела-
ний, отразилась на теории воспитания. Во всех педаго-
гиках почти без исключения главы, посвященные вос-
питанию стремлений, чувствований и страстей, самые
короткие, самые неопределенные и запутанные. Самые
противоположные страсти и стремления излагаются
очень
часто рядом *; педагогические советы излагаются
без всяких антропологических оснований и потому
всякое правило сопровождается неопределенным ко-
личеством исключений, так же мало опирающихся на
какое-нибудь основание, как и самое правило. Писа-
тель большею частью отделывается общепринятой фра-
зой, не замечая, что в этой фразе недостает определен-
ного смысла. Так, напр., говоря о раскаянии, писатель
непременно назовет его «святым», драгоценным чув-
ством (ib.), не обращая
внимания на то, что чувство
раскаяния, как и всякое другое душевное чувство, не
может быть ни свято, ни не свято и что нет ничего хоро-
шего в раскаянии человека, что он упустил благоприят-
ный случай и не сделал дурного, но выгодного для него
дела. Точно так же, разбирая чувство страха, педагог
разделяет его на физический и нравственный и, советуя
подавлять первый, советует воспитывать второй**, хотя
страх нравственного зла чаще, чем страх зла физи-
ческого, приводит человека
к проступкам и даже пре-
ступлениям.
Бесспорно, что между такими неосновательными и
даже вредными советами попадаются советы превосход-
ные, прямо выведенные из многолетнего педагогиче-
* Так, например, в классической педагогике Шварца и Курт-
мана чувства раскаяния, отвращения, стыда и даже скуки ста-
вятся рядом, хотя между этими двумя чувствованиями нет ничего
общего, и т. п. (Lehrbuch der Erzieh, und Unter., I Th., S. 317).
** Ib., S. 314. Мы увлеклись бы слишком далеко,
если бы
вздумали перечислять все эти бесчисленные промахи.
477
ского опыта и меткого наблюдения; но и эти советы
теряю! большую часть своего достоинства именно от
того, что так как психическое основание их неизвестно,
то и самое приложение к фактам жизни, представля-
ющим бесконечное разнообразие, становится затруд-
нительно. Так, напр., в большей части педагогии
встречается совет развивать в детях благородное често-
любие; но так как источники человеческого честолюбия
не показаны, то, следуя этому
совету, можно наделать
много зла и воспитать в душе зависть, злобу,— печаль-
нейшие и сильнейшие из свойств души человеческой*.
Не понимая вообще образования и жизни страстей в
душе человеческой, не понимая психического основания
данной страсти и ее отношения к другим, практик-пе-
дагог мало может извлечь пользы из этих педагогиче-
ских рецептов, не понимая ясно ни оснований болезни,
ни состава лекарства, хотя оно в сущности может быть
и очень хорошо. Полагаться здесь на один
«психоло-
гический такт», более или менее присущий каждому
человеку, совершенно неосновательно. Психологиче-
ский такт, как превосходно показал Бенеке, есть
не что иное, как «темное воспроизведение психоло-
гических опытов»**, темное и полусознательное, так
что источники приговоров нашего психологического
такта не сознаются нами ясно и отчетливо. Опыты,
из которых мы выводим наши психологически-педа-
гогические решения, может быть, были односторонни,
даже исключительно,
сделаны неверно, или ошибочно
воспроизведены нашей памятью; а самая темнота мыс-
лительного процесса, предшествующего нашему при-
говору, делает наши педагогические правила и приемы
шаткими и неверными. Конечно, xopoirfo развитой
«психологический такт» одно из существеннейших ка-
честв хорошего воспитания, «но какими бы блестящими
результатами он ни хвалился, говорит Бенеке, во вся-
* По замечанию лучших медиков, самая обыкновенная
причина помешательства есть честолюбие.
Traité de Path., par
Grisolle., t. II, p. 667.
** Benecke’s Erzieh, und Unterr., T. I, S. 15—16.
478
ком случае он не заслуживает полного доверия». Если
можно указать на отдельные случаи успеха, то еще
более можно указать случаев самого очевидного неуспе-
ха: нравственное же состояние образованного совре-
менного человека вообще далеко не таково, чтобы ру-
тинная педагогика, опирающаяся только на такт, могла
указать на него с торжеством. Если же мы не только
у педагогов-практиков, но даже и педагогов, излагаю-
щих педагогическую теорию,
встречаем иногда дурно
скрываемое отвращение ко всяким антропологическим
и психологическим анализам чувствований и стра-
стей *, то это объясняется само весьма печальной при-
чиной, на которую указывают Декарт и Кант, объяс-
няя стремление людей, предпочитающих смутное чув-
ство попыткам разума выйти на открытую дорогу,
или вообще предпочитающих «мутную воду» прозрачной.
Но защитники действенности педагогического такта,
который будто бы не следует портить прикосновением
рассудка,
защитники непосредственного педагогиче-
ского «откровения», изрекающего свои приговоры, как
пифия, без обязанности привести для них достаточные
доказательства, основанные на выводах рассудка из
наблюдения, могут спросить нас: где же та психоло-
гическая теория чувств и страстей, на которую мог бы
педагог опереться с достаточной уверенностью, что
он опирается на точно исследованный факт и верно
сделанный его анализ?
Этот упрек не имеет основания. Действительно, до
сих пор
наука почти не прикасалась к этой области:
с поразительным легкомыслием человек, изучая все,
до сих пор обходит мир чувствований и страстей, хотя
именно из этого мира выходят и его счастье и его нрав-
* Так Пальмер высказывает прямо, что он не хочет строить
своей педагогики, как то сделал Бенеке, на антропологических и
психологических наблюдениях (Evangelische Pädagogik, von
Palmer, 1862, S. 122), и сам строит на фразах самого неопреде-
ленного свойства такие педагогические проповеди,
которые, если
не принесут большого вреда, то только потому, что не могут при-
нести и ни малейшей пользы, ибо вообще ни к какому приложе-
нию неудобны.
479
ственность. Однакоже, если рутинная медицина,, про-
писывающая лекарства по преданиям, подсмеивается
над усилиями медицинской науки изучать органические
причины болезней и химические или физические при-
чины того или другого действия лекарств, то это не
мешает науке продолжать свою вековую борьбу с
таинствами природы, и немало уже медицинская прак-
тика извлекла пользы из этой борьбы, хотя результаты
ее до сих пор кажутся столь ничтожными:
результаты
эти малы;.но прекратите борьбу и последний свет в ме-
дицинской практике потухнет: она будет попрежнему
ходить ощупью в совершенных потемках и «махать
своей дубиной, которая одинаково может попасть и
по больному и по болезни».
Отсутствие всякой попытки анализа чувствований и
страстей во всех педагогиках, за исключением бенеков-
ской *, тем более замечательно, что почти ни одна из
них не упустит случая, чтобы не высказать традицион-
ной фразы о преимуществе нравственного
образования
перед умственным, а нравственное состояние и поступки
человека, конечно, немало зависят от чувств, наклон-
ностей и страстей. Как ни слабы наши положительные
знания относительно явлений в области чувств и страстей,
как ни отрывочны и мелки анализы их, но все же лучше
что-нибудь сознательное и ясное, чем то темное состоя-
ние, в котором бродит один педагогический такт, не
могущий также похвалиться результатами своей дея-
тельности.
* О педагогике Карла Шмидта
мы не упоминаем потому, что
она, построенная на френологических фактах и шеллинговских
фразах, едва ли прибавляет что-нибудь к действительному ана-
лизу чувств. Чувства у него — «гармония организма», «музыка
души»., .все, что хотите, но не такой факт, который можно изучать
спокойно и ясно. «Das Gefühl ist die bebensbeweçung, das Innewer-
den einer bestimmten Art und Weise unseres Seins, der Harmonie
oder Disharmonie unseres Organismus, das Tönen und Vernehmen
unseres tiefsten
Lebens, die Seelenharmonika» (?!) (Anthrop., 1865,
Th. II, S. 305). Что можно извлечь положительного из такого
неудержимого фразерства немецко-пасторского, каково оно у
Пальмера; мистико-научного, каково оно у Карла Шмидта;
отечески-наивные советы Шварца во всяком же случае лучше.
480
У Бенеке мы встречаем первую и до сих пор един-
ственную попытку выйти из этого темного состояния,
в котором должно бродить воспитание нравственности
человеческой, и построить правила воспитания чув-
ствований и наклонностей на психологическом анализе
тех явлений, с которыми это воспитание беспрестанно
обращается. Попытка Бенеке не только замечательна
как первая и единственная: она доставила более резуль-
татов, чем можно было ожидать от
первой попытки, и
если к этим результатам до сих пор еще никто не при-
бавил ничего нового, если даже до сих пор в педагоги-
ческих учебниках и педагогической практике не вос-
пользовались и тем, что дал Бенеке, то в этом, конечно,
не он виноват: гораздо легче читаются давно примель-
кавшиеся фразы, чем страницы книги Бенеке, посвя-
щенные этому предмету. Мы же положительно советуем
изучение этих глав в педагогике Бенеке как единствен-
ных, которые могут поставить педагога
на путь вер-
ного наблюдения и анализа тех явлений, с которыми
он ежедневно обращается.
Но несмотря на такое отношение наше к педагогике
Бенеке, мы должны сказать, что ложное метафизическое
основание его психологии не осталось без большого
влияния и на его анализ чувств и если менее повредило
его педагогике чувствований и страстей (вообще, по
его выражению, практической стороне души), то это
потому только, что проведено в ней с меньшей последо-
вательностью.
Уже то
положение, которое Бенеке не перестает
повторять, что в человеке нет ничего врожденного, ни
стремлений, ни чувств *, ставит педагога в фальшивое
отношение к предмету; но, конечно, не столь фальшивое
и гораздо менее опасное, чем то, в которое ставит,
например, Пальмер, признавая в человеке врожденное
стремление к лени, воровству и т. п. (Palmer, S. 134—
137), или Карл Шмидт, который каждую наклонность
* Benecke’s Erziehungs- und Unterrichts’lehre. В. I,
S. 158, 159, 335, 394
и т. д.
481
приписывает особенной шишке. Из чего бы ни проис-
ходило убеждение во врожденности и неизбежности
особенных наклонностей человека: из уверенности ли
в наследственности греха, о которой говорит Пальмер,
из кальвинистической ли веры в предопределение, из
френологических ли начал, из молешоттовского ли
материализма,— оно всегда ведет к магометанскому
фатализму и к магометанской же лени и беспечности,
ставя педагога на место равнодушного зрителя
совер-
шения неизменимых судеб, или развития френологи-
ческой выпуклости, или последствий молока кормилицы
и курицы, съеденной воспитанником (Молешотт…).
Конечно, в этом последнем случае можно сказать, что
во власти воспитателя дать воспитаннику ту или дру-
гу пищу и тем иметь влияние на его чувствования и
наклонности; но не надобно забывать, что сам воспи-
татель находится под теми же самыми влияниями пищи,
воздуха и других материальных причин и что, следо-
вательно,
его педагогические действия будут действиями
только этих неизбежно и неотразимо действующих
причин. Ставши на такую точку зрения на развитие в
человеке чувствований и наклонностей (все равно, как
бы мы ни пришли к ней: так ли, как Кальвин, или так,
как Молешотт), воспитательная деятельность сама себя
подрывает и становится невозможной.
Но противоречит фактам также и то положение
Бенеке, по которому он не признает ничего врожденного
в человеке: при таком взгляде воспитатель
может также
наделать много ошибок, придавши своему действитель-
но сильному влиянию такое могущество, которого оно
не имеет, и не обращая внимания на различие во врож-
денных особенностях своих воспитанников. Мы уже вы-
сказали выше (см. выше, глава …), что почти совершен-
ный недостаток наблюдений в этом отношении и полное
отсутствие научной обработки их решительно не поз-
воляют провести границы между врожденным и приоб-
ретенным в характере и способностях человека (что
заметил
и Бокль), что и подает повод то совершенно
отвергать всякую врожденность, то признавать ее все-
482
сильною*. Словом, в этом отношении воспитатель, ка-
жется, поступит благоразумно, если по недостатку
хорошо расчлененных фактов удержится от крайних
заключений и, не признавая ни врожденных доброде-
телей, ни врожденных пороков, которые, как мы пока-
жем ниже, носят на себе очевиднейшие следы своего
образования в продолжение жизни индивида из тех
впечатлений, которые он получает,— признает вместе
с тем, что уже в самом нервном организме,
наслед-
ственность особенностей которого не подлежит сомне-
нию, могут лежать задатки легчайшего и быстрейшего
образования одних наклонностей сравнительно с дру-
гими. Руководясь такой мыслью, воспитатель не пре-
дастся растлевающему фатализму и не свалит на при-
роду того, в чем он, может быть, сам виноват или
прямым своим влиянием, или тем, что допустил развиться
тем стремлениям, которые бы никогда не развились,
если бы он вступил своевременно в борьбу с ними и
отнял
у них ту пищу, которая дала им развитие. С
другой стороны, руководясь такой мыслью, воспита-
тель не будет считать возможным одинаковое воспита-
ние для всех и каждого и будет подмечать, какие
наклонности образуются в ребенке с особенной бы-
стротой и прочностью, и какие, напротив, встречают
сопротивление к своему образованию в самой природе.
• Недостаточность фактов ясно выражается в тех доказа-
тельствах, которые приводи! Бенеке в доказательство отсутствия
всякой врожденности:
«защитники врожденности,говорит он, ука-
зывают, что уже в первые годы детства ясно проявляются зна-
чительные различия в характере и способности детей; по не дума-
ют того, что в это время уже тысячи различных следов и их ассо-
циаций залегли в ребенке» (Erz. und Unter., § 80, 8. 355). Но не
значит ли это играть в-темную? Может ли кто объяснить разли-
чие характеров различием тех впечатлений, которые получает
человек в бессловесном детстве? Чем иго можно доказать, что
страсть
Линнея к изучению мира растений образовалась именно
оттого, что мать унимала его детский крик цветами? (Ib., S. 370).
Но сколько же можно показать, что самый этот факт не приду-
ман потом, как придумав, наверное, с гомеровскими героями, на
которых будто бы походил Наполеон?
483
Во всяком случае влияние внешних впечатлений в
образовании характера человеческого и даже’ его
гения, так громадно, что для воспитания открывается
такое обширное поле деятельности, которого оно в
настоящем своем состоянии и обозреть не может. Вот
что говорит Гёте по этому поводу о самом себе:
«Что я сделал? Я собрал и приложил все, что я видел,
слышал и наблюдал; я воспользовался творениями
природы и людей. Каждое из моих сочинений прине-
сено
мне тысячью различных людей и тысячью различ-
ных вещей: ученый и невежда, мудрец и глупый, дитя
и старик — принесли свою дань. Большею частью
сами того не зная, они приносили мне дары их мыслей,
их способностей, их опыта, и часто сеяли во мне то,
что я только пожал» (ib., S. 394. Словесное объяснение
Гёте напечатано в 1832 г. в Bibliothèque de Genève).
Однакоже, в чем же заключается причина, что тем)
же самым, материалом не многие воспользовались так,
как воспользовался Гёте?
Разве мы можем указать в
его детстве на такие ясные особенности во впечатлениях,
которые могли бы объяснить такое крупное различие
в развитии?
Впрочем и Бенеке, который вообще более, чем
Гербарт, удерживался опытами от крайностей, в ко-
торые могла бы завести его его теория образования души
из получаемых ею впечатлений, признает, что первич-
ные силы души (или по-нашему сама душа), как источ-
ник наших сил могут иметь у различных людей различ-
ную степень крепости, живости
и впечатлительности
(ib., § 81, а также см. Lehrbuch der Psychol., § ),
чем старается объяснить и все природные различия в
характерах и способностях людей.— Но этого недо-
статочно: не должны ли мы признать огромного влияния
состояний нашего нервного организма на историю об-
разования нашей души, и не показывает ли ясно мно-
жество наблюдений, что многие из этих состояний пере-
даются наследственно? Вот почему мы советуем воспи-
тателям одинаково удерживаться от обеих крайностей
в
этом воззрении: не считать себя всемогущими в от*
484
ношении образования характера и способностей воспи-
танника, но не считать себя и бессильными бороться
с природой, и также не успокаиваться той мыслью,
что дурная воспитательная мера будет исправлена самой
природой. И та и другая крайность одинаково вредны.
{Воспитатель всегда должен быть убежден, что сила
воспитания так велика, что ею во всем объеме он и вос-
пользоваться не может).
Другой недостаток взгляда на душу как на ассоциа-
цию
впечатлений состоит в том, что при таком взгляде,
как мы уже видели, невозможно объяснить появления
разнообразных чувствований и что сама логика требует
признать в природе человека врожденные стремления.
Основным стремлением, из которого проистекают
все прочие, мы признали стремление жить, и в этом
основном стремлении различили две формы: телесную и
душевную.
Из единства этого стремления вытекают для воспи-
тания очень важные правила. Душа человека прежде
всего стремится
жить как бы то ни было и что бы то
ни было. Чем более найдет она удовлетворения этому
стремлению в жизни телесной, тем менее она будет
нуждаться в жизни душевной тем более она будет жи-
вотной жизнью и притом еще жизнью животных низ-
шего порядка, у которых вся душевная деятельность
поглощена удовлетворением телесных потребностей.
Привести в должное равновесие телесные и душевные
стремления, а потом до того развить душевные, чтобы
они собственной своей силой взяли перевес
над телес-
ными,— это основная задача воспитания: необходимое
условие всякой дальнейшей его деятельности.
Средства для этого — двоякого рода: отрицательные
и положительные. Отрицательные средства состоят в
том, чтобы, с одной стороны, удовлетворить телесным
стремлениям дитяти как раз настолько, чтобы они успо-
коились и не мучили его своей интенсивностью; а с
другой, не распложать их чрезмерным и изысканным
удовлетворением: не давать им возможности’ жить
более того, чем
нужно для здорового состояния тела
485
и для спокойной работы души. Положительные сред-
ства состоят в том, чтобы, давая пищу душевной дея-
тельности, потребность которой уже с первых дней
жизни начинает проглядывать в ребенке, постепенно
до того усиливать ее, чтобы она сама взяла перевес над
стремлениями телесными. Большую ошибку сделает
воспитатель, если он, приняв собственную свою душу
за мерило, потребует от дитяти, чтобы душевные стрем-
ления господствовали в нем над телесными,
когда эти
душевные стремления не имеютеще достаточной для того
сферы деятельности, которая вырабатывается только по-
степенно в течение всей жизни человека. Заставлять ре-
бенка подавлять свои телесные стремления можно толь»
ко тогда, когда уже образовались у него такие душевные
интересы, на которые он может опереться в этой борьбе
со стремлениями телесными *, в таком случае и при-
нуждение не имеет уже смысла: дитя само сделает то,
к чему более стремится, и все, что может
сделать воспи-
татель, так это — доставлять воспитаннику случай
такой борьбы.
Более всего должно заботиться о том, чтобы, за неи-
мением душевной деятельности, дитя не стало искать
душевных наслаждений в удовлетворении потребностей
* Вот почему, хотя, конечно, очень хорошо, если дитя, увле-
ченное каким-нибудь душевным и еще лучше духовным наслажде-
нием, пожертвует для него своим обедом или удовольствием побе-
гать; но весьма сомнительна польза следующего совета Шварца:
мальчик
должен быть доведен к тому, чтобы он из храбрости жер-
твовал своим обедом; а девочка жертвовала им из сострадания (по-
чему девочка должна быть сострадательнее мальчика?) или чувст-
ва приличия. От этого в другой раз они откажутся от обеда уже
из убеждения в пользе этого для их здоровья» (Lebrb. der Erz. und
Unterr., von Schwarz und Curtmann. 6 Anth., t. 1, 8. 279—280).
Не говоря уже о странности употреблять сострадание как сред-
ство для укрепления здоровья, мы скажем только, что
подобный
эксперимент, если в девочке не развито еще чувство сострадания,
может иметь дурные последствия: отсюда очень может развиться
чувство досады и злобы в отношении того, кто лишил нас обеда.
Гораздо лучше не делать подобных экспериментов, а .развивать
дитя душевно и духовно так, чтобы интересы души и духа на-
чали сами, наконец, преобладать в нем над интересами тела.
486
тела, что случается только тогда, когда эти потребности
искусственным образом до того развились и оразнооб-
разились, что дитя может уже жить в них своею мыслью
долгие часы и целые дни. На этом именно и основывается
важное педагогическое правило, чтобы, с одной стороны,
не доводить дитя лишениями до сильной интенсивности
телесных стремлений, с другой стороны, сделать удо-
влетворение их по возможности проще и, главное, одно-
образнее, так
чтобы мысль ребенка не нашла себе дея-
тельности в сфере пищевых стремлений. Подвергая
дитя частому и продолжительному голоду, точно так же
можно образовать в нем обжору, как и разнообразя и
утончая стол его: в том и в другом случае детская
душа будет работать в этой телесной сфере и выработает
в ней наклонность или страсть не только к пищевым,
но и вообще к телесным наслаждениям. (Трудно найти
больших обжор, как воспитанники бурс, положительно
проголодавшие все свое детство).
Создавая
себе обширную сферу деятельности в мире
пищевых стремлений, душа погружается вообще в
мир телесных стремлений, и если стремления половые
по самому закону природы не могут еще сильно раз-
виться в ребенке, то тем не менее чрезмерным развитием
пищевых наклонностей подготовляется уже чрезмерное
развитие половых, что со временем и составит вместе
вообще преобладание сластолюбия. Эту связь давно
подметила народная педагогика, предсказывая в лаком-
ках—будущих развратников (Benecke’sErz.
und Unterr.,
$ 57, S. 235).
Мы не можем согласиться с Бенеке, что леность
вообще происходит от преобладания телесных стремле-
ний, но тем не менее не можем не признать, что это —
одна из главных причин, почему дитя может не чув-
ствовать потребности душевной деятельности в душев-
ной или духовной сфере, находя ей удовлетворение в
сфере телесной.
«Леность, говорит Бенеке, покоится на чрезмерном
накоплении сил (следов) животнорастительной жизни,
что должно необходимо
случиться, если дитя с ранних
487
лет постоянно занимают едою и перевариванием пищи.
Лакомство состоит в чрезмерном накоплении следов
приятных вкусовых ощущений и пр. Итак, эта и подоб-
ные ей дурные склонности суть всегда плоды ошибок
воспитания» (ib., § 18, S. 83),
А в другом месте:
«Леность во всяком случае есть плод ошибочного
воспитания, ибо, если у некоторых людей уже от при-
роды система, служащая к усвоению пищи, обладает
большею, чем у других, возбуждаемостью
и силою
(вот и прирожденные условия наклонностей, которых
Бенеке нигде не хочет признать), то тем не менее сама
сила, принадлежащая склонности, нисколько еще не
дана и не необходима и может во всяком случае, если
только мы имеем перед нами истинно человеческие за-
датки (мы исключаем отсюда идиотов), быть перенесена
на высшие системы. Целебное средство против такого
ложного образования (следов), где оно уже появилось,
очень просто и указывается самой природой вещи.
Не
давай ленивцу пищи прежде, чем он показал свое
прилежание} или вообще давай ему пищи менее. Так
вообще бывает и в жизни, где только в особенности
счастливые (или скорее несчастные) обстоятельства не
сделали ленивца независимым от его прилежания»
(ib., § 56, S. 331—332). Вообще Бенеке сильнее, чем
какой-либо другой педагог, вооружается против ла-
комства и, кажется, не напрасно.
В этом анализе лени и в этом рецепте против нее
выразились и хорошие и слабые стороны бенековской
теории.
Мы видим, что он не отделяет здесь раститель-
ных процессов от животных или душевных и полагает,
что сила, употребляемая на уподобление пищи, оты-
мается у души, употребляющей ту же силу на уподобле-
ние впечатлений. Истина эта, насколько она истинна,
давно уже выражена в известной латинской поговорке
(сытое брюхо на ученье глухо); но причина этого
явления вовсе не та, на которую указывает Бенеке.
Конечно, нервный организм, сильно занятый работой
усвоения пищи, в которой он,
по свидетельству физио-
488
логов * принимает деятельное участие, не может в
то же время с прежней живостью исполнять работ,
возлагаемых на него душою; но разве не видим мы фак-
тов, что люди, поглощающие необыкновенно много
пищи, в то же время необыкновенно сильно и живо
работают мыслью? Напротив, почти можно признать за
факт, что все здоровые люди, работающие много голо-
вою, и едят много. Следовательно, дело здесь не в коли-
честве пищи, которую перерабатывает
желудок. Ко-
нечно, если пищей заваливают дитя, то, растянув
ему желудок, заставляют его нервный организм рабо-
тать более над усвоением пищи, чем над усвоением сле-
дов ощущений, воспринимаемых душой, то такое непра-
вильное отношение непременно скажется недочетом в
душевном развитии дитяти; но от одного этого еще не
образуется склонность к пищевым наслаждениям; не
образуется уже собственно потому, что чрезмерное
употребление пищи уменьшает наслаждение, от этого
употребления
проистекающее. Но если выполнить
совет Бенеке, совет, до того общий немецкой педагогике,
что она занесла его даже в азбуки, и голодом вынуждать
дитя к душевному труду, тогда именно мы разовьем в
нем преобладание животных стремлений. Трудно найти
больших обжор и вообще сластолюбцев, как воспи-
танники тех, знакомых всем учебных заведений, в
которых дети положительно голодают все свое детство
и отрочество. Мы знаем один германский институт,
впрочем, очень хороший, в котором
отчасти из немец-
кой расчетливости, а отчасти по бенековскому прин-
ципу, постоянно держали детей впроголодь и кормили
их невообразимой дрянью. Что же? Дети этого инсти-
тута ни о чем не говорили так охотно, как о булках,
колбасах и т. п. Конечно, в этом виноват был не столько
институт, сколько прежнее, более изнеженное воспита-
ние детей, но для нас важно здесь только то, чтобы
показать, что пищевые лишения, обращая внимание
дитяти преимущественно на пищу, а потом интенсив-
•
( )
489
ность наслаждения при удовлетворении сильного голода
или Давно сдерживаемого желания поесть лакомой пищи,
несравненно более, чем сама пища физическим своим
действием на нервный организм, способствуют к раз-
витию и укоренению телесных наклонностей.
Руководствуясь такими основаниями, мы советуем
вообще держать дитя так, чтобы его мысль и его сердца
были по возможности менее заняты тем, что оно ест и
пьет, на чем сидит или лежит и вообще
всем тем, к чему
мы не желаем укоренить в нем наклонности.
Из такого основного положения вытекает само
собой множество воспитательных правил, из которых
мы для примера в способе вывода перечислим немногие.
1. а) Не должно приучать ребенка есть более того,
чем нужно ему для его здоровья* Если же он, благодаря
неблагоразумию самих же воспитателей, сделал ужо
эту привычку, вредную в гигиеническом отношении,
то преодолевать ее постепенно, понемногу, почти не-
заметно уменьшая
количество пищи, так чтобы быст-
рым переходом не возбудить жадности в ребенке и но
увлечь его мысль и чувствования в эту неплодовитую
сферу деятельности.— Кормить дитя во-время и до-
статочно, ни в каком случае не доводя его пищевых
стремлений до слишком большой и продолжительной
интенсивности.
б) Пищу употреблять по возможности однообраз-
ную, насколько такое однообразие допускается диете-
тикой. Качество пищи не имеет в этом отношении такого»
важного значения, как ее
разнообразие: кашами и
борщами можно точно так же обжираться, как и устри-
цами и омарами. При этом не мешает помнить, что все
дети, избалованные виденными наслаждениями дома,
делаются решительными обжорами, поступив в казен-
ные учебные заведения, поступив на их умеренный,
а иногда и суровый стол.
в) Развивать интересы душевной деятельности все
более и более, так чтобы потом дитя уже само предпо-
читало эту область, и тогда, конечно, уже возможно
ставить его в такие положения,
где бы ему приходилось
490
но собственному увлечению торжествовать над своими
телесными стремлениями; но это только в том случае,
«ели воспитатель имеет достаточно причин думать,
что душевный интерес сам по себе заставит ребенка не
думать о его телесных стремлениях.
2. Что касается в особенности до развития половых
стремлений, то можно советовать только воспитателю
употребить все предписываемые медициной средства для
предотвращения преждевременного их развития (в
этом
отношении мы можем только указать на следующие
медицинские сочинения )
3. Стремление к движению, обнаруживаемое ре-
бенком с первых минут его жизни, по мере развития ор-
ганических сил находит все более и более средств для
своего выражения. Бенеке называет это стремление
«склонностями мускульной системы» и причисляет
сюда даже стремление говорить только для того, чтобы
дать работу голосовому органу; переменять положение
вещей только для того, чтобы не оставить в покое
ножных
и ручных мускулов (Erz. und Unterr.,§ 54, S. 220) и от-
личает все эти движения, вызываемые потребностью мус-
кулов двигаться, от движений, производимых взрос-
лым с какой-нибудь целью. Но так как стремления к
движениям образуют разнообразнейшие основания че-
ловеческих действий и стоят в антагонизме с ленивой
и сонной растительной жизнью (ib., § 58), а также необ-
ходимы «для поддержания телесного, а через него и
душевного здоровья» (ib.), то Бенеке и ставит это стрем-
ление
выше пищевого и советует давать ему свободу
и доставлять случай развиваться; но однакоже видит
опасность и в том, если чрезмерное удовлетворение
этому стремлению оставит слишком много следов:
именно этому обстоятельству он приписывает неудержи-
мую наклонность к шалостям.
Мы думаем, что Бенеке должен был строже отделить
движения, причина которых находится в потребностях
души, от движений, причина которых точно так же, как
причина пищевых стремлений, отражается в душе из
нервной
системы. Чисто телесную потребность движений
491
испытывает и взрослый, если мускулы его находятся
долго в неподвижном состоянии. Но едва ли только
одна эта причина заставляет ребенка двигаться. Уже
через несколько недель его жизни мы замечаем це-
лесообразность в его движениях; но чтобы достичь
этой целесообразности, чтобы, например, не только
схватить желаемый предмет, но даже протянуть руку
по направлению к предмету, ребенок должен был сде-
лать множество целесообразных опытов, так
как эти
движения уже необыкновенно сложны и предполагают
множество приобретенных опытом знаний, в чем мы
вполне согласны с Беном *, никак не приписывая необъ-
яснимому инстинкту того совершенства движений уже
в трехмесячном ребенке, которое, видимо, формируется
на наших глазах. Принимая все это в расчет, мы должны
признать, что сознательные опыты над движениями
своего собственного тела начинаются в ребенке уже с
первых дней его жизни. Вот почему мы не можем видеть
в телесных
движениях дитяти одно удовлетворение
телесным стремлениям: в этих движениях принимает
участие и душа и извлекает из них такую же пользу
для своего развития, как и тело. Если же в детях заклю-
чается гораздо больше стремления к движениям, чем
во взрослом, то независимо от особой быстроты мускуль-
ного развития в детском возрасте, это может часто
происходить и от той причины, что движение для дитяти
есть единственная практическая деятельность его души:
шалость и игра — это весь
мир практической деятель-
ности для ребенка.
Из этого двоякого отношения движений к душевной
деятельности вытекают уже сами собой соответствую-
щие педагогические правила. Перечислим из них глав-
нейшие:
а) Телесная потребность движений в дитяти должна
быть вполне удовлетворена. Здесь нечего, как в пищевых
стремлениях, бояться избытка, если только дитя не
* . . . .
492
вынуждается к движениям чем-нибудь другим, помимо
потребностей тела: сама усталость кладет предел,
делая неприятными и тяжелыми движения, переходя-
щие за этот предел. Чем ранее детство, тем более пол-
ной свободы движений должно быть предоставлено
ребенку.
б) Но в стремлении к движениям педагог должен
видеть не одно телесное, но и душевное стремление,
следы которого сохраняются не только укрепляющи-
мися мускулами, но и душою. В движениях
совершаются
первые опыты дитяти в его отношении к внешнему миру,
первые попытки осуществления его идей и желаний;
первое развитие чувства смелости и осторожности
и т. д. Имея это в виду, воспитатель должен стараться
сменить бесцельные движения целесообразными, как,
например, занятие садовыми или полевыми работами,
или занятие каким-нибудь производством, требующим
не только телесной силы и ловкости, но и умственных
соображений. С этой целью должно приучать ребенка
как можно
ранее обходиться без прислуги и посторон-
них услуг, взяв себе в этом случае за правило прекра-
сные слова шиллеровского Телля, когда он, на прось-
бу сына поправить ему испорченный лук, отвечает:
«Ich — nichts. Eine rechte Schutze hilft sich selber».
Все, что может дитя сделать само, должно само сде-
лать, и оно привыкнет находить в этом великое удоволь-
ствие, а главное — воспитает в себе не фальшивое,
а истинное чувство независимости, которое, как мы
видели, все основывается
на личном труде, опирается
на уверенности в своих силах.
в) Следует ли заставлять двигаться детей, мало
подвижных от природы? Со стороны физических усло-
вий на этот вопрос должен отвечать медик. Во всяком
случае мы советуем соблюдать в этом отношении вели-
чайшую осторожность и постепенность. Подвижность
так врождена ребенку, что отсутствие ее есть указание
на какие-нибудь важные физические причины, которые
должны быть исследованы медиком. Но часто непо-
движность ребенка
имеет душевную причину. Так, если
493
ребенку запрещать или мешать резвиться, то силы его
души могут обратиться в другую сторону — сосредо-
точатся на пищевых наслаждениях (сидячие обжоры
и лакомки) или на наслаждениях душевной работы.
Есть дети, которые с ранних лет любят, сидя или даже
лежа, создавать всевозможные воздушные замки, слу-
шать сказки, а впоследствии читать романы или даже
что ни попало, только бы давать работу своему вооб-
ражению. О вредных следствиях такого
одностороннего
развития теоретической стороны души мы сказали уже
выше *.
г) Но если одностороннее увлечение умственной
деятельностью вредно, то и одностороннее увлечение
деятельностью телесной также имеет дурные послед-
ствия. Если дитя привыкает находить удовлетворение
потребности не телесной уже только, но и душевной дея-
тельности единственно в телесных движениях, то, как
справедливо замечает Бенеке, оно делается до того
шаловливым и подвижным, что неспособно сосредото-
чить
своего внимания ни на каком умственном пред-
мете. Понятно, что при таком направлении, если оно
не будет ограничено во-время, может при телесной
силе и ловкости образоваться значительная умственная
бедность, что и замечалось еще в древности на атлетах,
приготовлявшихся исключительно -к гимнастическим
зрелищам.— Здесь не телесное развитие берет власть
над душевным (сильное и ловкое тело не мешает, а скорее
способствует правильно развиваться душе), но одно-
стороннее душевное
развитие, состоящее из следов
телесных движений, мешает укоренению и развет-
влению ассоциаций, состоящих из следов другого рода.
д) К чрезмерным телесным движениям часто побу-
ждает детей соревнование со старшими, отчего может
произойти и значительный вред для ребенка, так
как он уже этим легко переходит за пределы, указы-
ваемые природой в телесной потребности движений.
* См. выше, глава…
494
Душевное стремление к сознательной деятельности
вообще. То верховное значение, которое имеет это
стремление в жизни души, само собой уже указывает
на его значение в воспитании, всю главнейшую задачу
которого можно с формальной стороны выразить двумя
предложениями: первое — открыть человеку возмож-
ность отыскать такую бесконечную и беспредельную
душевную деятельность, которая была бы в состоянии
удовлетворить вполне и всегда прогрессивно
возра-
стающему требованию души, и второе — приготовить
его достаточно к такой деятельности. На стремление
К душевной деятельности воспитатель должен смотреть
как на главное жизненное требование души и в правиль-
ном, смотря по цели воспитания, удовлетворении этому
стремлению видеть свою главнейшую цель и главнейшее
средство своего воздействия на развитие воспитанника.
Чего не требует душа, того дать ей нельзя; но прежде
всего и всякая человеческая душа требует деятельности
и,
смотря по роду этой деятельности, которую дает ей
воспитатель и окружающая среда и которую она сама
для себя отыщет,— такое направление и примет ее
развитие. От недостаточной оценки этой основной пси-
хологической истины происходят главные ошибки и
еще чаще упущения и в педагогической теории и в
педагогической практике. Почти во всякой педагогике
в числе других стремлений встречается и стремление
к душевной деятельности; но ему отводится место
далеко не то, которого оно заслуживает
по своему
значению *• Мы же видели, что это главное, основное
стремление, из которого проистекают все другие, что от
правильного удовлетворения его зависит все счастье
• Так, см. Schwarz and Curtmaon, § 92; Карл Шмидт и др.
педагогов. Пальмер посвящает ему едва несколько слов (Evang.
Pädagogik, 8. 284). Бенеке упоминает и о нем в числе других на-
клонностей по’сродству, как-то—сребролюбие, властолюбие и т.д.
(Erz. und Unterr.,S 226), хотя ясно, что окончательная цель всех
ваших
душевных стремлений есть та или другая душевная дея-
тельность. Впрочем, надобно отдать справедливость Бенеке, что
удовлетворению этого стремления он придает особенную важ-
ность в деле воспитания (см. S. 200, 201, 207, 376 и др.).
495
человеческой жизни и, что, следовательно, на этом, удо-
влетворении должна сосредоточиться главнейшая за-
бота воспитания. Мы не можем поставить этого стремле-
ния в числе других наклонностей, как делает это Бе-
неке, потому что все другие наклонности происходят
из того или другого привычного удовлетворения этому
коренному стремлению души; мы не можем даже на-
звать его наклонностью, потому что наклонности под^
разумевают уже определенное
содержание, а здесь
мы рассматриваем стремление к деятельности только
с его формальной стороны. Особенности тела, с одной
стороны, и особенности человеческой души, с другой,,
дают содержание этому коренному душевному стрем-
лению, но об особенностях души человеческой мы гово-
рим здесь только там, где уже не сможем обойтись без
этого.
Бели бы мы захотели выставить здесь все педаго-
гические правила, которые проистекают сами собой из
такого взгляда на отношение душевной
деятельности
ко всей жизни человека, то мы должны были бы внести
в эту главу большую часть педагогики, так как почти
все ее правила вытекают посредственно или непосред-
ственно из основного положения: давайте душе воспи-
танника правильную деятельность и обогатите его
средствами к неограниченной, поглощающей душу дея-
тельности.Но мы ограничимся здесь только указанием,
в отношении к этому основному положению, на суще-
ственнейшие воспитательные правила, из которых про-
истекают
все остальные.
а) По стремлению дитяти к деятельности воспита-
тель всего вернее может судить о природной силе его
души. Но в этом случае следует остерегаться от ошибки,
когда, не заметив, может быть, очень сильной душевно»
деятельности в какой-нибудь сфере, не обратившей,
нашего внимания, мы несправедливо заподозриваем
душу вообще в слабости только потому, что она оказы-
вается слабо деятельною в той сфере, куда мы ее при-
виваем. В этом отношении встречаются очень часта
поразительнейшие
промахи, и дитя, которое считается
496
•бездарнейшим в школе или семье, нередко оказывается
впоследствии даровитейшим: даровитость эта, конечно,
не является вдруг и из ничего; но дело только в том,
•что сильная душевная работа совершается в ребенке
помимо тех сфер, которые открывает ему воспитатель.
Воспитание схоластическое, одностороннее, узкое, из-
меряющее и жизнь и успехи воспитания на какую-ни-
будь коротенькую мерку, более всего способно наделать
таких промахов, и в школе,
построенной на таких прин-
ципах, на первых скамьях сидят обыкновенно бездар-
нейшие, а на последней даровитейшие дети. Положим,
например, что в подобную школу поступает чрезвы-
чайно восприимчивый и даровитый мальчик, в душе
которого домашняя жизнь, игры и шалости с товари-
щами, влияние природы, рассказы, а, может быть, и
чтение — заложили множество глубоких следов, из
которых его деятельная душа вынесла множество об-
ширнейших ассоциаций, а школа хочет втиснуть в эту
душу
зубрение каких-нибудь склонений или заучивание
наизусть монотонных и бесцветных страниц учебника.
Отсюда понятно, что подобное дитя, несмотря на всю
свою даровитость, может оказаться ленивейшим уче-
ником.
Из этого вытекает снова несколько правил, из кото-
рых укажем только на два главнейшие:
Первое. Не должно никогда слишком опаздывать
с ученьем в отношении развития дитяти. Если вредно
учить дитя, не развивая, то точно так же вредно сначала
сильно развить его, а потом
усадить его за скучнейшие
вещи, какими обыкновенно бывают первые начала наук.
Развитие и ученье должны итти рука об руку, не упреж-
дая друг друга *.
Второе. Должно устроить ученье и школьную и
* В этом отношении Руссо делает громадный промах и его
Эмилю, уже чрезвычайно развитому юноше 14 или 15 лет при-
дется заучивать первые факты истории, усваивать годы и имена,
без которых преподавание истории, как ее ни излагай, все же
невозможно. Точно так же он хочет читать с ним классиков!
но
когда он выучил его латинским и греческим склонениям?
(Emile, Livr. IV, p. 262 и др.).
497
домашнюю жизнь дитяти так, чтобы душа его находила
в них по возможности многостороннее и обширное
удовлетворение. Воспитатель должен иметь по возмож-
ности обширный взгляд на жизнь и успехи детей и не
оставлять так называемых лентяев до тех пор, пока не
узнает, к чему уже образовалась у них склонность, в
которой душа их находит удовлетворение своему стрем-
лению к деятельности, которое в большей или меньшей
степени, но непременно есть во
всякой живой душе.
б) Трудно решить, может ли воспитание усилить
или ослабить прирожденную силу души, выражающую-
ся в ее стремлении к деятельности. Мы скорее думаем,
что нет. Но всегда в большей или меньшей власти вос-
питания отвлечь душевную деятельность от сфер непро-
изводительных, ложных или даже ^вредных и сосредо-
точить ее в сферах производительных, полезных и
допускающих бесконечное расширение, требуемое че-
ловеческой природой.
в) Но искореняя какую нибудь бесплодную
или
вредную наклонность воспитанника, т. е. разрушая
привычную сферу его душевной деятельности, воспи-
татель не должен забывать, что, если это ему и удастся,
то сила, оставшаяся свободной, потребует себе поме-
щения и если не найдет такого, какое следует, то обра-
тится в прежнюю или создаст новую, может быть, еще
худшую. Вот почему Бенеке совершенно справедливо
замечает, что искоренение порочных наклонностей не
может быть только отрицательным, а должно быть
вместе и
положительным, т. е. заменить одну сферу
душевной деятельности другою. Если нельзя увеличить
душевную силу, данную каждому от природы, то едва
ли также можно ее и ослабить, тем менее уничтожить.
Возьмем для пояснения самый яркий пример. Поло-
жим, что в руки строгого воспитателя попался мальчик
с большою душевною силой, но которая вся уже нашла
себе помещение в самых дурных наклонностях. Поло-
жим, что воспитатель, преследуя с неумолимой стро-
гостью эти наклонности бдительным
надзором, угро-
зами и наказаниями, совершенно уничтожит возмож-
498
ность их удовлетворения, что называется, сломит
испорченную душу, но в то же время не увлечет ее
в другие полезные сферы деятельности. Вот, кажется,
и уничтожена сила души: дитя стало робким, послуш-
ным, молчаливым, не выказывает упрямства, не делает
ничего дурного. Но нет, сила души не уничтожена,
даже не-ослабела: она сосредоточила всю свою деятель-
ность в ассоциациях, составленных под влиянием чув-
ства страха и негодования и из шаловливого
испорчен-
ного мальчика делается трусливый негодяй, который
именно из чувства страха наделает более дурных дел
в жизни, чем наделал бы руководимый чувством дер-
зости и упрямством. Из такой воспитательной пере-
делки выходят большей частью те люди, которые из
боязни бедности, презрения, низкого общественного
положения берут взятки, обкрадывают казну, нару-
шают правила чести в отношении друзей, унижаются,
готовы на все на свете, только бы обезопасить, обеспе-
чить себя
и свою семью от всех случайностей. Вот
куда пошла сила души, которую, казалось, удалось
подавить строгому воспитателю. Понятно само собой,
что особенно сильное внимание на этот (порок) должно
обращаться в заведениях, назначенных для испорчен-
ных детей и малолетних преступников (так называемых
Rettungs-Anstalten), потому что эти дети, по большей
части, обладают сильной душой, быстро наделавшей
прочных и обширных ассоциаций в дурном направле-
нии *.
* Мы имеем причину думать,
что лучшее и может быть един-
ственное средство исправлять таких бедных детей есть сельские
работы, при которых бы сами маленькие работники были по-
требителями своих произведений. Конечно, сельские работы, по
возможности разнообразные, должны сопровождаться ученьем;
но не ученье здесь главное, а жизнь посреди природы, полная
сельских забот. Одно из лучших заведений в этом роде, Бех-
телен, невдалеке от Берна, держится именно такой системы.
Несмотря на то, что туда принимаются
малолетние бродяги и
преступники всякого рода, исключая поджигателей (которые
прежде, чем их исправят, наделали бы маленькой и небогатой
колонии большой беды), почти нет случаев, чтобы из нее на
выходили честные и хорошие работники.
499
г) Чем сильнее душа, тем большая сфера деятель-
ности ей нужна и тем опаснее не дать ей удовлетворения,
потому что она в короткое время успеет прорыть для
себя глубокое русло, может быть, в дурном направлении.
д) Не нужно ни в каком случае доверяться быст-
рым исправлениям,, потому, что сфера душевной дея-
тельности вырабатывается душою только постепенно и
лучше смотреть вначале сквозь пальцы на менее вред-
ные наклонности дитяти, чем разом
прекратить исход
душевной силы, так как ей необходимо нужна деятель-
ность, которая бы ее поглощала.
е) Ни один воспитатель, как бы ни была неусыпна
и обширна его деятельность, положительно не может
руководить всею душевной деятельностью даже немно-
гих воспитанников, и поэтому он должен окружать их
такой сферой, в которой они легко могли бы найти
деятельность, если не полезную, то, по крайней мере,
не вредную.
ж) По самому характеру душевной деятельности,
который
мы очертили выше, она в одно и то же время
должна итти в одном направлении и быть постоянно
нова; т. е. должна развиваться прогрессивно. Воспи-
татель не должен забывать, что, чем более деятельность
обращается в привычку, тем более теряет она характер
душевной деятельности и оставляет свободными силы
души. Отсюда слишком ясно вытекают многие педаго-
гические правила, чтобы их нужно было перечислять
здесь.
з) Душевная деятельность не должна быть слишком
однообразна, потому,
что направленная в одну и ту же
сторону, она не может еще у дитяти достичь такого раз-
вития, которое бы удовлетворило душе. Но она не долж-
на быть и слишком разнообразной, чтобы сила души
не растратилась на мелочи.
и) Для людей бедных, которым жизнь уже сама
по себе задает довольно работы, дело воспитания
состоит только в том, чтобы заставить их полюбить
труд ради труда и подготовить их к нему. Для людей
обеспеченных дело воспитания сложнее: оно должно
500
развить их так, чтобы они сами могли найти себе беско-
нечно прогрессивный труд в жизни,— а это не легко.
Если мы ограничиваемся здесь этими немногими
педагогическими приложениями выставленного нам»
основного закона души, то это и потому, что мы и при
изложении других законов будем постоянно к нему
возвращаться.
Стремление души к самостоятельности или (свободе).
Из тесной связи этого стремления с основным стремле-
нием к душевной деятельности
мы уже можем вывести
всю необходимость воспитывать это стремление пра-
вильным образом и при этом с самых ранних лет, так
как оно проявляется в ребенке с первых дней его жизни.
Только та деятельность дает счастье душе, сохраняя
ее достоинство, которая выходит из нее самой, следова-
тельно, деятельность излюбленная, деятельность сво-
бодная; а потому, сколько необходимо воспитывать
в душе стремление к деятельности, столько же необ-
ходимо воспитывать в ней и стремление к самостоя-
тельности
или свободе: одно развитие без другого, как
мы видели, не может подвигаться вперед.
Воспитательные правила, вытекающие из нашего
анализа стремления к свободе, ясны. Перечислим глав-
нейшие из них:
а) Так как свобода воспитывается не отсутствием
стеснений, но, напротив, преодолением их, опытами
сладости свободы, которая чувствуется почти только
в минуту удаления стеснения; то ясно, что чем более
сделает дитя таких опытов, тем более окрепнет и разо-
вьется в нем стремление
к свободе; чем более стеснений
оно опрокинет, тем более полюбит свободу. Но большая
разница: само ли дитя преодолеет стеснение или оно
будет удалено другими; чем менее чувствовал ребенок
стеснения, тем менее отведает он сладость свободы. Но,
как мы ясно увидим ниже, стеснения, которых человек
преодолеть не может и от которых он обращается
вспять, развивают в нем чувство страха, а не стремле-
ние к свободе. Из этого воспитатель легко уже выведет,
что стремление к свободе воспитывается
только теми
501
стеснениями, которые дитя может само преодолеть и
действительно преодолевает; а из этого уже сама собой
выходит и необходимость доставить воспитаннику воз-
можно большее число случаев делать такие опыты»
б) Как мы видели, есть истинное и ложное стремле-
ние к свободе. От истинного ложное отличается тем,
что в нем руководит человеком не стремление к излюб-
ленному им делу, ради которого он ищет свободы, но
к самой свободе без всякого содержания,
к наслажде-
ниям ею, делающим это наслаждение безвредным для
души и, следовательно, законным. Если такое лож-
ное стремление к самостоятельности, повторяясь, удов-
летворяясь часто, устанавливается в наклонность, то
образуется упрямство,— недостаток, свойственный не
одним детям, но и взрослым, даже целым народам.
Упрямство такое резкое явление в детской жизни
и так надоедает воспитателям, что, конечно, ни один
педагог не упускает случая, чтобы не поговорить о нем
и не
прописать каких-нибудь средств против такой
детской душевной болезни. Но мнения педагогов об
этом предмете чрезвычайно различны: одни видят в
упрямстве наследственное расположение (так, напр.,
Арндт считает его последствием браков по расчету *),
и это довольно верная заметка, но, конечно, тут вино-
вата не наследственность, а прямое влияние на детей
холодных и упрямых отношений между родителями;
Пальмер, кажется, подозревает в нем вмешательство
нечистого духа **; Шварц приписывает
прямо дурному
воспитанию ***; Бенеке, конечно, видит в нем только
особенную ассоциацию следов****. Также различны
* Palmer ‘s Evang. Päd., S. 230, Anm.
*• Palmer’s Evangelische Päd., S. 230.
*** «Если не было бы неблагоразумных родителей, то не
было бы и упрямых детей: ни один недостаток не дает возможно-
сти делать такого верного заключения о вине людей, окружаю-
щих дитя» (Schwarz und Curtmann, § 104, S. 350).
**** Benecke’s Lehrb. der Psychol., § 180 и 181. Здесь
опять
ясно видно, в какое затруднение приходит психология, от-
вергающая прирожденность стремлений, при объяснении упрям-
ства, в котором собственно выражается стремление ни к чему»
как к удалению всякого стеснения.
502
и средства, предлагаемые против упрямства детей:
одни советуют более переламывать его во что бы то
ни стало, и сердобольному Пальмеру, например, сильно
нравится энергическое выражение: «лучше сын мертвый,
чем упрямый»*, другие, как, напр., Руссо, советуют
класть раскапризничавшегося ребенка в постель и
лечить его (чем?) **. Всего вернее, конечно, смотрит
на упрямство и на средство предупреждать его образо-
вание, а если оно уже образовалось,
то на средство
ослаблять его, Бенеке***, но и он, не признав врож-
денности стремления к свободе, тем самым лишил себя
возможности уяснить настоящую природу упрямства.
Упрямство, как мы уже видели, есть не более, как
извращенное стремление к свободе. Бенеке справедливо
замечает, что с первого раза трудно отличить, отчего
происходят настойчивые требования дитяти: от того ли,
что ему действительно хочется того или другого, или
только оттого, что ему не дают того, что он хочет:
в
первом случае это страсть с положительным содержа-
нием; во втором одно упрямство. Положительные стра-
сти, как мы увидим ясно ниже, не могут быть обширны
и сильны в детской душе, но зато и не находят себе в
ней противодействия: страсть ребенка не велика, но
зато он сам весь в своей маленькой страсти. Положим,
ребенку что-нибудь обещали; это обещание пробудило
в нем самые живые представления, и в ожидаемом
счастьи он сулит себе такое море наслаждений, что взро-
слому
и вообразить себе трудно, как можно так сильно
интересоваться такой безделицей. Не исполнится обе-
щанное,— и горе ребенка, кажется, не знает пределов;
но через минуту он уже утешен другой безделицей.
Следовательно, тут не было сильной, укоренившейся
страсти; но она была довольно сильна, чтобы на минуту
* Palmer’s Evang. Päd., S. 229. Почти того же
мнения держится другой евангелический педагог Борман —
«Vorträge über Erz. und Untern., § 193 — справиться.
** Руссо, Эмиль, —
справиться.
*** Erz. und Unterr., § 44, S. 182, 183, а также § 53, S. 249 и
потом § 66, S. 264.
503
подавить все еще слабые и, главное, разорванные, не
связанные между собой ассоциации детской души. Если
в этом случае ребенок сердится, плачет, кричит, то в
этом высказывается страстное состояние души его, но
не упрямство. Если, желая его утешить, ему подают
другие предметы, а он их бросает, то и тут еще не видно
упрямства; но если, наконец, ему дают тот предмет,
который он так страстно требовал, а дитя и его бросает,
тут уже обнаруживается
начало упрямства.
Из этого уже видно, что само по себе упрямство
зародиться не может; но врожденное каждой душе
стремление к деятельности и притом деятельности
самостоятельной, сила которой при встрече с препят-
ствиями выражается в настойчивости их преодоления,
может, под влиянием внешних обстоятельств, извра-
титься в упрямство. И сила правильного стремления,
и сила извращенного выражаются одинаково в настой-
чивости желаний и действий, направленных к одной
цели. Но
извращение нормальной силы стремления к
предмету в упрямство начинается тогда, когда человека
менее увлекает уже самый предмет, чем преодоление
препятствий, закрывающих его собою. Само собой ра-
зумеется, что сколько драгоценна в характере нормаль-
ная настойчивость, столько же может быть вредна
настойчивость извращенная, и что воспитатель первую
должен развивать, а против второй бороться.
Извращение нормальной настойчивости может про-
исходить от различных причин. Одной из
обыкновен-
нейших является раздутое самолюбие: человек не хочет
сознаться в своей ошибке, хотя и видит ее, стыдится
уступить, хотя и признает разумность требования.
Такое упрямство, происходящее от ложного стыда,
очень часто появляется, например, в школах, где дитя
перед своими товарищами стыдится уступить правиль-
ным требованиям наставника или другого товарища.
Иногда в упрямстве большую роль играет чувство
недоверия, нелюбви или даже и ненависти к тому,
кому должно
дитя уступить, — это уже упорство,
очень вредный вид упрямства, легко развивающийся
504
в злобу. Весьма часто скрытой причиной упрямства
бывает врожденное человеку чувство права, или, лучше
сказать, равноправности, сопровождаемое ложным или
верным представлением: дитя считает себя вправе
поступить по своей воле и настаивает на своем поступке,
хотя содержание его сделалось уже для него безраз-
личным,— это своеволие, которое хотя и истинно в своем
основании, но, переступив пределы, делается чрез-
вычайно вредным для самого
дитяти, развивая в нем
неуступчивость, неуживчивость, придирчивость. Иног-
да, и чаще всего у детей, чрезмерная настойчивость
желаний есть прямое следствие раздражения нервной
системы, которое, будучи вызвано препятствием, дей-
ствует уже потом само по себе в данном направлении,
хотя самый предмет желаний, закрываемый этим препят-
ствием, перестал уже привлекать душу: это уже каприз,
и раскапризившееся дитя начинает бросать и тот
предмет, из-за которого капризилось. Капризное
упрям-
ство происходит уже не от силы, но от слабости воли,
не могущей совладать с расходившимся нервным орга-
низмом, и в нем, как и вообще при действии нервной
системы, проглядывает чрезвычайно много рефлектив-
ного*, неудержимого, истерического, и у женщин очень
часто оно переходит в действительно истерические бо-
лезни.
Все эти виды упрямства— более или менее невольные,
непредумышленные, но бывает еще упрямство, прямо
рассчитывающее на то, чтобы своим надоедающим выра-
жением
добиться желаемого. Понятно, что такое, очень
вредное, предумышленное, рассчитанное упрямство мо-
жет развиться в дитяти только тогда, когда ему удалось
уже несколько раз криком, слезами, надуванием и
т. п. проделками достигнуть желаемого. Особенной
характеристикой этого упрямства является некоторая
холодность в его выражении: дитя упрямится как бы
по закону, играет комедию упрямства. Такое превраще-
ние каприза и упрямства в средство-наклонность, по
* См. выше, глава….
505
выражению Бенеке *, может образоваться, несмотря
на свою видимую сложность, в самом раннем детстве,
если неблагоразумные родители и воспитатели, не удов-
летворяя во-время законным требованиям ребенка,
удовлетворяют даже и незаконным тогда, когда он вынуж-
дает их к этому надоедающими криками и капризами;
понятно, что при таком образе действий крики и капри-
зы являются для ребенка весьма естественным средством
получить желаемое.
Все
эти виды настойчивости, как нормальной, так
и извращенной, по большей части одинаково называются
упрямством, и потому часто неразборчивый воспита-
тель, думая подавлять упрямство и приучать детей
к повиновению, разрушает начинающую формироваться
у них самостоятельность характера, которою он должен
был бы дорожить, как драгоценнейшим сокровищем.
Повиновение в детях необходимо: повиновение есть
нравственность детей, справедливо говорит Гегель **.
Воспитатель для воспитанника
представляет собой разум,
который у последнего еще недостаточно созрел, чтобы
он мог им руководиться; воспитатель, по справедли-
вому замечанию Бенеке***, представляет для воспитан-
ника и совесть, которая у дитяти еще недостаточно
выразилась и окрепла, воспитатель, наконец, представ-
ляет для воспитанника и волю, которая подкрепляет
собственную волю дитяти, где ее силы не хватает в борьбе
с минутными увлечениями, трудностями исполнения
обязанностей, или с вредными наклонностями,—
все
это совершенно справедливо и служит разумной осно-
вой детского повиновения, без которого никакое вос-
питание невозможно, но воспитатель не должен забывать,,
что он воспитывает не раба себе и другим, а сво-
бодного, самостоятельного человека, который со време-
нем повиновался бы только своему разуму и совести
и имел достаточно энергии, чтобы выполнять их тре-
бования и вообще достигать того, к чему стремится.
* Erzieh ….
** Hegel. …
*** Benecke’s…..
506
Вот почему, противодействуя извращенной настойчи-
вости везде, где ее встретит, воспитатель должен береж-
но охранять прямую, нормальную настойчивость, из
которой, правда, может развиться много дурного, но
без которой ничего не может быть сделано и хорошего:
это сила, которая может одинаково пойти и на хорошее
и на дурное, но без которой человек — игрушка других
людей и случайных влияний, беспомощное и безлич-
ное создание, неспособное
заявить своего существо-
вания в мире никаким самостоятельным делом.
О прямом развитии нормальной самостоятельности
характера мы будем еще говорить в педагогическом
приложении глав о воле, где этот важный предмет
•станет для нас яснее; здесь же мы в особенности скажем
о борьбе с упрямством.
Для воспитателя недостаточно еще отличить нор-
мальную настойчивость от извращенной или упрям-
ства и, давая всю возможность развиваться первой,
подавлять второе; но он должен еще различать
причины,
от которых происходит упрямство, и действовать против
причин, а не против их проявления. Так, положим,
например, что причина упрямства дитяти есть ложно-
понятый стыд перед товарищами. Хотя это стыд и
ложный, но все же это не дурное качество само по себе
и, заставляя дитя переламывать этот стыд страхом
наказаний, воспитатель легко может превратить стыд-
ливость в бесстыдство, чего, конечно, он не может
желать. Тут надобно изменить ложное понимание ди-
тяти, а
понимание от наказаний не зависит. Иногда в
целых классах и целых школах заводятся такие лож-
ные понятия о чести, а вследствие того и ложный стыд
в отношении, например, повиновения наставнику, что
всякая дисциплина делается невозможной; но в уко-
ренении таких ложных идей виноваты сами же воспи-
татели: это зло без вреда для души и характера воспи-
танников можно искоренить только исправлением их
понятий, а главное внушением уважения, любви и
доверия к воспитателю. Наказания
же здесь одни или
совершенно бессильны, или преоделеваются страхом;
507
но что же преодолевают? Стыдливость детей и их
чувство чести. Если же такое упрямство происходит
от личного, слишком раздутого самолюбия, то всего
лучше устроить дело так, чтобы оно само себя наказало
глупостью своих последствий.
Упрямство, или, как мы назвали его, упорство,
происходящее от нелюбви ли, или даже от положи-
тельной ненависти к воспитателю, если и может быть
сломлено наказаниями, то последствия такого пере-
лома — трусость,
скрытость, тайная злоба и т. п. Тут
одно средство — переменить чувства, из которых выте-
кает упорство: если же воспитатель не может внушить
ни уважения, ни любви к себе, то пусть лучше оставит
дело воспитания, если он поставлен в такое положение,
что всякая досада ему будет радостью для воспитанни-
ков, и не может изменить этого положения, то он уже
не воспитатель.
Бывают, впрочем, случаи, что в целом классе бывают
два-три характера до того испорченные, что для них
всякое
повиновение всякому воспитателю кажется
оскорбительным и всякое неповиновение как бы долгом
совести. В отношении характеров такого рода едва ли
не лучше обходить всякое прямое столкновениет с их
упорством и обходить сознательно, и, главное, спокойно,
выражая это самому воспитаннику; если при таком
образе действий в нем не пробудится сознание всей
незаконности или глупости своего упорства, то и пря-
мой борьбой с этим упорством нельзя достичь никаких
хороших результатов. Но
само собой разумеется, что
такие упорные характеры не следует избавлять от
взысканий, вообще принятых в классе или в школе,
но не иначе, как наравне со всеми другими воспитан-
никами, не выказывая никакого особенного раздра-
жения и не только не изыскивая встречи с таким упор-
ством, но открыто и сознательно избегая ее.
Если причиной упрямства является сознание своего
права, то лучше всего ставить дитя в такое положение,
в котором бы он сам почувствовал необходимость по-
ступиться
своими правами. Так, дитя, которое своей
508
неуступчивостью и придирчивостью портит игру, сле-
дует без всяких наказаний удалять из игры, предостав-
ляя ему играть одному и т. п.
Упрямство капризное, сопровождаемое нервным раз-
дражением, с нравственной стороны излечивается
всего лучше невниманием к капризу. Конечно, очень
скучно слушать крики и капризные рыдания ребенка,
но надобно всегда помнить, что равнодушие со стороны
воспитателя есть в этом случае действитёльнейшее и
безвреднейшее
лекарство. Но так как нервное раздра-
жение может быть в то же время следствием действи-
тельной физической болезни, то в то же время следует
принимать и медицинские меры. В иных болезнях,
впрочем, раздражение до того становится вредным и
опасным, что хотя, как говорит Жан-Поль-Рихтер,
«еще ни один ребенок не умер от хороших воспитатель-
ных мер», но в этом случае хорошей воспитательной
мерой будет некоторая уступчивость, а главное, зоркое
предупреждение всего, что могло бы
раздражать per
бенка *. Часто случается, что какая-нибудь обстановка
и какое-нибудь время дня, как справедливо замечает
мисс Эджеворт, непременно вызывает в дитяти каприз;
так, иное дитя непременно капризничает во время
обеда, другое — при одеваньи и т. п. Установившись
раз, эта привычка каприза не легко искореняется:
в этом случае полезно переменить обстановку при при-
ближении времени каприза и чем-нибудь особенно воз-
будить внимание дитяти.
Каприз предумышленный с
намерением достичь
через него исполнения того или другого желания дол-
жен постоянно вызывать явление, совершенно проти-
воположное тому, которого дитя желает. В этом случае
имеют свое полное приложение наказания всякого
рода, а для маленьких детей и розга. Но только нака-
зание должно быть не следствием гнева воспитателя,
а совершенно хладнокровным и неизбежным послед-
ствием упрямства. Достигая всякий раз своим упрям-
* Benecke’s……
509
ством не того, чего хотел, ребенок скоро отучится видеть
в нем средство для достижения цели.
Переупрямливание ребенка воспитателем или чаще
воспитательницей ни к чему не ведет: гнев воспитателя
действует еще более раздражающим образом; хладно-
кровное же наказание и притом довольно чувствитель-
ное, «за которым потом ребенок несколько времени
оставляется в покое, перерывает каприз силой нового
впечатления»*.
Гораздо легче и полезнее
для нравственного разви-
тия ребенка предупреждать в нем развитие упрямства,
чем потом искоренять его:
а) Главная предупреждающая мера есть по возмож-
ности ровная жизнь, не возбуждающая в ребенке слиш-
ком сильных и сосредоточенных желаний. Любимые
дети, в которых родители любят возбуждать сильное
удивление или радость, вообще сильные стремления,
чтобы потом любоваться радостью их удовольствия,—
чаще всего делаются капризными и упрямыми.
б) Должно удовлетворять всем законным
требова-
ниям ребенка прежде еще, чем они перешли в сильное
желание.
в) Должно всегда доставлять ребенку возможность
деятельности, сообразной его силам, и помогать ему
только там, где у него не хватает сил, постепенно
ослабляя эту помощь с возрастом ребенка.
г) Никогда не обещать ребенку, чего нельзя выпол-
нить, и никогда не обманывать его.
д) Если приходится отказать дитяти, то отказывать
решительно, разом, без колебаний, и потом не менять
своего решения.
е)
Не отказывать в том, что можно дать или дозво-
лить.
ж) Если упрямое желание уже проявляется, то
обратить в другую сторону внимание дитяти, или
прекратить распространение каприза быстрым нака-
занием.
• Benecke’s, Erz. und Unt., S. 183.
510
з) Воля воспитателя должна быть для дитяти такою
же неизменною, как закон природы, и чтобы ему
казалось столь же невозможным изменить эту волю,
как сдвинуть с места каменную стену.
и) Не заваливать ребенка приказами и требования-
ми, предоставляя ему возможно большую независи-
мость; но немногие требования воспитателя должны
быть неизбежно выполнены, а невыполнение их влечь
за собой наказание с такой же точностью, как нарушение
физических
законов здоровья влечет за собой болезнь.
к) Расположение духа воспитателя не должно иметь
влияния на ребенка: взрослый человек, естественно,
не может не подчиняться обстоятельствам и не быть то
в веселом, то в печальном, то в гневном расположении
духа; но приступая к ребенку, воспитатель должен
помнить, что это человек уже другого мира, которому
нет дела до наших забот, что это человек будущего,
которое принесет ему свои заботы.
Стремление к наслаждению. Что главная цель
воспитания
заключается в счастьи воспитанника и
что оно не может быть приносимо в жертву никаким
посторонним расчетам, — в этом, конечно, не может
быть сомнения. Это основная мысль христианского
воспитания, так как христианство ставит индивидуаль-
ную душу человека выше всего мира. Но эта мысль
может сделаться руководящею мыслью только в том
случае, если воспитатель не смешивает счастья с на-
слаждением и в счастьи видит свободную, бесконечную
и прогрессивную деятельность, соответствующую
ис-
тинным потребностям души человеческой, а в наслажде-
ниях только побочные явления, которые могут сопро-
вождать эту деятельность, но могут и не сопрово-
ждать ее. Какая деятельность соответствует душе чело-
века, это определяется особенностями этой души, о
которых мы будем говорить ниже: здесь же мы говорим
только о формальной стороне ее.
Может быть, ни одна ошибка не способна породить
таких вредных последствий в воспитании, как смешение
понятия счастья и понятия наслаждения.
Самое значе-
511
ние воспитания тогда уничтожается. Кто более насла-
ждается и менее страдает: полудикий башкир, киргиз,
бурят или образованный европеец? Жан-Жак-Руссо не
разделяет наслаждения от счастья, зато он совершенна
последовательно видит в дикаре высшую степень че-
ловеческого счастья, любуется именно тем, что дикарь,
ничего не делая, не любопытствует, не скучает *, и
если воспитывает своего Эмиля не для жизни с дикими,
так только потому, что судьба
уже назначила жить ему
в цивилизованном обществе. И это совершено после-
довательный вывод: кто видит цель человеческой жизни
в наслаждении, тот должен видеть в цивилизации зло.
Если взять в расчет все муки долгого ученья, за-
нимающего треть, а иногда и половину нашей циви-
лизованной жизни; все страдания, производимые бес-
численными лишениями, происходящие в свою очередь
от бесчисленных потребностей, созданных цивилизацией;
все необходимые или условные стеснения, которым
под-
вергается человек в образованном обществе; все муки
честолюбия, властолюбия, все муки мысли — и срав-
нить все это со спокойной полуживотной жизнью
хотя, напр., нашего башкира, которую надобно видеть
ближе, чтоб понять всю ее невозмутимость,— то из
этого, конечно, никак уже нельзя вывести, что воспи-
тательное искусство стремится вообще развить че-
ловека, чтобы сумма человеческих наслаждений пре-
вышала сумму человеческих страданий и едва ли
нельзя вывести совершенно
противоположного заклю-
чения, что развитой человек сравнительно с суммой
наслаждений страдает более, чем не развитой, уже
потому, наконец, что он способен страдать, а жизнь
идиотов или помешанных на веселых мечтах, или бес-
просыпных пьяниц — должна казаться идеалом воспи-
тания. Несмотря однако на такие нелепые последствия
из смешения понятия счастья с понятием наслаждения,
мысль эта, особенно в последнее время, была у нас
* Emile ou l’Educat. Paris, 1866, Livr. IV, p. 250
и мно-
гие другие. Все великое творение Руссо проникнуто этой идеей.
512
очень распространена и принесла, быть может, не мало
вредных плодов.
Свободный, т. е. излюбленный труд, идущий успеш-
но и прогрессивно, легко по степени энергичности
своего хода преодолевающий препятствия и связанные
с ними страдания, увлекаемый все вперед и вперед
целью дела, а не его удовольствием и останавливающийся
на наслаждениях только во время необходимого отды-
ха,—вот что должно быть идеалом здравого воспитания,
основанного
не на мечтах, а на действительном, факти-
ческом знании потребностей человеческой природы.
Это основное положение нашей педагогики, дающее
«ей особенную характеристику, а равно и вытекающие
из него педагогические приложения, были изложены
нами выше: здесь же мы должны показать, в каком от-
ношении воспитатель должен стоять в отношении
наслаждений и страданий.
Сама природа указывает нам на это отношение:
«ели не всегда, то очень часто она употребляет насла-
ждение, чтобы
вынудить человека к необходимой для
него и для нее деятельности, и употребляет страдание,
чтобы удержать его от деятельности вредной. В такое
же отношение должен стать и воспитатель к этим явле-
ниям человеческой души: наслаждение и страдание
должны быть для него не целью, а средством вывести
душу воспитанника на путь прогрессивного свободного
труда, в котором оказывается все доступное человеку
на земле счастье. Если бы всякое вредное для телесного
здоровья действие человека
сопровождалось немедленно
же телесным страданием, а всякое полезное телесным
наслаждением, и если бы то же отношение существовало
всегда между душевными наслаждениями и страданиями,
то тогда бы воспитанию ничего не оставалось делать
в этом отношении и человек мог бы итти по прямой дороге,
указываемой ему его природой, так же верно и неу-
клонна, как магнитная стрелка обращается к северу.
Кто бы стал пить холодную воду, разгорячившись,
если бы она жгла нам горло вместо того,
чтобы достав-
лять величайшее наслаждение? Кто бы стал мстить
513
своему врагу, если бы мщение доставляло нам не на-
слаждение, а страдание? Но что была бы тогда свобода
человека? Не был ли тогда человек напрасно чувствую-
щей машиной?
Эту неполноту в отношении между действием и
его последствиями, как в отношении физического, так
и в отношении нравственного здоровья человека должно
пополнить воспитание. Неполнота эта, которая должна
совершенно исчезнуть при достижении человеком пол-
ного (идеального)
развития, всего сильнее в детском
возрасте. Дитя, как справедливо замечает г-жа Нек-
кер-де-Соссюр, неспособно заглядывать в будущее,
особенно предвидеть в нем каких-нибудь страданий, —
но попробовавши, что огонь при прикосновении к нему
немедленно же жжется, оно не протянет уже к свече
своей ручонки. Ожидание счастья свойственно дитяти,
но, если вы начнете объяснять ему счастье, которое
происходит, напр., для человека от изучения того или
другого предмета, или вообще от привычки
к труду,
или от подавления какой-нибудь порочной склонности,
то, конечно, вы этим не достигнете того, чего вы хотели.
Глубокие и обширные философские и психологиче-
ские истины доступны только воспитателю, но не вос-
питаннику, и потому воспитатель должен руковод-
ствоваться ими, но не в убеждении воспитанника в их
логической силе искать для того средств. Одним из
действительнейших средств к тому являются наслажде-
ния и страдания, которые воспитатель может по воле
возбуждать
в душе воспитанника и там, где они не воз-
буждаются сами собою как последствия поступка. Это
и есть психологическое основание наказаний и наград,
или вернее — поощрений и взысканий, о которых под-
робно мы скажем ниже.
Дитя само по себе гораздо способнее радоваться,
чем печалиться, однакоже, если мы присмотримся к
детским играм, то увидим, что дети, если они еще не
испорчены, не столько ищут наслаждений в тесном
смысле этого слова, сколько увлекающих их занятий,
и дитя
счастливо вполне не тогда, когда громко
514
Из черновых рукописей К. Д. Ушинского
515
хохочет и глаза его блестят восторгом, а’тогда, когда
оно все и очень серьезно погружено в свою игру или
в какое-нибудь свое, свободно найденное детское дело.
Здесь прямое наблюдение опять прямо противоречит
мысли Ж.-Ж. Руссо, который говорит: «у дитяти только
два душевных движения выдаются резко: оно или
плачет, или смеется, посредствующие чувствования для
него ничто — Les intermédiaires ne sont rien pour
lui*. Напротив, самое обыкновенное
положение дитяти—
это внимательное занятие и если оно радуется или печа-
лится, то большей частью, когда предвидит такое увле-
кательное для него занятие, или тогда, когда оно почему—
нибудь ему не удается.
Кроме того, следует заметить, что после сильных
восторгов у дитяти начинаются непременно капризы,
скука, дитя томится этим расставанием с восторгом,
который не может продолжаться. Дети, избалованные
восторгами, сюрпризами, изысканными подарками, угод-
ливостью окружающих,—
самые жалкие дети. Как ни
велик запас способности радоваться в детской душе,
fco ее уже успели истощить и, все увеличивая и увели-
чивая приемы, чтобы достичь желаемого действия,
т. е. привести в восторг дитя, совершенно испортили
у него душевное пищеварение.
Этим драгоценным указанием самой природы должен
руководиться воспитатель и устраивать по возможности
дело так, чтобы дитя более находило счастье в деятель-
ности, чем стремилось к наслаждениям, причем не надоб-
но
забывать, что игра, в которой самостоятельно рабо-
тает детская душа, есть тоже деятельность для ребенка
и чтобы оно более наслаждалось тем, что им. самим
сделано, чем тем, что ему подарено. Игра, как справед-
ливо говорит Бенеке**, имеет чрезвычайно важное и
сложное значение в душевном развитии дитяти, даже
гораздо более, чем первоначальное ученье****.
* Emile, Livre IV, p. 250.
** Erz. und Unterr., t. I, 8. 101.
*** Ib., § 23, S. 101. Это значение игры, а равно и то, что
и
играх формируется не одна какая-нибудь сторона души, а весь
516
Игра есть свободная деятельность дитяти, и если
мы сравним интерес игры, а равно число и разнообра-
зие следов, оставленных ею в душе дитяти, с подобными
же влияниями ученья первых четырех-пяти лет, то,
конечно, все преимущество останется на стороне игры.
В ней формируются все стороны души человеческой,
его ум, его сердце и его воля, и если говорят, что игры
предсказывают будущий характер и будущую судьбу
ребенка, то это верно в двояком
смысле: не только
в игре высказываются наклонности ребенка и относи-
тельная сила его души, но сама игра имеет большое
влияние на развитие детских способностей и наклон-
ностей, а следовательно, и на его будущую судьбу.
Но не надобно никогда забывать, что игра теряет
все свое значение, если она перестает быть деятель-
ностью и притом свободной деятельностью дитяти. Ребе-
нок, которого смешат и забавляют, —не играет, но не
играет он и тогда, когда он исполняет какую-нибудь
деятельность
по приказу, из желания угодить старшим
и т. п. Однакоже это не лишает воспитателя возмож-
ности иметь большое влияние на игру ребенка, нау-
чая его играм, подбирая ему для этого товарищей,
давая ему идеи игры, которые уже сам ребенок пере-
работает своим воображением (см. выше гл. о вообра-
жении), доставляя ему средства для выполнения его
невинных фантазий, прекращая игру, если она вредно
действует на ребенка.
Известно, что детские игры имеют свои националь-
ности, свою
многовековую историю и что иная детская
человек, заставляет нас посвятить этому предмету особую гла-
ву: здесь же мы только указываем воспитателю на игру как на
одно из действительнейших средств достичь важнейшей цели
воспитания, — а именно воспользоваться указанием и требова-
нием самой природы, удалить душу с ложного пути искания на-
слаждений и обезопасить ей выход на истинный путь, т. е.
путь свободного труда. В иной игре дитя переносит столько тру-
дов и даже страданий за
ту душевную работу, которую она дает,
что если оно перенесет ту же стремительность и в дело своей взро-
слой жизни, так же увлечется делом своей жизни, как некогда
увлекалось игрой, то его жизненное счастье упрочено.
517
игра, бог знает, какими путями, забрела в русское село
из древней Греции или даже из древней Индии. Это
могучее воспитательное средство, выработанное самим
человечеством и в котором поэтому выразилась непод-
дельно истинная потребность человеческой природы.
Большую бы услугу делу воспитания оказал тот педа-
гог, который изучил бы в подробности возможно большее
количество детских игр и, испытав их на практике с
детьми, анализировал бы их
психическое влияние на
детские натуры. Придумать целый цикл своих собствен-
ных игр-занятий, как то сделал Фребель, значит брать
на себя слишком много, и эти, придуманные взрослыми,
а не созданные самими детьми игры всегда носят на
себе печать искусственности точно так же, как и поддел-
ки под народные песни.
Историческая игра, как и историческая песня, не
есть что-нибудь придуманное, а вольное, вдохновенное
создание самой детской природы. Мы видим, что дети
сочиняют беспрестанно
новые игры, применяясь к
обстоятельствам то местности, то вещей, то обстоя-
тельств дня; но это не более, как фантазия в действии,
так же быстро исчезающая, как и фантазия в мысли; но
некоторые из этих детских фантазий были так удачны,
что сохранились, передались другим, пережили века,
перешагнули из одной части света в другую; причина
же этой живучести та же, что и причина живучести
народной песни или гомеровской поэмы: эти счастливо
придуманные игры, изобретенные, бог знает,
каким ре-
бенком, исправленные и пополненные тысячами дру-
гих, необыкновенно удачно удовлетворяли общим тре-
бованиям детской природы *.
Мы придаем такое важное значение детским играм,
что если б устраивали учительскую семинарию, муж-
скую или женскую, то сделали бы теоретическое и прак-
тическое изучение детских игр одним из главных
предметов.
* Сочинения об играх: Schuller. Das Spiel und die Spiele.
Ein Beitrag zur Psychologie und Pädagogik. 1861 г. Выписано.
518
К игре непосредственно примыкают детские неучеб-
ные занятия, так что нельзя собственно сказать, где
начинается занятие и оканчивается игра: копанье
грядок, посадка цветов, шитье платья кукле, плетенье
корзинки, рисовка, столярная, переплетная работа и
т. п. — столько же игры, сколько и серьезные занятия,
и ребенок, работающий с таким наслаждением, что не
отличает игры от работы, и переносящий терпеливо
лишения, а иногда даже и значительные
страдания ради
своей игры-работы, указывает нам ясно, что основной
закон человеческой природы есть свободный труд —
и как извращены и натуры и понятия тех, кто смотрит
на него не как на жизнь, а как на тягость в жизни и
хотели бы жить без труда, т. е. сохранить жизнь без
сердцевины жизни.
Пока все работы, доступные для детей, не войдут
в училища, не сделаются необходимой отраслью обще-
ственного и частного воспитания, до тех пор воспитание
не будет оказывать и половины
того влияния на харак-
теры, судьбу и счастье людей, которое оно могло бы
оказывать. Но как ничтожны все попытки, сделанные
в этом роде! Даже в Германии, как на большую редкость,
указывают на заведения, где введено какое-нибудь
мастерство, а по-настоящему не должно бы быть ни
одной школы, в которой бы учитель и учительница не
учили бы по возможности разнообразным мастерствам и
рукодельям или при которой не было бы сада, огорода,
куска поля, на котором бы могли работать дети:
человек
рожден для труда; труд составляет его земное
счастье; труд лучший хранитель человеческой его нрав-
ственности и труд же должен быть воспитателем чело-
века.. Дитя, которое трудится так, если только труд
соответствует его силам и наклонностям, само указы-
вает, что ему нужно. В этом отношении идея Фребеля есть
действительно великая идея воспитания; но только
он испортил ее своими искусственными фантазиями*.
* Frebel’s….
519
Из черновых рукописей К. Д. Ушинского
520
Конечно, и само по себе книжное ученье всегда
призывало дитя к труду; но при этом не надобно забы-
вать двух следующих обстоятельств: во-первых, книж-
ное ученье взывает только к одному умственному труду,
тогда как собственно ум у дитяти обладает еще очень
немногими ассоциациями, которые не в состоянии удов-
летворить огромной потребности душевной деятель-
ности ребенка; во-вторых, начала наук, составляющие
круг детского ученья, почти все
рассчитаны для буду-
щей его деятельности, которой ребенок, по преиму-
ществу живущий настоящим, и предвидеть не может:
какое немедленное приложение может сделать дитя
из тех основных средних арифметики, истории, геогра-
фии, которые дает ему школа? а это приложение необ-
ходимо, как воздух, такому неиспорченному теориями
практическому существу, каково дитя. Больших сведе-
ний дитя, конечно, не может получить разом, а тех
элементарных, которые получает, оно, конечно, не
может
вплести в свою самостоятельную жизненную
деятельность. Научные сведения сохраняются в от-
дельном и самом незначительном уголке его души,
как запас на будущее; но значения этого запаса оно не
понимает и не чувствует. Школа насильственно выпле-
тает в его душе совершенно особую ассоциацию, совер-
шенно отдельную от всех прочих ассоциаций его души,
и много должно пройти времени, пока эта научная
ассоциация разрастется так (да еще и разрастется ли
когда-нибудь?), что наполнит
его душу достаточно,
чтобы удовлетворить ее потребности к деятельности,
и сплетется так с жизненными ассоциациями души, что
сама оживет и вызовет уже не дитя, а юношу и взрослого
человека к самостоятельной деятельности, проникну-
той результатами науки, если не чисто научной.
Из этого нисколько не выходит, что мы восстаем
против школьной жизни, заготовляющей материал для
будущей душевной деятельности человека. Такое заго-
товление материалов, конечно, неизбежно; но не нужно
забывать,
что дитя не только готовится к жизни, но
уже живет; а это очень часто забывается как родителями,
521
так и посторонними воспитателями и школой, и эта за-
бытая, непризнанная жизнь ребенка напоминает о себе
теми прискорбными извращениями в характерах и
наклонностях, о которых воспитатель не знает, откуда
они взялись, так как он сеял, кажется, только одно
хорошее; но эти слабые семена заглохли, подавляемые
роскошным ростом других растений, которые сеяла
жизнь и жадно воспринимала душа дитяти, подоб-
ная сильной и богатой почве, которая,
если ей не
дадут возможности производить пшеницу, будет произ-
водить бурьян,— но непременно будет производить.
Принудительные для ребенка школьные занятия и
даже принудительные работы, как например, приведе-
ние в порядок своей комнаты и своего платья, неза-
висимо от значения запаса на будущее, запаса, пола-
гаемого воспитателями и неоцениваемого воспитанни-
ками,— имеют еще другое важное значение, а именно
значение обязанности, которую воспитанник выполняет
не потому,
чтобы она ему нравилась, но из повиновения
воспитателю (сопровождаемого, конечно, доверием и
любовью к нему), потому что должен выполнить. Это
приучение к выполнению долга так драгоценно, что если
бы педагогике удалось (чего, конечно, ей никогда не
удастся, но к чему она сильно стремилась в последнее
время) превратить все первоначальное ученье в зани-
мательную для дитяти игру, то это было бы большим
несчастьем для воспитания. Из нашего анализа стрем-
ления к свободе мы уже
видели, что самая основа истин-
ной свободы состоит в уменьи ограничить себя, прину-
дить себя, и человек, который не умеет принудить себя
делать то, чего не хочет, никогда не достигнет того,
чего хочет.
Однакоже для самого успеха ученья необходимо,
чтобы принуждение к нему не превышало сил детской
воли над своим душевным миром, а так как эти силы
вначале очень невелики, требования же ученья при
современном состоянии науки громадны, то наставник
должен призвать в помощь
и интерес ребенка, позволяя
ему, сколь возможно ранее,пользоваться плодами ученья
522
в.жизненной деятельности его души. Сделать учебную
работу насколько возможно интересной для ребенка
и не превратить этой работы в забаву — это одна из
труднейших и важнейших задач дидактики, на которую
мы указывали уже не раз *.
Но насколько бы это ни удалось педагогу, всегда в
ученьи, не прибегая к помощи тяжело дающихся, но
бесполезных знаний, остается достаточно такого % ма-
териала, к приобретению которого дети должны себя
принудить,
так как все его значение в будущем. Необхо-
димых знаний уже накопилось теперь столько, что,
кажется, не нужно приобретать бесполезных только
для того, чтобы упражнять волю ребенка над своими
психическими процессами; дай бог ему справиться и
с тем, что необходимо.
Кроме игры, работы и ученья дитяти самая его
жизнь — его отношение к воспитателям и товарищам —
должна быть устроена так, чтобы она по мере развития
дитяти проникалась все более и более серьезными
интересами
и самый круг этой жизни раздвигался все
шире и шире, превращаясь незаметно в широкую,
действительную и уже вполне самостоятельную жизнь,’
которая ждет юношу за порогом воспитания.
Если все эти четыре деятеля — игры, работы,
ученье и, наконец, сама школьная или семейная жизнь
дитяти — направлены к одной и той же цели выве-
сти человека на путь свободного, излюбленного труда,
поставив его выше наслаждений и страданий, так чтобы
на пользование первыми он смотрел как на украшение
главного,
наслаждение отдыха, а на вторые как на до-
садные помехи, которые должно преодолеть, чтобы тру-
диться; если, говорим мы, к этой цели будут направ-
лены все воспитательные силы, то она не может не быть
достигнута, так как достичь ее значит только дать
возможность правильно, не уклоняясь в стороны, раз-
виться природному основанию души.
* См. главы…
523
Стремление к привычке. О громадном значении,
этого стремления, его пользе и его вреде, а равно и
о средствах пользоваться им для достижения воспита-
тельной цели мы говорили уже столько в главах «о
привычке», что нам теперь остается только указать
на них *.
Стремление к подражанию. Шварц выводит пови-
новение из стремления к подражанию** и этим еще раз
доказывает всю слабость педагогических основ рутин-
ной педагогики. Кто подражает,
тот не повинуется,
а делает то, что ему хочется. В этой же главе говорится,
что дети приучаются курить из подражания: неужели
же в этом случае дитя подражает из повиновения свое-
му наставнику, которому подражает?
Всякому известно, в какой значительной степени
дети обладают этим стремлением и как велика над
ними сила примера. Распространяться об этом мы счи-
таем излишним. Заметим только, что подражание может
быть внешнее и внутреннее. Если дитя подражает таким
действиям
взрослого человека, которые выходят из
чувств, стремлений и наклонностей, доступных только
взрослым, то это не более как внешнее обезьянниче-
ство. Но, если самое действие взрослого уже доступно
дитяти, тогда подражание делается внутренним и мо-
жет вызвать и развить самую наклонность, как хоро-
шую, так и дурную. Вот почему, как справедливо за-
мечает Бенеке***, пример детей более действует на дитя,
чем пример взрослых. У дитяти все душевные ассоциа-
ции так еще отрывочны
и потому шатки, что малейшая
прибавка к той или другой может дать ей перевес:
испорченный, но сильный по характеру мальчик, по-
ступив в класс, особенно, если он постарше своих то-
варищей, может подействовать на них необыкновенно
быстро и сильно. Но и испорченное дитя, вступив в
такое заведение, где уже старшие классы хорошо
выдержаны, необыкновенно быстро исправляется. Вот
•* GM, главы. …
** Шварц, § 102, S. 144.
*•* Benecke. Erz. und Unterr., § 51, S. 210.
524
почему знаменитый английский педагог Арнольд так
дорожил своим высшим классом: он был для него самым
могущественным помощником в деле воспитания*.
В семействе также очень важно, как направлен стар-
ший сын или старшая дочь; но, к сожалению, они-то
большей частью бывают избалованы.
Книжные примеры, без сомнения, действуют далеко
не так сильно, как жизненные, однакоже действуют;
особенно, если у мальчиков образовалась привычка
много жить
воображением. Но, чтобы рассказ о какой—
нибудь личности вызвал у дитяти стремление подражать,
для этого необходимо живое описание и именно в дей-
ствии: маленькие же герои, обыкновенно отличающиеся
в азбуках и книгах для детского чтения, без сомнения,
не оказывают никакого действия.
И писатели детских книг и воспитатели, желая
вызвать в детях подражание какому-нибудь хорошему
примеру, забывают, что в ребенке еще нет возможности
образоваться той наклонности, проявления которой
они
ему показывают. Довольно уж и того, если описание
заинтересует дитя, вызовет в нем удивление или бла-
гоговение: из этих чувств может современем развиться
и желание подражать. То, чему мы привыкли в детстве
удивляться и сочувствовать, оставляет в нем глубокие
следы, и не для одного человека любимый герой дет-
ства сделался потом невидимым и иногда несознаваемым
руководителем жизни.
Но, пользуясь подражательностью ребенка, воспи-
татель должен употреблять все усилия, чтобы
вызвать
его к самостоятельной деятельности сначала в играх,
а потом и в занятиях, потому что подражание легко
может перейти в умственную лень. В этом отношении
игра, требующая от ребенка изобретательности, лучше
книги, сильно его интересующей. «В мальчике, говорит
Бенеке, который до 12 или 14 лет не узнал удоволь-
ствия напряженной умственной деятельности, склон-
ность к духовным занятиям может быть пробуждена
* Арнольд….
525
только с большим трудом, непрерывными усилиями» *.
Всякое самостоятельное произведение дитяти, как бы
оно слабо ни было, должно непременно вызвать одобре-
ние воспитателя с указанием на какой-нибудь недо-
статок, который возможно исправить ребенку. Ничто
так не убивает детской самодеятельности, как на-
смешки, которыми осыпаются их маленькие труды;
а это чаще случается при поправке детских сочинений,
чем можно было бы ожидать.
Мы уже
сказали о том, что ‘чем подражание со-
знательнее, тем ближе оно к самостоятельной деятель-
ности.
Стремление к лени, т. е. к бездеятельности. Мы уже
видели, что стремление к бездеятельности, или к лени,
в точном значении этого слова — вовсе не свойственно
человеку и то, что обыкновенно называют леностью,
есть только затрата душевной деятельности в области
непроизводительные или вообще не те, куда хочет
воспитатель призвать деятельность души. Следователь-
но, прежде всего,
замечая леность, воспитатель должен
узнать, в чем деятельна душа воспитанника, и дей-
ствовать сообразно с этим. Кроме того, часто причиной
лености является прямое нерасположение к той дея-
тельности, к которой мы хотим призвать дитя. Причины
же такого нерасположения могут быть также очень
разнообразны, и всегда виновато в них само воспита-
ние. Очень часто, не развив в дитяти повиновения нам,
ни уважения, ни любви, ни просто привычки, мы разом
требуем от него выполнения множества
учебных обя-
занностей, нисколько для него не интересных и кото-
рые должен выполнить как долг. Напрасно мы говорим
дитяти о пользе ученья, — польза эта так еще далеко
впереди, что он ее себе вовсе не представляет. Иногда
лень образуется от неудачных попыток в ученье, й в
том, конечно, опять же виновато само воспитание,
которое не вникло в душевное состояние дитяти. Вос-
питатель непременно должен устроить дело ученья
* Benecke. Erz. und Unt., § 60, S. 24.1.
526
так, чтобы в начале ученья дитя не могло не успеть, и
вот почему начало учения должно быть как возможно
более обработано в педагогическом отношении. Но
если первые неуспехи, испугавшие дитя, могут сделать
его ленивым, то точно так же весьма может породиться
леность оттого, что дитя с излишней помощью воспи-
тателя шло, не замечая вовсе трудностей ученья, и,
привыкнув считать это дело легким, вдруг встретилось
с этими трудностями; словом,
— леность чаще всего
развивается от ученья не по силам. Определить силы
ученика может только непосредственный опыт и педаго-
гический такт наставника.
Как есть много различных причин лености, так есть
и много средств для ее преодоления, и средства должно
употреблять сообразно причинам. Должно по возмож-
ности сделать ученье интересным не только по своему
внутреннему содержанию, что иногда и невозможно,
но по легкости успеха. Очень часто самая упорность
побеждается тем,
что воспитатель устраивает ученье
так, что и упорный лентяй делает шаг вперед,—^ так
этот шаг легок; успех нескольких таких шагов обод-
ряет дитя, и оно начинает делать шаги потруднее,
потом еще потруднее и, наконец, пойдет очень бодро.
Не точно ли так же учится ребенок держаться на но-
гах и ходить? Здесь все зависит от успеха первых по-
пыток и постепенности последующих; если же ребенок
упадет при первых же попытках, то иногда очень долго
потом не ходит. Это знает каждая
мать и каждая опыт-
ная няня. Воспитатель должен быть совершенно убеж-
ден, что успешная деятельность души всегда приятна
дитяти, и должен позаботиться о том, чтобы доставить
ему такой успех в той области деятельности, в которую
он его хочет ввести.
Мы уже говорили выше, насколько (без) деятельность
зависит от недостатка внимания и окончательно от
слабости воли, управляющей вниманием. Именно этот
недостаток воли, а не самая леность пополняется энер-
гией ожидания наказания
или награды. Но эти побочные
интересы ученья имеют смысл только тогда, если сам
527
внутренний интерес ученья, постепенно возрастая, на-
конец, устраняет совершенно эти побочные интересы и
делает их ненужными *.
Стремление к отдыху, удовлетворяемое более того,
чем нужно, может также перейти в леность именно по-
тому, что отдых вовсе не есть бездеятельность, а только
перемена деятельности менее приятной и более трудной
на более приятную и менее трудную и которая потому
и легка, что приятна. Вы требовали от дитяти самых
небольших
умственных концепций, и он, видимо, тяго-
тился выполнением вашего требования; но, выйдя из
класса, он употребляет иногда такое умственное напря-
жение в игре, половины которого было бы очень доста-
точно для очень успешного ученья; но ассоциации
ученья едва завязались в душе, а там они уже громадны.
Смотря на отдых как на перемену деятельности,
воспитатель должен руководить отдыхом, сменяя одну
умственную деятельность другою и сменяя вообще
умственную деятельность телесною.
При этом, конечно,
большая или меньшая трудность умственного напряже-
ния должна быть соразмеряема по силам воспитанника,
а не воспитателя.
Недостаток необходимого отдыха может вызвать
отвращение к учению; слишком большие отдыхи, при-
чем дитя предается произвольно им выбранной деятель-
ности, могут так усилить ассоциации, совершенно
посторонние учению, что тогда дитяти еще труднее
будет воротиться к нему **.
Любопытство есть начало любознательности и обык-
новенно
очень сильно у детей. Чем больше умственная
деятельность человека сосредоточивается в одной какой—
нибудь области, тем более развивается в нем любозна-
тельность и тем менее любопытен становится он в отно-
шении того, что лежит вне этой области. У кого нет
своего дела, тому дело до всего.
Воспитатель должен иметь целью превратить вро-
* См. выше, гл
** Об отдыхе с физиологической точки зрения см. выше,
глава…
528
жденное детям любопытство в любознательность; но так
как это совершается только медленно, всем процессом
учебы и воспитания, то воспитатель должен заботиться,
чтобы прежде образования дельной любознательности
не подавить детского любопытства, что случается или
тогда, если, часто возбуждая любопытство, отказываются
удовлетворить ему, или, удовлетворяя ему вскользь,
мимоходом, приучают ДИТЯ к мысли, что не стоит
быть любопытным. Если предмет
любопытства дитяти
таков, что еще не может заинтересовать его, то нужно
прямо отвечать дитяти, что он еще не поймет его. По-
стоянно отказывая удовлетворить детскому любопыт-
ству, воспитатель поступает дурно; но все же лучше,
чем, окружая дитя множеством разнообразных пред-
метов, меняя эти предметы и о каждом из них сообщая
дитяти сведения поверхностные, ничем между собой
не связанные. Воспитатель должен стараться, сколько
возможно, возбудить детское любопытство в самом
пре-
подавании и, увеличивая число однородных следов,
а вместе с тем и интерес к предмету, превращать мало-по-
малу любопытство в любознательность *.
Стремление к обществу есть так же ясно стремление
производное. Положив в основу воспитания принцип
личного жизненного труда, мы, конечно, должны при-
дать и особенно важное значение стремлению к обще-
ственности; потому что сам чисто человеческий труд
возможен только в обществе на основании обществен-
ного принципа разделения
труда. Но так как в обществе
люди соединяются не только своими животными, но
и своими чисто человеческими свойствами, то мы и
будем в состоянии только ниже вполне развить это
стремление.
В обществе других людей человек ищет или среды
для своей душевной деятельности или пополнения
недостатка ее: в первом случае он вносит в нее свою
самостоятельную мысль, во втором он, снедаемый вну-
тренней бездеятельностью, ищет развлечения; средний
* Benecke, Erz. und Unterr. S. 239.
529
путь, и опять самый верный, что человек вносит
в общество свою самостоятельную мысль, усиливая
ре всем тем, что дает ему общество, так что душевная
деятельность человека удвояется. В этом и состоит
истинная привлекательность для человека общества
подобных ему существ. Правильно развитой человек
именно и будет находиться в таком истинном отноше-
нии к обществу: он не утратит в нем своей самостоятель-
ности, но и не оторвется от него своей
самостоятель-
ностью. Аристотель * очень метко говорил, что человек,
не нуждающийся в обществе людей,— не человек, но
или животное, или бог. К этому однакоже следовало бы
прибавить, что человек, не вносящий в общество своей
самостоятельности, равняется нулю, стоящему с левой
стороны цифр, а человек, не признающий в обществе
ничего, кроме своей собственной мысли, желает один
быть единицей с тем, чтобы все другие оставались нуля-
ми, с правой стороны единицы. Дело же воспитания
в
этом отношении состоит именно в том, чтобы воспи-
тать такого человека, который вошел бы самостоятель-
ной единицей в цифру общества.
Для образования такого истинного отношения к
обществу воспитанию, кроме всего ученья, подготов-
ляющего человека именно к самостоятельной жизни
в обществе…**
Но стремление к общественности не достигает
своей собственной цели и само себя подрывает, если
человек только желает внести в общество свою само-
стоятельную мысль, не обращая внимания
на само-
стоятельность других. Цель общественности здесь не
достигается потому, что этим самым общество разру-
шается. Но если человек ничего самостоятельного не вно-
сит в общество, то цель снова не достигается: если все
так же поступят в обществе, то общества не будет. Об-
щество есть соединение самостоятельных личностей, в
котором по принципу разделения труда сила общества
* См. Политика…
•** Фраза не. закончена. (Ред.)
530
увеличивается силой каждого и сила каждого силой
общества.
Мы будем еще иметь случай говорить подробнее…
(Ф. 316, № 22, «Педагогические приложе-
ния», л.л. 1—50).
255. Второе педагогическое приложение
Отношение органических и душевных чувствований,
развитое нами, дает нам множество педагогических
правил.
Каждое сколько-нибудь сильное душевное и, в част-
ности, сердечное чувствование, возникая из сознатель-
ной идеи, не остается
без влияния на наш нервный
организм, но вызывает в нем на одно мгновение, а при
сильном действии на целые часы, такое физическое
состояние, которое в свою очередь отражается в духе
соответствующим органическим чувствованием. Есте-
ственно, что такое чувственное состояние нервного
организма, повторяясь часто и оставаясь каждый раз
долго, должно влиять на его здоровье и произвести
в нем подобное же расстройство, какое происходит
иногда и прямо от физических причин, вызывающих
в
нас то или другое душевное настроение, т. е. преоблада-
ние в нашей душе того или другого из примитивных
чувств: печали, веселости, гнева и доброты, смелости
и страха.— Как это происходит в обоих случаях, пере-
ходя ли из физического расстройства тела в чувствен-
ное настроение души или из чувственного настроения
души в физическое расстройство организма и оттуда
снова отражаясь в душе, но уже не как душевное чув-
ство, причину которого мы сознаем, а как органиче-
ское,
причина которого лежит в теле, вне нашего созна-
ния,— этого мы в обоих случаях одинаково не знаем.
Но многочисленные общие наблюдения и точные меди-
цинские, как мы видели, ставят это явление нашей при-
роды вне всякого сомнения и делают его многозначи-
тельным для воспитателя.
Кому не известно, что, часто и подолгу раздражая
животное, мы делаем его органически злым. Стоит
531
продержать домашнюю собаку на цепи, чтобы потом
уже ее нельзя было оставить на свободе. Без сомнения,
то же самое влияние оказывает на человека все, что
часто возбуждает в нем то или другое из органических
чувств. Конечно, независимо от чувствований, возбу-
ждаемых состоянием организма, человек может настроить
свой душевный сознательный мир совершенно на проти-
воположный лад и, будучи, например, расположен к
гневу по своему организму,—
быть спокойным и добрым
по принципу и в мыслях и в поступках своих; но нет
сомнения, что это торжество над внушениями организма
будет стоить ему гораздо более усилий, чем тогда,
если бы организм, по крайней мере, не мешал ему.
Конечно, честь и слава тому, кто сознательной душевной
жизнью смирит свой нервный организм и из сознатель-
ных идей, связавшихся в одну стройную и сильную
систему, дерзнет выступить против постоянного напора
органических чувственных влияний. Насколько
нам
известна биография Сократа, он именно так восторже-
ствовал над своими дурными природными наклонностями
и, может быть, дурными привычками своего детства,—
но не у всякого сидит в голове такой могучий строи-
тель, как у Сократа. Кроме того, в жизни каждого
человека столько борьбы, что чем более сил сохранит
он для этой борьбы, тем лучше. Во всяком случае
прямо на обязанности воспитания не только не созда-
вать человеку новых врагов в его собственном организ-
ме, но
по возможности обуздать и тех, которых он уже
имеет в своем врожденном темпераменте.
Но так как все примитивные чувствования, могу-
щие пробуждаться в душе прямо состояниями нервного
организма, сами по себе ни дурны, ни хороши, а делают-
ся дурными только тогда, когда одно из них преобла-
дает над остальными и усиливается так, что под неотра-
зимым его влиянием начинает формироваться и душев-
ный мир человека, то воспитание прежде всего должно
заботиться о том, чтобы не дать
усилиться ни одному
из этих органических чувств на счет других и вообще,
насколько возможно, освободить душевную историю
532
дитяти от влияния этого темного мира, не освещаемого
сознанием. Насколько возможно, говорили мы, потому
что совершенное освобождение невозможно, да едва
ли и желательно, потому что органические чувство-
вания, сниженные уже разумом, отдают и свою силу
к силе сознательных человеческих действий.
Здоровое, нормальное состояние органических чувств
состоит именно в их равновесии: чтобы ни одно из
них не брало верх над другими, ни одно не делалось
постоянным
и потому болезненным состоянием орга-
низма, отражающимся в душе односторонним и потому
болезненным настроением. Страх, не умеряемый сме-
лостью, делает трусом; смелость, не умеряемая стра-
хом, производит гибельную дерзость и буйство; печаль,
не умеряемая радостью, делает человека ипохондриком;
радость, не умеряемая печалью, дает гибельное легко-
мыслие; состояние бестолкового, необузданного гнева
так же гибельно, как и состояние бестолковой доброты
или нежности. Печаль и
радость, смелость и страх,
гнев и доброта одинаково нужны человеку в истории
его душевного мира и в истории его жизни.
Из этого легко уже вывести несколько главных педа-
гогических правил:
а) Воспитание должно заботиться, чтобы вообще
органические чувственные состояния возбуждались как
можно реже и возбужденные продолжались как
можно менее. Чем менее будет дитя волноваться орга-
ническими чувствованиями, тем лучше. В этом случае
лучше всего избегать всяких сильных и продолжитель-
ных
душевных волнений, во время которых дитя не
владело бы собой *. Органические чувства все же будут
возбуждаться; но пусть они возбуждаются и умеряются
сознательной деятельностью, внося в нее свои силы,
но не одолевая ее. Жизнь, полная разнообразной дея-
тельности и без волнений чувства,— самая здоровая
атмосфера для воспитания дитяти.
* Возбуждение чувства гнева делает сердитым, а пересо-
ленное сентиментальное воспитание превращает ребенка в
тряпку.
533
б) Заметив в дитяти сильное возбужденное органи-
ческое чувство, нужно стараться как можно скорее
прекратить его действие, или отвлекая внимание дитяти
на дело, или вызывая в душе его другое, противополож-
ное чувство и оставляя улечься оба, когда они уравно-
весятся. Если нельзя предотвратить возбуждение орга-
нического чувствования, то, по крайней мере, надо
помешать его распространению *.
в) Если мы замечаем, что организм ребенка уже
от
природы склонен преимущественно к тому или другому
органическому состоянию чувств, то мы должны ста-
раться возбуждать в нем чувства противоположные.
В маленьком трусе мы должны преимущественно воспи-
тывать чувство смелости; если ребенок особенно
склонен к гневу, то мы должны^ преимущественно
давать пищу его нежному чувству’и возможно реже
возбуждать его гнев; дикость свойственна радости,
доводящей его часто до легкомыслия; жизнь обыкно-
венно сама исправляет этот
недостаток, но иногда
воспитателям приходится помочь жизни. Дитя, в кото-
ром характеристическим чувством является смелость,
должно познакомить преимущественно со страхом и
всего лучше, если познакомить с ним, как с послед-
ствием тех промахов, к которым привела его смелость.
Подробнее об этом мы скажем несколько ниже.
г) Всякое преимущественное развитие какого-ни-
будь одного органического чувства вредно. Раздражая
ребенка, дразня его, мы преимущественно развиваем
в нем
органическое чувство гнева и тем облегчаем
образование злых склонностей; пугая дитя, мы разо-
вьем в нем органическое чувство страха и подготовляем
будущего труса, а, может быть, и будущего негодяя из
трусости. Но при этом надобно принять во внимание,
что сама жизнь берет на себя труд излечить человека
от безумной смелости, радости и доброты.
д) Отношение воспитания к различным органиче-
ским чувствованиям не одинаково, потому что отно-
* Benecke’s….
534
шение к ним жизни не одно и то же. Воспитанию чаще
приходится поддерживать в ребенке радость, доброту
и смелость, чем противоположные им чувства, которые
сама жизнь уже преимущественно развивает, принося
свои печали, свои уроки страха, свои причины гнева.
Воспитателю чаще приходится в этом отношении уме-
рять влияние жизни, чем усиливать его. Однако нередко
бывают и противоположные примеры, а именно, что
беззаветная смелость, потворствуемая
жизнью, выро-
ждается в буйство, органическая доброта — в мотовство,
в безрасчетную нежность, органическая веселость в
неудержимое легкомыслие. Конечно, прийдет пора и
жизнь сокрушит эти увлечения их собственными послед-
ствиями, но уроки жизни обходятся иногда слишком
дорого человеку, так что он не может уже и поправиться
после них. Вот почему и воспитанию приходится ста-
новиться иногда на сторону и противоположных
чувствований, которые вообще называются угнетаю-
щими,
но несправедливо, так как чувство является
угнетающим только тогда, когда берет верх над другим
и начинает одно руководить подбором представлений
человека.
е) Но если органическое чувство влияет на подбор
представлений, то и подбор представлений влияет на
возбуждение, поддержание, укрепление -органических
чувств. Вот этим-то подбором представлений и может
воспитатель иметь влияние на управление и организа-
цию чувствований органических.
Из нашего анализа чувствований мы
убедились,
что в чувствах своих человек не волен. Из этого выходит
для воспитания важное правило — никогда не укорять
дитя в его чувствах, а тем более не наказывать его за
них. Чрезвычайно вредно действует на дитя, если оно
попадется на воспитателя — охотника докапываться
до чувств ребенка и, докопавшись, мучить его за них,
Такой охотой в особенности отличались воспитатель-
ницы в женских учебных заведениях. С величайшими
стараниями они докапываются иногда до чувств девочки,
употребляют
для этого угрозы, просьбы, шпионство,
535
притворство, и если докопаются до чувств, которые
почему бы то ни было им не нравятся, то тогда опроки-
дываются на детей всеми ужасами систематического
преследования за неблагодарность, бесчувственность,
нелюбовь и т. п. Ничего, конечно, не может быть неле-
пее и несправедливее такого образа действий: при этом
не искореняется одно чувство и не поселяется на его
место другое, а напротив, именно чувство укореняется
и, кроме того, развивается
в дитяти уже положитель-
ный порок притворства.
Однакоже это нисколько не означает, чтобы воспи-
татель должен (был) оставаться безразличным в отноше-
нии чувств, развивающихся в душе дитяти: напротив,
по чувствам дитяти он должен судить об успехах нрав-
ственного воспитания.
«Только в чувствах, говорит Бенеке, высказы-
вается различная оценка нами вещей (явлений окружаю-
щего мира) и только из этой оценки выходят наши
желания и отвращения (Begehren und Widerstreben)
и
следовательно, внутренние (душевные) поступки.
Они-то (чувствования) образуют собственно срединный
пункт для всего практического и для всего человече-
ского образования. Из взаимного притяжения этих
практических чувств (в которых выражена оценка нами
внешних явлений) образуются те высшие движущие
силы, которые мы называем склонностями и противо-
склонностями (Abneigungen), которыми направляется
жизнь человека» *.
Но если несправедливо ни наказывать, ни награ-
ждать дитя
за чувства, то справедливо ли будет наказы-
вать дитя за слова и поступки, выходящие из чувства?
Если бы дитя было животное, то было бы совершенно
несправедливо; но как мы признаем дитя человеком,
имеющим свободную волю, то имеем право требовать,
чтобы он имел власть не над чувствами, но над поступ-
ками своими. Мы не имеем права требовать, чтобы дитя
любило своего воспитателя, не имеем никакого права
обвинять его, если этой любви нет; в этом воспитатель,
* Ben., Т. I, S.
162.
536
конечно, более виноват, чем дитя, и он должен стараться
внушить к себе чувство любви, которое нельзя развить
принуждением; но имеем право требовать от дитяти,
чтобы в его поступках в отношении нелюбимого воспи-
тателя оно не выразило своего чувства нелюбви. Мы
не имеем права требовать, чтобы дитя ласкалось к вос-
питателю, которого оно не любит; поступим чрезвычайно
дурно и безнравственно, если будем на этом настаивать;
но мы должны требовать
от дитяти, чтобы оно было в
своих отношениях и с нелюбимым воспитателем — веж-
ливо и исполняло все свои обязанности в отношении
его, хотя холодно, но точно. В такое тяжелое отношение
к детям может быть поставлен иногда и очень хороший
воспитатель, так, напр., если он принимает на себя
дело воспитания после воспитателей слабых, наделав-
ших, может быть, много зла детям; а иногда даже и в том
случае, если бывший воспитатель был очень хорош,
так что дети сильно его полюбили
и смотрят враждебно
на новое лицо, каково бы оно ни было. В таком случае
всегда лучше обратиться к детям совершенно холодно,
но с величайшей справедливостью, не заискивая их
ласк и не лаская их самому; но в выполнении своей
обязанности показать как можно более дельного уча-
стия к детям. В таком образе действий проявится благо-
родство, хладнокровие и сила характера, а эти три
качества мало-помалу непременно привлекут к воспи-
тателю детей, особенно если это мальчики, которые
ничем
так не привлекаются, как силой физической
(Benecke), а особенно силой характера, если они в том
возрасте, что могут ценить эту силу.
Однакоже ? придавая важное значение чувствам
дитяти, не нужно придавать им более того, чем они
имеют. История детских чувств это летопись начинаю-
щейся истории души, а не описание уже непоправимых
событий. Мы, пожалуй, согласны признать с Бенеке,
что чувство, раз появившись, оставляет по себе след,
которого уже нельзя искоренить *. Этого, впрочем,
*
Ib., S. 209,
537
нельзя доказать: часто в отношении одного и того же
предмета чувства наши до того меняются, что только
усилиями памяти и без всякого сердечного движения
мы можем припомнить, каким было это прожитое чув-
ство, но этот след может совершенно затеряться во мно-
жестве следов противоположных. Изменить протекшую
историю детской души, выражением которой служат
чувства дитяти, конечно, нельзя; но можно изменить
дальнейшее направление этой истории.
Чувства
детей могут быть сильны, но не могут быть
глубоки: сильны они, потому что в душе дитяти нет
еще такого содержания, которое могло бы им проти-
виться; не глубоки они потому, что выражают собой
не весь строй души, которая не пришла еще к единству
сама с собой, а только несвязанные части этой будущей
одной душевной сети, которая подготовляется *. Это
подготовляются материалы для будущего здания
характера, из которых многие окажутся негодными
и сами собой будут оставлены, но какие
— в этом-то
и вопрос.— Те, которых будет менее, которые не подой-
дут к основному характеру здания. Вот почему, как мы
сказали, воспитание, не придавая абсолютного значе-
ния чувствам ребенка, тем не менее в направлении их
должно видеть свою главную задачу.
Эта разрозненность чувственных ассоциаций выра-
жается в необыкновенной подвижности, переменчивости
чувствований дитяти. Дитя плачет и смеется, сердится
и ласкается почти в одну и ту же минуту: чувство
проходящее не
связано у него с тем, которое настанет
через минуту; каждым из них дитя увлекается все,
гораздо сильнее, чем взрослым, но с каждым расстается
быстро и легко переходит к совершенно противополож-
ному. Это выражается не только в действиях, но даже
в физиономии ребенка: гнев, страх, надежда, радость,
печаль, привязанность или отвращение выражаются
чрезвычайно рельефно на лице ребенка, но через минуту
же исчезают, не оставляя никакого следа на этом гладком
* Ben., S. 218.
538
фоне, который под старость весь испишется глубокими
следами пережитых чувств.
Однакоже опасно впасть и в другую крайность и
думать, что детские чувства проходят без следа: если
бы эти следы не накоплялись в человеке с детства, то
не высказались бы они так ясно под старость: толстые
кривые сучья крепкого дуба, которые можно теперь
сломать, или выкрошить, были тоненькими стебелька-
ми, и в то время движение легкого ветра определило
их
теперешнее, неизменимое направление. Следы
чувств остаются в дитяти и привлекают себе подобные:
все же дело в направлении души решается тем, каких
следов наберется больше.
Дитя не умеет скрывать своих чувств, и это, конечно,
прекрасная сторона детства. Но если дитя будут пресле-
довать за чувства, то оно скоро приобретет это печаль-
ное искусство, и тогда душа дитяти замкнется для вос-
питателя и воспитатель будет бродить в потемках.
Укорять дитя в чувстве, выразившемся на
его лице
или в его голосе, так же рационально, как укорять
его в том, что его щеки румяны.
Дети даже еще в младенческом возрасте приучаются
уже угадывать сердцем чувства взрослых, и в этом от-
ношении детская проницательность поразительна. Мож-
но скорее обмануть взрослого, чем ребенка, в тех чув-
ствах, которые мы к нему питаем. И это зависит от све-
жести и симпатической переимчивости детской природы:
чувство, едва мелькнувшее в лице или в главах взрос-
лого, инстинктивно
отражается в нервах ребенка,
а отражение это отзывается и в душе. Вот почему воспи-
тателю недостаточно, если он почему-либо решился
скрывать свои чувства от детей: он должен переменить
их, если они могут мешать делу воспитания; переменять
же их он может хорошим изучением этого дела, за кото-
рое он берется, и, главное, глубоким и искренним изу-
чением человеческой природы вообще и детской в осо-
бенности; если же и после такого изучения он не полю?
бит детей, тогда лучше
ему не браться за дело воспи-
тания*
539
На этой же симпатической передаче чувствований
основывается детская подражательность, о которой мы
сказали выше, и детское соревнование, о котором мы
считаем нужным сказать тоже несколько слов.
Соревнование, как мы видели, может прямо основы-
ваться на инстинктивной симпатии подражания без
всякой мысли о превосходстве: видя быстро движущий-
ся предмет, мы невольно делаем движение в ту сторону,
куда он движется. Соревнование такого чисто
нервного
свойства сильно у детей и, без сомнения, можно поль-
зоваться им безбоязненно для хорошей цели. Видя игру
детей, дитя увлекается игрою. Видя, как все учатся,
садится за книгу и т. п. Здесь нет еще настоящего ду-
шевного соревнования: дитя не думает ни превзойти
своих товарищей, ни догнать их, а просто делает то, что
другие делают. Но соревнованием сознательным, если
и можно пользоваться, то с крайней осторожностью:
ибо ни от чего так не развиваются самые дурные стороны
души
человеческой — зависть, злорадство и, наконец,
положительная злоба, как от неосторожного возбужде-
ния чувства соревнования. Конечно, это очень могуще-
ственное средство подвигать ребенка в учений, но успехи
в знаниях, как заметил еще Руссо *, покупаются при
этом слишком дорогой ценой нравственного и душев-
ного спокойствия и счастья человека. В этом отноше-
нии совет Руссо кажется нам самым рациональным:
пусть дитя соревнуется с самим собою, т. е. сравнивает
то, что он сделал
вчера, с тем, что он сделал сегодня,
не сравнивая своих успехов с успехами других…
(Ф. 316, № 22, «Педагогические приложе-
ния», л. л. 51—60).
256. (VII, 20). Телесные наклонности. 1-ое педагогиче-
ское приложение о чувствовании
«Тело должно быть сильно, чтобы повиноваться
душе» (Emile, р. 27).
* Руссо ….
540
257. (VII, 30). 3-е педагогическое приложение стра-
стей. Любовь к наставнику
«Дети льстят иногда старикам, но никогда их не
любят» (Emile, р. 24).
Это ложъ; хотя замечание Руссо, что наставник
должен быть молодым, ребенком, насколько это воз-
можно взрослому человеку, совершенно справедливо.
То же замечает и Бенеке, говоря, что дитя привле-
кает физическая сила, ибо он ее только понимает.
6. О воспитании воли
258. Душевные стремления
Независимо
от удовлетворения стремлений, пробу-
ждаемых в душе телесными потребностями, есть в ней
самостоятельные, из нее самой исходящие стремления к
сознательной деятельности. Это мы можем заметить
не только у человека, но и у животных. Животное по
удовлетворении своих телесных потребностей не остает-
ся спокойным, — доступно скуке, любит играть,
любопытствует, ищет ласки. Гербарт, обративший
внимание на это явление (Lehrbuch der Psychologie,
§110,79), но не могший объяснить его по
своей теории,
не признающей никаких врожденных душе стремлений,
говорит, что «в беспокойной деятельности, проявляю-
щейся у детей и у животных, много жизни и мало духа».
Духа здесь действительно нет, а есть жизнь’, т.е. душа.
…Потеряв любимого человека, собака страдает пси-
хически, отказывается от лакомого куска… Лошади
способны к такой же привязанности. У человека мы
замечаем то же прогрессивное возрастание чисто пси-
хических интересов по мере того, как удовлетворение
его
телесных потребностей поглощает менее его дея-
тельности.
Наука и искусство возникают, когда накопление
капиталов и изобретение орудий облегчают уже труд
человека по удовлетворению потребностей телесной
жизни…
541
Душа требует психической деятельности, откуда бы
ни шли ее задачи (на относительное значение этих задач
мы обратим внимание впоследствии, а теперь нас за-
нимает только формальная сторона деятельности).
Деятельность — это преодолевание препятствий. Где
нет стремлений, нет и деятельности; но нет ее также и
там, где нет препятствий: как только препятствия прео-
долены, деятельность необходимо прекращается. Но
едва ли есть страшнее наказание
для человека, как
лишение всякой деятельности: вол, поставленный в
такое положение, будет жиреть, человек — сохнет,
хиреет, приходит в отчаяние, впадает в безумие. (До-
стать хорошие сведения об американских тюрьмах).
Одним из самых обыкновенных мотивов поступков чело-
века является искание психической деятельности:
книги как средство развлечения, театры, балы, вино,
карты, рулетки, прогулки, вечеринки; игрушки всякого
рода, сон от нечего делать, и тысячи равных «препро-
вождении
времени» не имеют другого значения, как
удовлетворение врожденного человеку стремления к
психической деятельности. Жажда психической дея-
тельности и душевная тоска, вызываемая неудовле-
творением этой жажды, составляют главное основание
радостей и печалей человека, его привязанностей и
отвращений, его верований и его страхов, его надежд
и его отчаяния.
«Если мы замечаем в себе недостаток ощущений, то
это производит в нас некоторый ужас пустоты (horror
vacui) и составляет
как бы предчувствие смерти, смерти
медленной и более тягостной, чем та, когда судьба разом
прерывает нить нашей жизни» (Кант, Anthrop., § LXII).
Этот зоркий*^ упорный самонаблюдатель не имел ни-
какой предвзятой теории, и его «Антропология» есть
скорее собрание наблюдений глубокого мыслителя,
сделанных им над душевными явлениями в продолжение
его долгой жизни, посвященной упорному мышлению,
чем систематическое изложение учения о человеке.
В этой книге, исполненной чрезвычайно
глубоких и
верных психических наблюдений, мы часто встречаем
542
даже кажущиеся противоречия… «Удовольствия и неу-
довольствия относятся между собой не как плюс и ноль,
а как плюс и минус, как две противоположные реаль-
ности, исключающие друг друга». И в другом месте:
«удовольствие есть чувство легкого и прогрессивного
движения жизни; а страдание есть чувство препятствия
жизни. Жизнь же, как уже заметили медики, есть по-
стоянная смена удовольствия и страдания». Но почему
же так? Не можем ли мы чувствовать
постоянно только
«легкое и прогрессивное движение жизни», не испыты-
вая препятствий и, следовательно, неудовольствий?
На этот вопрос Кант отвечает: «состояние страдания
непременно должно предшествовать всякому удоволь-
ствию. Наслаждение не может следовать за наслажде-
нием, и страдание непременно должно поместиться
между двумя наслаждениями. Именно страдание по-
буждает нас к деятельности, а в деятельности только мы
получаем сознание жизни» (Anthrop., § LXI).— Заметка
чрезвычайно
верная: всякая деятельность наша должна
начинаться страданием, неприятным чувством неудо-
влетворенного стремления г которое и побуждает нас
отыскивать ему удовлетворение… Мы должны почув-
ствовать сначала жало неудовлетворенного стремления
и потом уже сладость его удовлетворения. Из этого
Кант выводит кажущийся софизм, что «труд есть по-
тому лучший способ наслаждения жизнью, что труд
тягостен, неприятен сам по себе и приятен только по
своим последствиям» (§ LXII). — Итак,
труд тягостен,
неприятен, а без него нет удовольствий. Без страда-
ний нет наслаждений; страдание есть единственная
монета, на которую покупаются наслаждения, и на-
сколько хватает у нас этих печальных денег, настолько
мы и наслаждаемся.
Но не есть ли это кантовская антиномия, перене-
сенная в сферу психологии? Сколько нам известно,
Кант нигде не выводит во всей ясности этой антиномии,
нигде не доказывает полной невозможности ее разреше-
ния, как это сделал он для своих
логических антиномий.
Но, между тем, она сама вытекает из его слов, и так
543
как это не абстрактная сфера логического мышления,
à практическая, то как-нибудь да примиряется же в
жизни.
Стремление есть непременно стремление к деятель-
ности, а деятельность есть выполняемое стремле-
ние. Между этими двумя понятиями необходимой
гранью служит третье — препятствие. Без препятствий
ни стремление, ни деятельность невозможны* Вот
почему, негодуя на препятствия и преодолевая их, душа
вновь .их ищет.— Эта психическая
антиномия между
стремлением к деятельности и стремлением к покою
разрешается двумя путями — истинным и фальшивым.
Если внимание увлечено самой деятельностью, а не
удовольствием, из нее вытекающим, это путь прямой,
действительный. Но если не само дело, а проистекающие
из него удовольствия увлекают человека, он- поста-
рается обойти преграды и воспользоваться удовольствия-
ми,— это фальшивый путь гоньбы за блудящими огонь-
ками, отыскивание розы без шипов… Есть люди, влюб-
ляющиеся
во всякий труд, не только выбранный ими
свободно, но даже выпавший случайно: они, кажется,
любят труд для самого труда; другие стараются
обойти препятствия, ищут удовольствий, наслаждений.
О влиянии воспитания на прогрессивное расширение
прирожденной силы душевных стремлений мы скажем
в своем месте…
В активной форме стремление к жизни проявляется,
когда все телесные стремления уже удовлетворены,
а душа просит жизни, т. е. деятельности. Только у
человека это стремление
выступает в полной силе…
Нам могут заметить, что деятельность не более как
форма стремления к делу, но к какому делу? Эта заметка
совершенно справедлива: мы покудова говорим только о
форме, так как дело у каждой жизни свое. Бабочка
не из удовольствия, а напротив, вынося множество
трудов и неудовольствий, делает свое дело, результата
которого не увидит. Так и у людей свое особое дело и
у каждого человека свое особое, но так как особенность
человеческого дела вытекает и$ особенностей
человече-
544
ской природы, которые мы назвали покудова общим
собирательным именем духа, то нам и. не время еще
говорить об этой особенности. Здесь же мы хотели
показать только, что жизненное дело есть сердцевина
всякого живого существа, что без подобного дела че-
ловек — пустоцвет.
…Кант признает стремление к свободе врожденным
только одному человеку. Это кажется нам совершенно
несправедливым. Многие животные выказывают необык-
новенно ясное стремление
к свободе; многие из, них в
неволе долго отказываются от пищи, перестают плодиться
и т. д. Не только у животных, не только у отдельных
людей, по и у целых народов стремление к свободе может
быть крайне неразвито вследствие воспитания и образа
жизни… Стремление к свободе, как правильно заметил
Кант, «есть самая сильная и стремительная из всех
природных наклонностей человека» (Anthrop., § 81)…
Стремление к деятельности и стремление к свободе так
тесно связаны, что одно без
другого существовать
не может. Деятельность должна быть моя, увлекать
меня, выходить из души моей, следовательно, должна
быть свободна. Свобода же затем только мне и нужна,
чтобы делать мое дело. Отымите у человека свободу,
и вы отнимите у него его истинную душевную деятель-
ность. Вот почему деспотизм всегда и везде создавал
два сорта людей: плутов и развратников. Нужно ли
представлять этому примеры? Чем менее свободы у
человека или у народа, тем более вынуждается он к
фальшивой,
кажущейся деятельности и тем несчастнее
он делается, потому что не живет серьезными, из души
вытекающими интересами. Психология ясно указывает
на неизбежный закон, что полный раб всегда или плут,
или развратник, а чаще то и другое вместе. — Но
разве не было честных, добродушных рабов? Были,
но в одном только случае, если они любили своих гос-
под. Любовь единственное средство подчинить себе
душу человека. Кто повинуется другому из любви,
тот повинуется уже требованию собственной
души и
делает чужое дело своим.— Но если стремление к сво-
545
боде так существенно для истинной деятельности, то
истинная деятельность столь же существенна для сво-
боды. Мы чувствуем свободу, только преодолевая стес-
нения… Только задушевная деятельность наша,
увлекая нас все вперед и вперед, заставляет нас бес-
престанно стеснять свою свободу, преодолевать пре-
грады и чувствовать свободу… Подвергая себя бес-
престанным стеснениям из любви к своему делу, чело-
век вырабатывает себе истинную
свободу. Вот почему
истинная свобода только и бывает у людей и народов
деятельных.
Из этого уже видно, что стремление к свободе
только как свободе, оторванно от дела, для которого
нужна свобода, есть фальшивое стремление. Всякое
дело, выставляя нам препятствия, есть уже стеснение
свободы. Быть же абсолютно свободным значит быть
Свободным от всякого дела, т. е. попасть в состояние
величайшей несвободы, в котором находится человек,
не имеющий никакого дела и теснимый изнутри
врож-
денной душе потребностью деятельности. Сбрасывая
все стеснения, мы уничтожаем самую возможность
чувства свободы.
На этот путь лживой свободы увлекались часто не
только отдельные лица, но и отдельные народы. Гегель
весьма верно заметил, что в период французской рево-
люции проглядывает весьма ярко это стремление выбро-
сить всякое содержание из своей собственной воли,—•
искание свободы для свободы.— Совершенно другой
характер преобладает в стремлении английского на-
рода
к свободе: она требовалась не как абстрактное
благо, но как раз настолько, насколько требовала
ее сама деятельность народа, и расширялась по мере
расширения деятельности этого деятельнейшего из
народов. Вот почему формы правления одного народа
не годятся для другого: они будут ему или слишком
широки или слишком узки, так как они выросли не из
era деятельности.
Нет ничего неестественнее и фальшивее, как декла-
рации о свободе таких людей, которые только и могут
546
жить, что на чужой счет, и не могут сделать действи-
тельного шага вперед без чужой помощи.
(Ф. 316/21, «О душевных стремлениях»,
стр. 46—77).
259. Стремление к деятельности как основа душев-
ной жизни человека
Тогда как в растении силы, добытые процессом
питания, идут на растительный же процесс, на увели-
чение и размножение растения, в животном часть таких
же сил расходуется на нечто новое: на удовлетворе-
ние стремления к деятельности.
Эту новую потребность
в организме приносит и новое начало — душа. Если
у взрослого человека высказывается менее «беспокой-
ной животности», то это еще не доказывает, чтобы в нем
потребность деятельности уменьшилась: она приняла
только другую форму, не высказывается уже в беспо-
койных движениях и требованиях перемен. Если поэт,
сидя спокойно, обдумывает целый день новую драму,
то можно ли сказать, что в душе его происходит менее
деятельности и притом разнообразной, чем в душе
дитяти,
которое может каждый день и по несколько ча-
сов сряду играть в лошадки, считая себя кучером, а
стул лошадью.
Ребенок взглянет на цветок, сомнет его и бросит, а
ботаник над тем же самым цветком может просидеть
целые месяцы. Ребенок набирает впечатления для буду-
щих работ, беспрестанно вызывает своими движениями
новые и новые впечатления, и вот почему его деятель-
ность так кидается в глаза: когда же он станет работать
над следами этих впечатлений, то деятельность его
будет
хотя обширнее, но незаметнее.
Если же под старость, как говорят, уменьшается
вообще и внешняя и внутренняя деятельность, то это
легко объясняется недостаточной уже выработкой фи-
зических сил, которые всегда потребляет душа при
своих работах.
Другой психический факт, который знаком, конечно,
каждому, состоит в том мучительном состоянии души,
547
которое мы вообще навиваем скукой. Скука есть именно
тяжелое чувство недостатка душевной деятельности:
следовательно, темное, но очень болезненное и мучи-
тельное чувство стремления души к деятельности
(Kant Anthrop.). Чувство это может дорасти до того,
что человек готов даже прекратить жизнь свою, чтобы
избавиться от этого стремления. Если человек так рас-
порядился жизнью, что истощил все ее рессурсы, а
внутренней и бесконечной работы
себе никакой не под-
готовил, судьба же не посылает ему нужды, то чувство
тягости жизни одолевает его все более и более и не-
редко доводит до самоубийства. Эта же тягость жизни
не .что иное, как неустанное требование душой дея-
тельности, которой она не может себе отыскать,
так как не образовавши во-время серьезных привя-
занностей и занятий, она все перепробовала и все
ей надоело.
В Нью-Йоркских исправительных тюрьмах оди-
ночной системы самым сильным наказанием считается
лишение
преступника возможности работать (Raue).
Но это не какие-нибудь исключительные факты:
если мы присмотримся к людям, нам близким, или
взглянем в самих себя, то убедимся, какую важную
и многозначительную роль во всей нашей жизни играет
скука, эта отрицательная форма выражения стремления
души к деятельности. Если вы, читатель, не принад-
лежите к одной из двух категорий людей, почти застра-
хованных от скуки: если ежедневная потребность ра-
ботать из-за куска хлеба не погоняет
вас с утра до ночи:
или если в вас нет какой-нибудь усиленной, беспрерыв-
ной, страстной работы: то загляните в себя, припомните
мотивы своих поступков, и вы увидите, как часто между
этими мотивами встречается мотив скуки, как многое
вы делали от скуки, для избежания скуки или для до-
ставления деятельности своей душе: для большей части
людей чтение (а книги ныне поглощаются миллионами
экземпляров и всего более романы), театр, бал, вино,
карты, рулетки, прогулки, вечеринки,
игрушки вся-
кого рода и пр. не имеют другого значения, как сред-
548
ства против скуки: а все эти вещи поглощают, по край-
ней мере, 4/в всего времени (если исключишь сон,
который также часто бывает от скуки) у людей, не пого-
няемых ежедневной потребностью зарабатывать себе
пищу, приют и одежду.
Но и этого мало: если мы вглядимся в чувствования,
не имеющие, кажется, ничего общего со скукой, как
например, в горе, которое одолевает нас по потере
любимого человека, то увидим, что и здесь главный
мотив
наших страданий — глубокое поражение души
в ее стремлении к деятельности. Чем более деятельности
находила душа наша в привязанности к другому чело-
веку: чем более насоздавала ассоциаций следов этих
отношений, чем обширнее и ветвистее были эти ассо-
циации, тем тяжелее для нас потеря. Почти во всем,
что мы делали, думали и чувствовали, во всех верени-
цах наших внутренних движений человек этот был
необходимым звеном, — и вдруг это звено вырвано и
вместе с ним все стройное
и удобное здание, выстроенное
нашей душой и по которому она привыкла расхажи-
вать, не переставая строить его все дальше и дальше,—•
рухнуло и лежит в развалинах. Душа кидается на
какую-нибудь привычную дорогу,— но навстречу ей
подорожный столб, на котором написано: «его нет и
сюда уж незачем итти»; душа подымает какую-нибудь
вереницу мыслей, пропитанных чувствами, и вся эта вере-
ница разваливается, — в ней вырвано главное звено; душа
Хочет что-нибудь предпринять и останавливается,—
нет
уж того, кто так или иначе впутывал его в каждое
предприятие. Вот это душевное состояние, которое мы
называем глубоким горем о потере близкого нам чело-
века. Душе надобно приниматься за работу снова: вся
эта работа так узка, что ей, привыкшей к широким дви-
жениям, повсюду тесно, и долго с тоской оглядывается
она на пожарище, где стоял когда-то громадный и вечно
громадно-строящийся дом: можно ли сравнить его с
вновь выстроенной лачугой? Но мало-помалу лачуга
отроится, покой
за покоем, этаж за этажем, и душе
Становится все просторнее и просторнее и в то же
549
время теснее и теснее, потому что это здание вое
населяется: она вздыхает все реже и реже.
Вот почему люди, беспрестанно трудящиеся, легче
переносят горе, чем праздные: вот почему молодость,
выстраивающая быстрее новые здания, забывчивее
старости, у которой уж часто нет ни сил, ни материалов
для новых построек. Вот почему, наконец, нет тяжелее
потери, как потеря пожилой уже матерью взрослого
сына, с которым все вереницы ее мыслей, чувств,
жела-
ний, надежд и предприятий привыкли сплетаться с
колыбели, с первого крика и даже еще с первого движе-
ния под сердцем. На одной картине в Ватикане, ка-
жется, Гверчино (картина эта помещается в первой вале
немногочисленной картинной галереи Ватикана) пре-
святая дева изображена старухой, лобзающей зияющие
раны своего сына, снятого с креста: взгляните на нее
и вы увидите, что весь мир, и небо, и земля, все отноше-
ния жизни, вся будничная и вся праздничная ее обста-
новка,
все надежды и желания, ее наполняющие, все,
что создавала душа этой женщины в продолжение всей
се жизни,— разрушилось, все не существует, ничего
не существует ва всем жестоком мире, кроме этой руки
с зияющей, запекшейся язвой.
Мы поневоле должны были забежать немного вперед,
чтобы показать приложение выставленного нами начала
К проявлению отдельных чувствований. Гипотеза,
конечно, ничем так не оправдывается, как ее приложе-
нием к объяснению фактов, для объяснения которых
она
создана, а потому мы и отнесли дальнейшие дока-
зательства этой гипотезы к изложению отдельных
чувствований: а теперь посмотрим еще на отношение
этой гипотезы к проявлениям чувствований удовольствия
и неудовольствия, с которыми она находится в тесней-
шей связи. Чтобы быть независимыми в этом приложе-
нии гипотезы и не поддаться невольному увлечению
своей мыслью, мы анализируем чувствования удоволь-
ствия и неудовольствия словами Канта, который,
не будучи психологом-систематиком,
сложил в своей
«Антропологии» (самой светской книге из сочинений
550
Канта) и сложил довольно беспорядочно просто психо-
логические наблюдения и самонаблюдения своей дол-
гой и внимательной жизни.
«Удовольствие и неудовольствие, говорит Кант^
относятся между собой не как плюс и ноль, а как плюс
и минус (+ и —), т. е. как две противоположных реаль-
ности, исключающие друг друга». «Что заставляет
меня (через посредство моих чувств) оставить мое со-
стояние (выйти из него), то мне неприятно, заставляет
меня
страдать: а то, что побуждает меня сохранить мое
положение (пребывать в нем), мне приятно».— «Спра-
шивается теперь, продолжает Кант: что возбуждает в
нас чувство удовольствия,— сознание ли того, что мы
оставляем настоящее состояние или перспектива войти
в будущее? Уже само собой разумеется, что может быть
только первое: ибо время увлекает нас из прошедшего
в будущее, а не наоборот. Нам только нужно выйти из
настоящего положения и о том, в которое мы выходим,
мы внаем только,
что оно будет другое: а это одно не
может быть причиной приятного чувства».
Несколько далее Кант говорит еще яснее: «удоволь-
ствие есть чувство легкого и прогрессивного движения
жизни: страдание есть чувство препятствия жизни
(останавливающего жизнь!). Жизнь, как уже заметили
медики, есть постоянная смена удовольствия и страда-
ния». — «Состояние страдания непременно должно пред-
шествовать всякому удовольствию: страдание, следо-
вательно, всегда первое».* — «Наслаждение
не может
следовать непосредственно за наслаждением и страдание
непременно должно поместиться между двумя удоволь-
ствиями. Страдание есть побуждение к деятельности:
* Это очень хорошо выражено у Эрдмана: «не предмет
дает нам удовольствие, а потребность в предмете» (см. Erd-
mann в книге). Вот почему Гербарт неосновательно делает осо-
бый отдел для чувств, которые связываются с свойствами
чувствуемого (Lehrbuch der Psychologie, S. 73). Не в вещи
ее приятность, а в потребности
вещи: следовательно, чувство-
вания должно разделить по стремлениям, из удовлетворения
или неудовлетворения которых они рождаются, а не по пред-
метам, удовлетворяющим стремлению.
551
а в деятельности именно мы получаем сознание жизни
й без страданий жизнь прекратилась бы» (Kant’s Anth-
rop., § LIX).
Пояснив эти психологические заметки примерами
(удовольствие, которое мы находим в игре в карты, в
трагедии и т. п.), Кант прибавляет: почему труд есть
наилучший способ наслаждения жизнью? Потому, что
это занятие тягостное (неприятное само по себе и прият-
ное только по своим последствиям), и потому, что покой,
происходящий
от прекращения долгого утомления,
производит чувствительнейшее удовольствие и истин-
ное наслаждение. Чувствовать жизнь есть не что иное,
как чувствовать себя принужденным выходить из на-
стоящего состояния. Это тягостное побуждение оста-
вить момент, в котором мы находимся, и перейти в
другой, имеет в себе что-то ускоряющее и может даже
довести человека до решимости прекратить свою жизнь,
если человек перепробовал уже наслаждения всякого
рода и для него не остается уже никаких
новых насла-
ждений». «Если мы замечаем в себе недостаток ощуще-
ний, то это производит в нас некоторый ужас пустоты
(horror vacui) и оставляет как бы предчувствие смерти
медленной и гораздо более тягостной, чем та, когда
судьба разом прерывает нить нашей жизни».
«Природа вложила в человека страдание затем, чтобы
заставить его действовать. (Примеч. Но тогда к чему
бесцельные страдания и такие сильные и продолжи-
тельные, что они отымает возможность действовать?
Не простая
ли невозможность здесь наслаждений без
страданий как плюс без минуса?) Абсолютное доволь-
ство жизнью вызвало бы инертный покой: прекращение
возбуждений, исчезновение ощущений и остановку
зависящей от них деятельности. Но такое состояние,
как остановка сердца, неизбежно ведет за собою смерть»
(ib., § LXII).
Мы с намерением сделали это длинное извлечение
из «Антропологии» Канта, книги, которая менее, всего
имеет претензию на систему и теорию и которая всего
скорее может
быть названа психологическими замет-
552
ками человека необыкновенно умного, долго жившего
и проницательного наблюдателя. Кант даже не забо-
тится о примирении противоречий, встречающихся в
этих его заметках: но тем они для нас драгоценнее: так,
географ наиболее дорожит записками человека, путе-
шествовавшего долго и много, если он записывал свои
наблюдения без всякой предвзятой теории.
Итак, страдание есть необходимое условие насла-
ждения: без страданий нет наслаждений. И чем
интен-
сивнее и продолжительнее страдание, на смену которого
и приходит наслаждение, тем наслаждение сильнее.
Одно из самых тяжелых для человека чувств — это
чувство страха, и одно из самых величайших наслажде-
ний, какое только дано испытывать человеку, это осво-
бождение от гнета страха. Но почему же так тяжел
страх? Именно потому, что он ставит преграду нашей
прогрессивной душевной деятельности, что он бросает
тяжелый камень посреди нашей дороги и не дает нам
возможности
попрежнему думать, чувствовать и дей-
ствовать: он вплетается, как тысяченогий полип,вовсю
нашу душевную работу и останавливает ее, И чем про-
должительнее, неотступнее и интенсивнее был страх,
тем больший восторг обнимает нас, когда накопившееся
стремление жить, т. е. свободно действовать, выры-
вается, наконец, на волю: так горный поток, про-
рвавши запрудившую его снежную лавину, клубится и
шумит с силой, равняющейся опрокинутому им пре-
пятствию,
Кант называет труд
тягостным занятием, которое
приятно не само по себе, а только по своим послед-
ствиям: но эта заметка справедлива только отчасти.
Кто из людей, окончивших какой-нибудь большой труд,
бывший до сего его собеседником и днем и ночью, не
раз изнемогавший под его тяжестью, не pas мечтавший
о той счастливой минуте, когда он будет окончен, вовсе
не испытывает при его окончании того счастья, которое
ожидал, а напротив, ощущает какую-то грустную пу-
стоту: и это, иногда очень тяжелое
ощущение продол-
жается до тех пор, пока не завяжется новая работа*.
553
Иной человек бьется в своей жизни, чтобы избавить-
ся от необходимости трудиться,— и что же? Когда,
наконец, настает эта вожделенная минута, чувствует
свое состояние гораздо несчастнее того, когда он так
упорно трудился, чтобы иметь возможность не тру-
диться.
Что же мы выводим из всех этих примеров, которые
могли бы умножить до бесконечности? Выводим, что
в труде тягость преодолевания препятствий, пока они
еще держатся, и удовольствие
преодолевания, когда
они начинают рушиться, так соразмерны, что нейтра-
лизуют друг друга и потому перестают быть удоволь-
ствием или неудовольствием, а становятся деятельно-
стью; что здесь нет ни невыполненного стремления
(всегда неприятного), ни выполненного (всегда приятно-
го), но выполняющаяся, т. е. свободная, деятельность в
своей действительности: т. е. жизнь, высшее благо,
из которого проистекают и удовольствие и неудоволь-
ствие, как мгновенно загорающиеся и мгновенно
по-
гасающие искры, что прыщут из-под кузнечного молота:
и которые сами по себе ни удовольствие, ни неудоволь-
ствие, а просто совершающаяся жизнь. Вот почему
следующий совет, подаваемый Кантом юноше: «моло-
дой человек! люби труд и избегай удовольствий не для
того, чтоб отказаться от них, но для того, чтобы, сколько
возможно, иметь их всегда только в перспективе»,— не
только смешон, но и неверен. Этот совет следовало бы
изменить так:«юноша! пойми неизбежный психический
закон
труда и жизни и если хочешь жить, то ищи труда,
а не удовольствий: удовольствия же сами тебя отыщут».
В отношении труда можно сказать то же, что сказал
спаситель в отношении царствия божия: «ищите прежде
всего труда, который мог бы дать вам жизнь, а все
остальное приложится вам само собой».
Но как ни прост этот психический закон жизни, он
далеко еще не сознан людьми. Смешно и грустно смот-
реть, к каким хитростям и уловкам прибегает человек,
чтобы ускользнуть от этого закона,
столь же неиз-
бежного для души, как закон притяжения для тел.
554
Самая обыкновенная уловка состоит в том, чтобы сва-
лить труд на другого, а самому пользоваться плодами
труда. Но чем ‘это более удается человеку, тем далее
от него уходит счастье: вместе с трудом переходит оно
к „тому, кто трудится. Дело другое, если человек, ив-!
бавленный от необходимости труда физического, за-
менит его умственным, тогда это только полезный обычай
труда, разделение занятий; но если он, пользуясь
плодами трудов других,
хочет взять только наслажде-
ния, упорно отталкивая от себя малейшие страдания,—
единственную монету, на которую покупаются наслаж-
дения,— то одно из двух: или он становится все несчаст-
нее, или даже перестал быть животным, а превращается
в питающееся и размножающееся растение.
Но откуда же выходит это побуждение — отделаться
от труда. Очень естественно — из его тягости. Вот
почему Кант в одном месте называет стремление к дея-
тельности врожденным стремлением в человеке
(ib.,
§ LX, Anthrop.), а в другом называет таким же
врожденным стремлением стремление к не деятельности,
к лености (ib., § LXXXV), не сделав попытки прими-
рить эти явные противоречия. Сделаем эту попытку:
{Примеч. на полях каранд.: NB. Следует признать врож-
денное стремление к счастью, которого человек ищет или
в деятельности или в наслаждениях: отсюда два стрем-
ления — к деятельности и к наслаждениям, но насла-
ждения действительно достигаются только через дея-
тельность.)
В
деятельности, как это мы уже видели, есть два
момента: один, когда преграда еще держится непоко-
лебимо, а стремление одолеть ее растет^ другой, когда
преграда начинает уже уступать стремлению, а стрем-
ление находит себе свободный выход и ослабевает. Если
деятельность эта совершается в сознательном и чув-
ствующем существе, какова душа, то первый момент от-
зывается в ней чувством неудовольствия, которое тем
сильнее, чем преграда упорнее, и стремление преодо-
леть ее возрастает
интенсивнее; второй момент, как раз
наоборот, отражается удовольствием, которое сильнее
555
при начале и сильнее настолько, насколько опроки-
дываемая преграда была крепка, и становится все слабее
и слабее по мере разрушения преграды, а прекращается
вместе с преградой, потому что без преграды нет дея-
тельности, как мы это высказали уже выше.
Таким образом, мы видим два акта, из которых один
зависит от другого, но которые не одно и то же: один —
сама деятельность, другой — сопровождающие ее чув-
ства удовольствия и страдания.
Припомним теперь то,
что мы говорили о внимании и о возможности его сосре-
доточиваться на том или другом душевном акте. Одно
следствие будет, если внимание наше сосредоточится
преимущественно на деятельности, и другое —если
оно сосредоточится преимущественно на сопровождаю-
щих ёе чувствованиях удовольствия или страдания;
Если сознание сосредоточивается на самой деятель-
ности или, что все равно, деятельность, как говорится,
нас воодушевляет, то неудовольствие и удовольствие
преодолеваемого
препятствия приходят почти неза-
метно, ощущаются только по временам как нечто побоч-
ное. Но если, наоборот, не самая деятельность занимает
нас, а только проистекающее из нее удовольствие, то
естественно, что мы стараемся избежать неудоволь-
ствия и получить удовольствие. Если это нам удается
или, по крайней мере, мы думаем, что это нам удается,
то мы называем деятельность приятной и продолжаем
ее: если же нам это не удается, то мы называем деятель-
ность неприятной и бросаем
ее, если можно ее бросить.
Но можем ли мы в самом деле достигнуть того, чтобы;
не испытывая неприятной стороны деятельности, поль-
зоваться приятной стороной? Никак! Не предмет до-
ставляет нам удовольствие, а потребность, удовле-
творяемая предметом. И чем эта потребность настоя-
тельнее и долее не удовлетворяется (отчего накопляется
сила стремления), тем и удовольствие, доставленное
этой потребностью, обильнее (кусок-черствого хлеба
может показаться неприятной пищей и самой
приятной,
смотря по степени аппетита). Но неудовлетворенная
потребность неприятна, и чем интенсивнее эта потреб-
556
воетъ, тем она неприятней. Наслаждение удовлетворе-
ния всех телесных потребностей мы покупаем не иначе,
как неприятностью лишения, и сколько мы платим,
как раз столько и покупаем. Сделать целью своей жизни
телесные удовольствия — значит взяться добровольно
наливать бочку Данаид. Обыкновенно стараются не
доводить требования природы до тяжелого чувства,
даже предупреждают его, обманывая или воображение
или вкус: но вместе с тем, как известно,
все более и
более притупляется чувство наслаждения. Конечно,
со стороны кажется, что и гастроном удивительно на-
слаждается изящным вкусом блюда: но это только по-
тому у что он так обеднел в своих удовольствиях пищею,
что и это ничтожное удовольствие кажется ему большим.
Он собственно наслаждается уже не удовлетворением
голода, а различением вкусов, разнообразием их: это
уже своего рода артист; и вот почему ему нравятся
вкусы, которые для человека, который ест, только
когда
он голоден, кажутся отвратительны. Нет такого
вкуса, который человек, преданный гастрономии и
взятый коллективно, не находил бы приятным: ass а
fetida, касторовое масло, каенский перец, гнилая рыба
или дичь, горчица… все это приятно для гастронома,
взятого коллективно. Если европейский гастроном еще
отворачивается от того, что заставляет облизываться
китайского, то это потому, что искусство гастрономии
еще не развилось до своих универсальных пределов.
Но даже и при гастрономическом
наслаждении, как
оно ни ничтожно, человеку не удается обмануть природу.
Если гастроном ест все одно и то же, то удовольствие
быстро исчезает; если же потребность нового вкусового
ощущения удовлетворяется немедленно же, то самое
удовольствие так же ничтожно, как неприятный про-
межуток ожидания.
Но если в гастрономическое дело замешивается
душа, если гастроном уже гастроном не из удоволь-
ствия, а по страсти (бывают такие чудаки); если он раз-
личение вкусовых ощущений
и комбинацию их сделал
своим душеным делом,—тогда уже дело другое: неудо-
557
вольствие или неудовольствие занимают его; он ест и
морщится, ест и улыбается, — но не страдание и удо-
вольствие — его главная цель.— Таким образом, мы
видим, что требования растительного организма (в двух
видоизменениях его жизненного процесса — питание
й размножение), удовлетворяясь, затихают, но на время;
новое возбуждение их сказывается неприятным ощуще-
нием и, насколько мы дали усилиться этой неприят-
ности, настолько сильно будет
и наслаждение. Чем
же короче сроки неудовлетворения, тем и наслаждения
менее. Следовательно, в отношении наслаждения чело-
век зависит от своей физической природы, которую
не обманешь.
То же самое и во всех других наслаждениях, если
они возникают не из дела, ставшего нашим душевным
делом и которое мы делаем, не обращая внимания на
то, сколько оно дает нам удовольствия или неудоволь-
ствия: делаем потому, что душа живет в нем, что это
дело сделалось и содержанием. Радость
ожидания как
раз соразмерна с тяжестью ожидания, и если бы, напр.,
мы любили человека только потому, что он доставляет
нам удовольствие, то на этом основании мы должны
были бы столько же дорожить человеком, которого мы
ненавидим. Мы должны бы были как можно чаще ста-
раться расставаться с другом и как можно дольше оста-
ваться с человеком ненавистным, рассчитывая в первом
случае на радость свиданья, а во втором на радость
расставанья. Если два существа, напр., искали друг
в
друге только наслаждений, то нет ничего гибельнее
для них, как оставаться постоянно вместе.
Возьмите еще наслаждение, хоть, напр., гордостью:
всякий честолюбец скажет вам, если захочет быть от-
кровенным, что самолюбие его как раз столько же испы-
тывало наслаждений, сколько и страданий. Если бы
человек родился всемогущим владыкой мира, никогда
не испытавшим сопротивлений и оскорблений само-
любия, то он менее всех в мире наслаждался бы чув-
ством удовлетворенной гордости.
Только оскорбленное
самолюбие или страх оскорбления заставляют приятно
558
щекотать наше сердце чувством удовлетворенной гор-
дости. Человек, покоривший мир, как Александр Ве-
ликий, и привыкший к приятному щекотанию самолю-
бия, невольно будет поглядывать на луну: нельзя
ли в ее независимости найти оскорбление своему
самолюбию, чтобы приятно потом удовлетворить ему,—
вокруг <которого> все ползает!
. И во всем так: в наслаждении романом, путеше-
ствием, искусством, наукой,— если только они не стали
нашим душевным
делом, если только мы ищем в них
не дела, а удовольствия. Мы находим это удовольствие,
но как раз столько неудовольствия и как раз насколько
мы страдали, настолько и наслаждаемся. Если же мы
думаем надуть закон жизни, то это никак нам не удает-
ся, и мы, утишая страдания, утишаем и наслаждение
щ наконец, доводим те и другие до нуля.
Теория удовольствия и неудовольствия, наслаждения
и страдания — это старая сенсуалистическая теория,
которую опять пустили ныне в ход материалистические
миросозерцания,
ложна в самом своем основании и ре-
шительно не выдерживает психологического анализа.
Весьма много заблуждений и очень вредных проис-
ходит из того, что смешивают стремление души к дея-
тельности со стремлением ее к наслаждениям: только
последнее может быть названо эгоизмом. Конечно,
«никто по воле не делает того, чего не хочет», но разве
это эгоизм? Это только непротиворечие самому себе,
не бессмыслица. Но кто хочет того только, что до-
ставляет ему наслаждение, тот эгоист.
Итак,
жизнь души, не подрывающая сама себя,
может состоять только в деятельности не для добыва-
ния удовольствий или неудовольствий, а для самого
дела. В такой деятельности и удовольствия и неудо-
вольствия нейтрализуются, и на место их выходит
жизнь — горящая, пламенная, сыплющая вокруг искры,
одинаково блестящие и одинаково жгучие: дитя гонит-
ся за этими мгновенными искрами, ловит их, жжет
себе пальцы и опять ловит или огорченное неуспехом
погружается в лень и апатию: но человек
мыслящий
559
становится в средину, берет самый этот источник
жгучих и блестящих искр.
Не вдаваясь в метафизические постройки онтоло-
гического свойства, в которые вдаются Фихте, Шопен-
гауэр, Браубах, не отыскивая, в каком отношении это
гипотетическое стремление души находится к силам
природы, мы принимаем просто, что это стремление есть
выражение особенной душевной силы…. Мы уже пока-
зали выше, что природа душевной силы такова, что
она не может
проистекать из сил физических, что эта
сила не творит физических сил организма, но и не
творится ими; что она может проявляться только через
посредство физических сил: но и физические силы не
дадут без нее ни ощущений, ни чувствований, ни произ-
вольных движений (см. разбор теории Фехнера). Теперь
же мы прибавим только, что первое выражение этой
силы есть стремление к деятельности, к жизни: если
хотите, скука есть первая форма выражения силы
душевной: но не определенная скука,
а то гипотети-
ческое томление, которое заставляет дитя в первый раз
двинуть своими членами.
Такое душевное дело не заключает в себе еще ника-
кого нравственного элемента: оно в нравственном отно-
шении безразлично: таким душевным делом может быть
что-нибудь гибельное или полезное для самого человека
или других людей: но во всяком случае — это живое
дело, это жизнь, это свободный труд, потому свобод-
ный, что он идет из души.
Требование свободы в труде точно так же, как
и
самое требование труда, прирождено душе человека,
В самом чувстве препятствия, испытываемом при дея-
тельности, лежит уже гнетущее чувство несвободы. Это,
может быть, есть первое по времени чувствование (ду-
шевное чувство), которое рождается в* душе младенца,
когда ему связывают члены пеленкой, а он начинает
противиться и кричать. В чувстве преодолевания пре-
пятствия есть благодатное чувствование свободы: от-
сутствие преграды, исчезающее опять так же быстро,
как и
сама преграда.
560
Если бы не было преград, мы бы не ощущали свобо-
ды. Двигаясь в совершенно пустом пространстве, мы
даже не чувствовали бы, что движемся, как не чув-
ствуем теперь, что несемся в пространстве вселенной с
невообразимой быстротой. Чувствование свободы, сле-
довательно, есть дитя предшествовавшего чувства
стеснения: но само чувствование стеснения есть дитя
стремления к свободе, врожденное всякому живому
существу. Кант признает врожденность
стремления к
свободе, но только человеку (§ LXXXI). Нам положи-
тельно кажется, что Кант здесь ошибается. Мы, конечно,
не можем судить о чувствованиях животных (может
быть, этих чувствований и вовсе нет: нельзя доказать
ни pro ни contra): но, сколько можно судить по анало-
гии движений и криков, то следует принять, что и жи-
вотным врождено стремление к свободе, а некоторым в
такой степени, что они даже предпочитают голодную
смерть потере свободы.
Если у животных есть
сознательная и чувствующая
жизнь, подобная той, которую мы в себе ощущаем
(а этого тоже доказать нельзя), то у них должно быть
и стремление к деятельности, а если это стремление к
деятельности, то и стремление к свободе, ибо чувство-
вания, выходящие из обоих этих стремлений, непре-
менно сопровождают одно другое.
В самом понятии деятельности уже заключается
понятие активности, противоположное пассивности.
Пассивная деятельность не есть деятельность, а претер-
певание
деятельности другого. Но есть ли в чистом виде
деятельность пассивная или, лучше, пассивное состояние,
не активное? Нет ни того, ни другого отдельно. Дея-
тельность, как мы уже видели, есть преодоление препят-
ствий: но пока препятствия не преодолены, мы пассивны.
Этот пассивный момент деятельности, если бы он
отравился в чувстве, то отравился бы непременно сте-
снением, препятствием стремлению выразиться свобод-
но, а преодоление препятствия, мгновение, когда оно
уже более
не теснит нас,— чувством свободы, отсут-
ствием препоны. Первое чувство может быть продолжи-
561
тельно, во все время, пока стремление борется с препят-
ствием и должно усиливаться с усилением стремления;
второе, наоборот, весьма сильное в первую минуту,
должно быстро ослабевать и скоро совсем исчезнуть,
если мы его не поддержим, как это обыкновенно и
бывает, воспоминанием нашего стесненного несвобод-
ного состояния. Ничего человек более сильно не ощу-
щает, как первые минуты свободы; ничто не приводит
его в такой энтузиазм («это самая
сильная и стреми-
тельная из всех природных наклонностей человека»,
говорит Кант Anthrop., § XXXI), но в то же время ни
к чему он так скоро не привыкает, как к свободе; сама
но себе она очень быстро перестает ощущаться, но из
этого нельзя заключить, что она исчезла; она не только
бросает свой светлый луч на другие чувства, но стоит
только человеку припомнить или свое прежнее зависи-
мое состояние или взглянуть на другого человека в этом
состоянии,— и счастье свободы мигом
наполнит во-
сторгом и энтузиазмом душу; а если она почует прикос-
новение прежней узды, то вздрогнет, как одичалый конь.
Единственное средство заставить утратить это чувство —
это развратить человека, сделать для него второстепен-
ные наслаждения дороже главного.
Кант причисляет стремление к свободе к врожденным
страстям человека в отличие от созданных людьми
(честолюбия, властолюбия, скупости и т. д.). Врож-
денных страстей Кант всего полагает две: половая
наклонность
и наклонность к свободе. Как ни странно
такое сопоставление, но обе эти наклонности имеют
то общее, что они одинаково примитивны и сильны:
но первая выходит из потребностей тела, а вторая
явно из потребностей души как необходимый логи-
ческий спутник стремления к деятельности. Кант
готов, кажется, потребность свободы поставить в число
потребностей растительных органических процессов]
но мы видим, что чувство свободы есть не более как
первая форма отражения в чувстве стремления
к дея-
тельности или, лучше сказать, процесса деятельности
в обоих его моментах; чувство удовольствия или неудо-
562
вольствия будет уже только второй формой. Бэн тоже при-
ходит к этой мысли (Emotion and the Will, p. 58) и начи-
нает и счисление душевных чувств с чувства, связанного
с свободным выражением душевного движения (vent of
Emotion) и с противоположным выражением задержан-
ного или остановленного движения; но странно, что
он не дает всего значения этой мысли, какое бы она
должна иметь. Но принадлежит ли она сама к чувствам
удовольствия или неудовольствия?
нет, мы ясно его
отличаем. Прекращение долговременно и сильно му-
чившей нас боли само по себе не дает никакого чувства;
это только прямое отрицание чувства боли; но если
ничто не доставляет нам столько счастья, как прекра-
щение долговременной боли, то это именно потому,
что боль не только заставляла нас страдать, но мешала
нашей душевной деятельности, отымала у нас свободу
мыслить, чувствовать и действовать, как мы хотим или
как мы привыкли. Слабая зубная боль, короткий
проме-
жуток которой вовсе не так мучителен, способна довести
до отчаяния именно как помеха душевному процессу.
Конечно, чувство стеснения по большей части сопрово-
ждается неудовольствием, но бывает и наоборот: так,
человек нерешительный бывает иногда радехонек под-
чиниться чужой воле и даже посулу какой-нибудь
Приметы или гаданья и истинно страдает, когда ему
предоставляют свободу действовать: это уже будет,
конечно, извращение природного стремления, как из-
вращаем
мы даже стремления, вытекающие из процес-
сов нашего телесного организма.
* Стремление к свободе и душевное чувство стесне-
ния и свободы так совпадают с стремлением к деятель-
ности, что их можно бы принять за одно и то же: одна-
коже мы видим, что это не одно и то же. В чувстве сво-
боды нет и другого содержания, кроме свободы же,
но самое это чувство испытываем мы, когда представ-
ляется какому-нибудь нашему стремлению помеха и мы
ее преодолеваем. Если бы не было этих стремлений,
*
Вставка на полях ркп. (Ред.).
563
мы не испытали бы ни чувства стеснения, ни чувства
свободы. Конечно, энтузиазм свободы может иногда
дорасти до того, что мы поставим его так же, как ставили
наслаждение выше самой деятельности, выше жизни;
такое стремление к свободе ради только свободы выра-
зилось ясно во время первой французской революции,
что побудило даже Гегеля создать для этой эпохи осо-
бый исторический момент (Werke Hegel’s) произвола,
т. е. воли, выкидывающей всякое
содержание, обра-
щающейся ко всякому содержанию как стеснению;
но сам философ видит в этом моменте только момент
переходный, а мы видим уклонение, может быть, и необ-
ходимое, временное уклонение от человеческой нормы,
как и искание деятельности для удовольствий или уло-
вления наслаждений с избежанием страданий. Свобода,
выбрасывающая из себя всякое стеснение, отворачи-
вающаяся от всякого стремления, или стеснения, есть
стремление пустое, само себя отрицающее, ложный
призрак;
таково стремление экстра-стоиков не подчи-
няться никакому стремлению, чтобы удержать свою
свободу: это была мечта, на деле же они становились
циниками, т. е. такими же рабами телесных стремлений,
как и животное, по которому они получили свое на-
звание.
Свобода рациональна только тогда*, когда она за-
нимает второе место после деятельности (все на своем
месте и есть рациональность), т. е., когда она является
чувством того, что наша деятельность есть именно
наша, потому
что всякая деятельность, которую мы
считаем не нашей, не есть свободная деятельность,
не есть труд, а работа, принуждение, собрание препят-
ствий для свободного процесса нашей собственной
жизни и потому:— или приводит человека в отчаяние,
или заставляет его обманывать, т. е. выполнять
свое желание в форме выполнения чужого, или де-
градирует человека, насколько это возможно, до со-
стояния скота. Все благо деятельности исчезает,
когда она несвободна, идет не из нашей души,
и вот
почему Кант говорит: «тот, кто не может быть счастлив
564
Из черновых рукописей К. Д. Ушинского
565
иначе, как по произволу другого (пусть этот произвол
будет благодетелен, сколько угодно), чувствует себя
действительно несчастным» (Anthrop., § LXXXI).
Только свободная деятельность делает человека
счастливым, ибо деятельность только и может быть,
что свободна, иначе она будет не деятельностью, а
препятствием к деятельности, рядом препятствий, о
которые, как волны о скалы, будут разбиваться само-
стоятельные свободные стремления человека
к деятель-
ности и, с ропотом убегая назад, наполнять душу глубо-
ким, бездонным отчаянием. Но если не деятельность,
сопровождаемая свободой, а сама свобода становится
на первый план, то она делается фальшивым маяком
человеческой жизни, заводящим ее в водоворот стрем-
лений, из которых одно нагоняет другое и ни одно не
может удержаться, и человек увлекается в бездну, для
спасения из которой готов схватиться за яд, за нож,
за руку Наполеона III.
Следовательно, свобода
рациональна только на
своем месте, т. е. как подчиненная душевной деятель-
ности, и это подчинение выражается в том, что человек
сам ограничивает свою свободу для выполнения своей
задушевной цели, которой не может быть свобода,
потому что свобода, стремящаяся только к свобода
пустота, отсутствие препятствий и,_ следовательно,
отсутствие деятельности, отсутствие жизни: в этом
смысле свободен только труп — этот полнейший раб
физической природы.
Ни наслаждение и страдание,
ни стеснения и свобо-
да не составляют сами по себе ничего существенного:
это только спутники душевной деятельности, спутники
жизни; но второй необходимее первого, ибо без сво-
боды сама наша душевная деятельность не будет нашей
душевной деятельностью. Это впрочем не мешает людям
представлять постоянные уклонения: гнаться за на-
слаждениями как за чем-то существенным и, ловя эти
неуловимые блестящие огоньки, терять для них и сво-
боду и деятельность, или плыть на фальшивый
маяк
свободы и попадать в крутящуюся бездну. Только
566
стремление к делу, переходящее в успешную деятель-
ность, сопровождается и свободой и наслаждением,
но также сопровождается неизбежными стеснениями
своей свободы и неизбежными страданиями и достигает
возможного для человека на земле счастья, которое не
в наслаждении и не в свободе, а в деле, в жизни, в нашей
душевной деятельности.
Таким образом, делая краткий вывод ив всего, что
мы старались доказать, мы принимаем:
1) основным стремлением
души — стремление ее к
деятельности. Это стремление души до того фундамен-
тально, до того лежит в основании всех прочих психи-
ческих явлений, что если мы самую душу не называем
Деятельностью, как это делал Аристотель (цит.), то
только потому, что такое название могло бы, лишив
душу собственной ее субстанции, повести к ложному
ее пониманию как деятельности телесного организма
(какой и старается представить ее современный мате-
риализм. См. Фогта… Молешотта….), тогда как
мы
утке доказали, что психическую деятельность, не из-
меняя здравому смыслу, нельзя вывести из свойств
известной нам материи и даже из того понятия о мате-
рии, которое мы только можем себе составить (см. выше
гл. . . .);
2) второе наше положение будет, что деятельность
по самой сущности этого понятия, выведенного нами,
вероятно, из психических же самонаблюдений, есть
непременно борьба и преодоление препятствий и что
никакая деятельность немыслима — а) без препятствий,
б)
бее стремления преодолевать эти препятствия и
в) без действительного преодолевания их;
3) что деятельность душевная совершается созна-
тельно; но что при этом не ощущается ни удовольствия,
ни неудовольствия, нейтрализующих друг друга, а
просто жизнь и, пожалуй, довольство, совершение
жизни, счастье жить;
4) что остановка или ускорение в этом процессе
жизни отражаются прежде всего в чувствовании стес-
нения или свободы, которые сами по себе ни удоволь-
567
ствие, ни неудовольствие, а особенные, специфические
ощущения, врожденные душе и сопровождающие про-
цесс жизни;
5) что удовольствия и страдания составляют только
третью форму в чувствовании всех перипетий процесса
жизни;
6) что удовольствие получается единственно неудо-
вольствием и что попытка сфальшивить эту монету,
на которую приобретаются наслаждения, отражается
фальшью в самих наслаждениях, которая в свою оче-
редь выражается
или разрушением наслаждения или
деградацией человека, уклонением и, кажется, совер-
шенным прекращением процесса жизни и что, следова-
тельно, эвдемонизм ложен в основании;
7) что свобода необходима для душевной деятельно-
сти, но точно так же, как необходимо и стеснение; что
само чувство свободы без предварительного чувства
стеснения невозможно и что, следовательно, стремле-
ние к свободе само по себе не может быть существен-
ным стремлением; но что свобода — первая и более
необходимая
форма для жизни, чем наслаждение;

тельности, в самом процессе жизни, а не в сопровождаю-
щих его ощущениях свободы, стеснения, наслаждения
и страдания, которые не=*= = друг друга, оставляют
человеку пустоту, отсутствие деятельности и жизни;
что существенно, следовательно, одно — дело жизни.
Но что же это такое за дело, единственно могущее
выполнить (т. е. пополнить изнутри, по меткому выра-
жению русского языка) человеческую
жизнь, един-
ственно могущее дать возможное на земле счастье вся-
кому живому существу?— Это дело так же разнообраз-
но, как разнообразны жизни. Жизнь, т. е. душа, как
мы уже видели, так индивидуальна, как ничто другое
в физическом мире, и у каждой жизни свое стремление.
Гусеница, сколько можно судить по ее действиям, не из
гоньбы за удовольствиями или свободой работает всю
свою жизнь свою куколку; а бабочка не из удовольствия
или свободы подвергается тысячам неприятностей,
ли-
568
щений, стеснений, чтобы приютить свое яичко именно
там, где может выйти и вырасти будущее животное,
которого бабочка никогда не увидит.
Что же побуждает бабочку к такой неустанной дея-
тельности, преодолению стольких препятствий и, ве-
роятно, доставляющей ей много страданий? Инстинкт,
как говорят обыкновенно, подчиняясь дурной привычке
класть заплаты из непонятных слов на прорехи на-
ших знаний. Не знаем, что скажем; мы просто и не можем
сказать
иначе, даже приняв наследственное развитие
и усовершенствование инстинктов, доказываемое Дар-
вином, но не видя возможности при идее усовершенство-
вания и развития обойтись без того, что совершенствуется
и развивается.
Как ни разнообразны инстинкты животных, но,
сколько мы можем судить по проявлениям этих инстинк-
тов или врожденных стремлений, все они выходят из
растительного процесса и его потребностей. Все стрем-
ления растительного процесса, как мы уже видели, вы-
ражаются
в одном стремлении — продолжить жизнь
и расширить ее пределы до бесконечности. Мы заметили
и две дороги этого одного стремления: первая — про-
должить жизнь индивида; вторая — продолжить жизнь
рода,— другими словами: стремление к жизни и стрем-
ление к оплодотворению. Мы видели также, как выпол-
няются эти стремления в растительных организмах,
и видели также, частью, как это удовлетворение изме-
няется в организмах животных.— Если бы цветок был
одарен способностью ощущать
совершающиеся в нем
процессы, то, без сомнения, он ощутил бы два стремле-
ния: питаться с соблюдением всех необходимых для
питания условий и размножаться. Более этих двух
стремлений, впрочем, чрезвычайно обширных и разно-
образных по степеням и способам удовлетворения, мы
и не находим у животных, за исключением еще третьего
стремления к бесцельным движениям или ту беспокой-
ную живость, на которую мы указали выше. Это вообще
стремление к жизни и к ее продолжению, а, следова-
тельно,
и к средствам жизни и продолжения жизни
569
индивида и рода. Средства эти уже указываются жи-
вотному самой природой. Таким образом, потребности,
растительного процесса превращаются в душе живот-
ного в стремления, которые, в свою очередь при* их удов-
летворении или неудовлетворении делаются причиной
различных чувствований и желаний и мотивами дея-
тельности. Способ выражения этих потребностей расти-
тельного процесса и способы их удовлетворения не-
обыкновенно разнообразны в животном
царстве, и это
разнообразие в главных своих формах составляет при-
рожденные инстинкты животных. Естественные науки
в лице Дарвина обнаруживают стремление отвергнуть
врожденность инстинктов и объяснить их постепенным
усовершенствованием наследственно передаваемых при-
вычек. Попытка эта, как признал сам Дарвин, остается
покудова еще попыткой (Ср. Kant’s Anthrop.,
§ LXXXVI: Кант называет здесь «любовь к жизни и
половое стремление могущественными двигателями,
заменяющими
разум в сохранении человеческих инди-
видов и человеческого рода»; но любовь к жизни сводится
проще на стремление к питанию, врожденное и человеку,
и животному, и растению); но если бы она и удалась, то
она свела бы все разнообразие инстинктов к одному все
же врожденному стремлению — жить и размножаться,
т. е. жить в этих двух формах — индивидуально и
родом. Мысли Ламарка и Шопенгауэра в философии
нашли бы тогда себе в этом отношении блестящее под-
тверждение. Но едва ли такая
удача возможна: по край-
ней мере, превращение насекомых представляет тому
значительную преграду.
В человеке, как и в животном, работают те же рас-
тительные инстинкты и дают содержание огромному
количеству психо-физических явлений; но не всем. В
человеке, кроме того, мы замечаем также психические
деятельности, которые не объясняются из раститель-
ных стремлений. Говорить о жизни чисто человеческих
стремлений мы будем в III отделении; а здесь мы гово-
рим только о форме
выражения их, о стремлении к дея-
тельности, к жизни вообще и потому, не входя в разбор
570
содержания дела человеческой жизни, скажем только,
что таким делом, такой сердцевиной нашей жизни может
быть всякое дело, которое мы считаем, хотя, может
быть, и ошибочно, делом серьезным, своим собственным
и которое увлекает нас до того, что ради совершения его
мы готовы преодолевать всякие препятствия, подвер-
гать себя лишениям, свободу нашу стеснениям, отказы-
ваться от наслаждений, переносить страдания; всякое
дело, при совершении
которого мы не думаем (по край-
ней мере, в главные, увлекающие моменты деятельно-
сти, хотя и думаем по временам, когда сама деятель-
ность ослабевает), не думаем ни о наслаждениях, ни о
страданиях, ни о том, что это наше дело или что его тре-
буют от нас и другие, словом — не заботимся ни о чем,
кроме самого дела.
Что такое отношение человека к делу бывает, в этом
никто не сомневается по причине многих, каждому из-
вестных примеров, когда человек переносит из-за руково-
дящей
его цели всевозможные страдания (так, по край-
ней мере, кажется нам со стороны) и даже нередко пла-
тится жизнью. Но нормально ли такое явление до того,
чтобы мы имели право поставить его нормой? Положим,
что люди (хотя бы они казались для нас со стороны безум-
ными) действительно счастливы; но разве многие способ-
ны к такому счастью? На это мы ответим, что способны
все в большей пит меньшей степени и насколько способны
к такому делу, настолько же способны и к счастью.
Бедняк,
у которого каждое утро спрашивает: «а что
ты будешь есть сегодня?»; отец семейства, жертвующий
всем, чтобы воспитать и обеспечить-детей своих; ученый,
проникнутый весь своим ученым трудом; безумец, по-
павший в сумасшедший дом из-за завладевшей им идеи,
и другой безумец, умирающий с голоду на своем сун-
дуке и которого следовало бы посадить туда же,— все
это люди, живущие полной жизнью.
Но разве большинство не живет без всякой жизнен-
ной задачи? Правда, но не в такой степени,
как нам
кажется. Дело в том, что человек способен иметь не
одну, а несколько руководящих деятельностей жизни.
571
Так, художник может и заботиться о своей семье, и о
своем художническом труде. Но всегда бывает так, что
одна? забота сменяет другую. Он, может быть, прини-
мается за картину для того, чтобы доставить обеспе-
чение горячо любимой семье, но раз поглощенный своим
трудом он забывает уже семью свою, и только тогда
труд его идет вполне успешно. Если же он начнет вме-
шивать свой эгоистические, хотя и семейные интересы
в свой художнический труд,
то он начнет ослабевать по
мере этого вмешательства и даже сам по себе будет не-
удачен, ибо мы успеваем в деле, насколько отдаемся
делу. Сельский хозяин, например, полюбивший сель-
ское хозяйство вообще и в приложении к своему част-
ному имению в особенности, не только будет больше
почерпать счастья в своем деле, но и поведет его успеш-
нее, нежели тот, кто, не любя самого этого дела, будет
любить его следствия и самые деньги не как деньги,
а как средство наслаждений. Вот
почему опытные скря-
ги высказывают прямое и глубокое наблюдение, когда
говорят, что «деньги любят того, кто их любит». Вот
почему люди, ищущие богатства для наслаждения им,
редко его находят, а люди, трудящиеся из любви к
тому или другому труду, нередко получают богатство,
которого не желали. Люди такого сорта, у которых не
одна, а несколько жизненных деятельностей, способны
к счастью вообще настолько, насколько эти цели не
мешают одна другой и насколько выдвинется между
ними
главная цель и поглотит человека.
Всего же мерее способны к счастью те любимые дети
судьбы, как их обыкновенно называет толпа, подавляе-
мая ежедневно преодолеваемыми и ежедневно, как
гидра, возрождающимися нуждами, те пасынки судьбы,
как называем мы их, которые самым рождением постав-
лены так, что им оставалось только искать наслажде-
ний и выбирать из них самые приятные и возбудитель-
ные, и которые не потрудились сами приискать себе
никакого душевного дела, в котором отказала
им злая
судьба. Эти-то именно счастливцы и всего дальше от
счастья. Пока еще тело не совсем истощено, пока оно
572
еще, убиваемое немедленным удовлетворением, — про-
должает возрождать свои требования, что-то похожее
на жизнь совершается в этих бедняках; но когда все
уже истощено, все наслаждения испытаны и испорче-
ны, тогда открывается впереди такая, вечно голодная
пустота, которую мы выразим словами Данте: «…
Из приведенных примеров уже видно, что мы не
вводим еще здесь нравственного различия дурного дела
от хорошего и даже умного от глупого; но
показываем,
что всякое дело, даже безумная идея или злодейский
умысел и т. п., могут стать делом жизни и что в этом
деле, в самом деле, а не в его последствиях заключается
единственная возможность счастья для человека на
земле. Вот почему, перебирая все возможные насла-
ждения и ища такого, которое не обманывало бы человека
и не причиняло бы ему страданий вместо наслаждения,
Кант останавливается на отдыхе от труда и называет
его «высочайшим физическим благом человека» (Anth-
rop.,
§ LXXXVI). Но в выражении этого глубокого
психического наблюдения вкралось у Канта две ошиб-
ки: во-первых, это не физическое благо, даже если бы
отдых был после физического труда; конечно, корень
его в отдыхе тела, но самый этот отдых ощущает только
душа; а во-вторых, это вовсе не благо, а наслаждение,
проистекающее из блага — труда. Здесь миросозерца-
ние Канта мутит ясность его психических наблюдений,
необыкновенно глубоких и метких. Не выразив ясно
всего значения труда
для жизни, Кант однакоже живо
почувствовал это значение, и мы слышим тон глубокого
убеждения, вынесенного из долгой и вполне сознатель-
ной жизни, когда он говорит: «чем более ты думал, чем
более действовал, тем более жил» (ib., §LX). Или, выра-
жаясь еще задушевнее, Кант говорит: «самое верное
средство услаждать все бедствия заключается в мысли,
которой можно ожидать от всякого благоразумного
человека, в мысли, что жизнь вообще относительно со-
провождающих ее наслаждений,
которые зависят от
обстоятельств, не имеет никакой цены и что вся стои-
мость ее измеряется тем употреблением, которое мы
573
из нее делаем, и теми целями, которые мы себе предла-
гаем».
Кажется, от этих Слов остался Канту один шаг,
чтобы сказать, что сама в себе деятельность есть высшее
благо человеческой и всякой жизни…
Повторяем, здесь нам еще не место брать нравствен-
ное значение человеческого дела; а мы берем покудова
только одну его форму и называем эту форму душевной
деятельности альфой и омегой всех форм психической
жизни человека, или проще — форму,
тождественную
самой форме жизни,—деятельным покоем.
(Приписка на полях карандашом: следовало резко
отделить счастье от наслаждений и тогда в педагоги-
ческом приложении свести меры в отношении животных
стремлений к деятельности. Основное выражение
человек удовлетворяет своим телесным потребностям,
чтобы жить, а не наоборот: жить же значит думать,
-чувствовать и действовать вечно. Позднейшая при-
писка ченилами: Это особая глава; но для нее у меня
нет покудова источников
под руками).
• *
Обращаясь теперь к педагогическому приложению
идеи, развитой сами в этой главе, мы находим, что при-
ложение это может быть чрезвычайно ^велико и разно-
образно, но что сущность его можно выразить в не-
скольких словах:
Научить человека искать себе средства для насла-
ждений (эвдемонизм, эпикуреизм) значит обманывать
человека и заставлять его накачивать Данаидову боч-
ку; научить человека пренебрегать наслаждениями и
страданиями и искать выше всего
свободы (стоицизм)
значит тоже обманывать человека и гнать его в безбреж-
ную пустыню; но дать человеку деятельность, которая
бы наполнила его душу и могла бы наполнять ее веч-
но,— вот истинная цель воспитания, цель живая, пот
тому что цель эта — сама жизнь.
Мы уже видели прежде, что основной целью воспи-
тания человека может быть только сам человек, так
574
как все остальное в атом мире (и государство, и народ,
и человечество) существует только для человека. Мы
видели также, что в человеке цель воспитания составляет
душа, для которой существует тело (см. выше). Теперь
же мы видим, что и в душе целью воспитания есть дать
ей вечную, по возможности, полную, широкую, погло-
щающую ее деятельность. Дать труд человеку, труд
душевный, свободный, наполняющий душу, и дать сред-
ства к выполнению этого
труда — вот полное определе-
ние цели педагогической деятельности.
Первая половина этой задачи (приискание труда)
особенно важна для воспитания достаточных* классов:
бедного человека труд и сам отыщет; богатому надобно
его отыскать; а это совсем не так легко, как кажется,
потому что труд должен наполнить душу и его должно
стать на всю жизнь, да и в будущем он должен остаться
вечным.
Но прежде, чем мы приступим к развитию этой мыс-
ли, взглянем, как определяют цель воспитательной
дея-
тельности другие педагоги, чтобы видеть, в чем мы со-
гласны и в чем расходимся с ними. (Далее следует краткое
перечисление определений цели педагогической деятельности
Шварца, Нимейера, Пальмера, Дистервега, Бенеке. Ред.)
Потом большее развитие самой идеи и средств ее
осуществления (в цитате указать на статью о труде).
(Ф. 316, JY* 19, «О чувствах», стр. 37—63).
260. Стремление к свободе. Повиновение (кар.)
«Знаете ли, какое лучшее средство сделать ваше дитя
несчастным?
Это приучать его все получать; так как его
желания беспрестанно возрастают легкостью их удов-
летворения. Рано или поздно вы должны же будете при-
бегнуть к отказам, и этот непривычный для него отказ
будет его мучить более, чем лишение того, что он же-
лает» (Em., р. 68).
Потом, получая отказы в выполнении своих невоз-
можных желаний, дитя считает себя оскорбленным,
делается деспотом и несчастным (ib).
575
«Какое поражение для такого человека, привыкшего,
чтобы все склонялись перед ним, когда, вступив в
свет, он почувствует, что все ему противится, и будет
задыхаться под тяжестью того самого мира, которым
он думал распоряжаться по произволу».
«Но если нет предмета более достойного, осмеяния,
как самовластное дитя-деспот, то нет предмета более
достойного сожаления, как дитя запуганное» (ib.,
р. 69).
«С жизнью гражданскою начинается гражданское
рабство,
говорит Руссо, пускай же дитя хотя до тех пор
попользуется естественной свободой, которая, хотя на
время, удалит от него пороки, приобретаемые в раб-
стве» (ib.; р. 69).
Что за дичь?
Вот его правило: «Дитя не должно получать ничего
потому только, что оно его требует; но только потому,
что оно ему нужно, и ничего не делать из повиновения,
а только из необходимости: слова — повиновение, при-
казание — должны быть изгнаны из лексикона воспи-
тания, а еще более слова долга
и обязанности; но зато
большое место должны занять в нем слова — сила,
необходимость, бессилие, принуждение (ib., р. 70).
261. Страдание. Злоба. Воспитание воли
Ложная теория образования чувствований я страс-
тей привела Бенеке и к ложным педагогическим выво-
дам.
Так, он утверждает, что все полные возбуждения
(Reize) укрепляют душу, а все недостаточные возбу-
ждения или перевозбуждения ослабляют душу; а из
этого выходит правило: «по возможности оберегать ди-
тя от
всех ослабляющих впечатлений» (Erz. und Unter.,
Th. 1, § 40, S. 164), т. е., следовательно, от ожиданий
страданий, страхов и т. д.
О злобе Бенеке говорит: «Только кто страданиями
и слабостью внутренно тронут (verstimmt), без сильной
опоры и противодействия, может чувствовать злорад-
576
Шва я находятъ облегчение в том, чтобы другие еще
более страдали; и будет испытывать страдание при
счастьи и преимуществах других» (ib.).
В другом месте (ib., § 42, S. 168) Бенеке выражается
еще яснее: «Только возбуждения, вполне соответствую-
щие первичным силам, следовательно, такие, на которых
основываются представления и чувствования удоволь-
ствия, могут оставить укрепляющие следы и задатки
в душе».
Это представление имеет свою
справедливую сторону
и показывает, как должно происходить укрепление воли:
человек преодолевает самые сильные страдания только
вследствие убеждений, т. е. таких ясных и твердых
представлений, которые доставляют ему удовольствие,
следоват., пока таких задатков нет в душе, нельзя тре-
бовать от дитяти преодоления страданий; но этого не-
обходимо надобно требовать по мере приобретения
таких точек опоры для борьбы с лишениями и страда-
ниями. Таким образом, Бенеке и примиряет
две проти-
воположные теории, а именно теорию закаления и тео-
рию обережения от всяких огорчающих впечатлений
(ib., § H, S. 166).
Дети сами помогают этому, сохраняя слабое воспо-
минание о страдании и не предвидя бедствий, как за-
мечает Nekker-fle-Saussure (Educat. progrès., t. I, p — ).
Но нам кажется, что Бенеке здесь упускает из виду
выносливость, приобретенную привычкой, когда стра-
дание перестает быть страданием от частого повторения.
Но не противоречит ли Бенеке
сам себе, когда в дру-
гом месте сам говорит: «Опыт показывает много приме-
ров, что из детей, целые годы страдавших какими—
нибудь болезнями, тем не менее выходят бодрые, весе-
лые, добродушные люди» (§ 43, S. 174).
Правда, Бенеке говорит дальше, что душевные стра-
дания, как, напр.г страх, действуют сильнее телес-
ных. Но разве не все страдания душевные страдания?
Следовательно, ослабляет здесь душу не само чувство
страдания каким-то таинственным образом; а просто
обилие
представлений, связанных с чувством страха.
577
Чем более таких представлений, тем естественно чело-
век нерешительнее, трусливее; воля его слабее.
(Ф. 316, № 19, «О чувствах», стр. 37—63)/
262. (VII, 21). Исполнение
«Par quel bizarre tour d’esprit nous apprend-t-on tant
de choses- inutiles, tandis que l’art d’agir est compté
pour rien» (Emile, p. 275).
«Должно строго отличать, говорит Эйлер: волю или
самый акт воли, от исполнения, которое совершается
через посредство тела» (Eiler,
t. II, Lettr. XXIII, p. 304).
Но какая же разница?-
263. (VII, 34}. Награды и наказания (Бенеке)
У Бенеке (Erz. und Unt., Т. I, § 77, S. 329) ничего
особенно замечательного.
Он говорит, что во всяком случае награды и наказа-
ния — один из недостатков воспитания,— суррогат пря-
мых воспитательных мер.
Они имеют исправительную цель и тем отличаются
от государственных, так как душа дитяти бесконечно
подвижнее, не так связана в одно…
Награды и наказания допускаются в
двух случаях:
1) Когда побудительныя мотивы, исходящие из
самой вещи, не могут быть поняты дитятей, или только
могут быть поняты не вполне по своей отдаленности,
как, например, польза изучения чуждого языка, вред
неумеренности, вредное действие ссорливости на ха-
рактер и т. д.
2) Хотя мотивы самой вещи и доступны дитяти, но
«потемняются и отталкиваются чрезмерно сильными
противоположными» задатками, как, напр.,— отсут-
ствие прилежания из лености или похищение чужих
вещей
из страсти к лакомству… В обоих случаях
воспитатель представляет собой практический разум,
т. е. вполне и всесторонне развитую оценку вещей
(ib., S. 330).
«Воспитатель должен быть сколько возможно скуп
на награды и наказания» (ib.).
578
«Так как награды и наказания суть только сурро-
гаты естественных побуждений, то должны быть не-
медленно прекращены, как (только) последние вступают
в свою силу; так, например, если позволительно поддер-
живать вначале ученье дитяти наградами и наказаниями,
то приложение их должно сейчас прекратиться, как толь-
ко дитя станет в самом ученьи находить удовольствие»
(ib., § 77, S. 331).
«Награды и наказания должны быть направлены
к тому,
чтобы сделать самих себя ненужными».
Воспитатель не должен забывать, что награды и на-
казания сами по себе суть психические деятельности,
следы которых остаются в душе — или сами по себе,
или теми реакциями, которые ими вызываются: «Дитя,
повиновение которого добывается сладостями и краси-
вым платьем, делается лакомкой или тщеславным; брань
убивает самоуважение; беспрестанные наказания обра-
зуют бессильное существо и т. д. а реакция возбуж-
дает лживость, скрытность й т.
д. А потому воспита-
тель должен заботиться о том, чтобы никогда не при-
носить постоянного в жертву преходящему успеху»
(ib., S. 332).
«Наказание по мере того, как дитя из существа чув-
ственного делается духовным, должно также из чув-
ственного делаться духовным.
Понятно, что при наказаниях воспитатель должен
подчиняться рассудку, а не поддаваться гневу. Но он
не должен оставаться безучастным к наградам и нака-
заниям» (ib., S. 333).
При важных проступках, которые
вдруг открылись,
воспитатель и даже другие, окружающие дитя, должны
вдруг переменить свои отношения к нему: обращение
важное, строгое, скупое на слова — должно быть при-
нято, пока не произойдет исправление (см. Неккер-де
Соссюр, т. И).
Наказание должно быть по возможности теснее свя-
зано с проступком, так чтобы ребенок ясно понимал,
за что его наказывают. Прощения, смягчения наказания
579
не должно быть: это «не любовь (Milde), а жестокость в
отношении ребенка» (ib., S. 334).
Действие наказаний притупляется; а потому вос-
питатель должен в этом отношении заботиться о том,
чтобы не притупить чувствительности дитяти (ib.,
S. 336).
264. (VII, 35). Наказания
«Наказание для детей не должно быть наказанием,
но естественным последствием их дурного действия»
(Emile, р. 86). Это совершенно справедливо, но для ди-
тяти и сам
воспитатель есть внешняя природа, и разум,
и воля воспитателя — разум и воля природы.
За нарушение этого разума и этой воли дитя так
же должно быть наказано, как будет оно наказано,
если дотронется до огня или ударит ручонкой о камень.
А это правило принимается обыкновенно в тесном смы-
сле: чтобы, напр., дитя, которое солгало, не пользо-
валось доверием (как и у Руссо, р. 86), но это не
всегда возможно, даже и в случае лжи затрудни-
тельно.
IV. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
К СПЕЦИАЛЬ-
НО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЧАСТИ
1. О воспитании разума
265. Рассудок и разум
Великие противоречия, вносимые духом в рассудоч-
ный процесс сознания, сообщили и до сих пор сооб-
щают ему неустанную энергию в его движении вперед
и вперед. К чему- стремится это вечное примирение
непримиряющихся противоречий и вечное нахождение
новых противоречий в том, что казалось примирен-
ным,— этого мы не знаем. Цель эта лежит вне челове-
ческой жизни и вне человеческого сознания.
Мы можем
только констатировать факт такого психического явле-
ния, описать его, показать результаты; но угадывание
его цели переходит уже в область веры. Несомненно
580
только то, что, достигая этой неведомой цели, лежащей
вне нашего временного существования, мы достигаем
множества побочных целей: наука наша идет вперед,
материальный быт улучшается, общественный совер-
шенствуется, человек развивается и умственно и нрав-
ственно. Вот психологическая основа глубокого еван-
гельского изречения: «ищите, прежде всего, царствия
божия, а все остальное приложится вам». Изречение
это может быть отнесено не только
к апостолам, которым
оно было сказано, не только к каждому отдельному че-
ловеку в его отдельной жизни, но и ко всему человече-
ству в его историческом развитии. Стремясь к неведо-
мой цели, и именно потому, что стремится к этой неве-
домой цели, и настолько, насколько оно стремится к
ней, достигает человечество по пути множества вре-
менных целей, обогащающих его рассудок, улучшаю-
щих его быт, совершенствующих его умственно и нрав-
ственно.
Однакоже противу этого вечного
движения вперед
и вперед к неведомой цели часто возмущается животная
природа человека. Тогда рассудок отказывается следо-
вать за таинственными указаниями духа, который, не
щадя ни нашего самолюбия, ни нашей нетерпеливости,
говорит нам только, что мы на пути, не говоря даже,
близка или далека цель. Это вечное, обидное для само-
любия сознание, что мы еще не там, где должны бы быть,
нередко заставляет человека отказываться от дальней-
шего движения, останавливаться на станции
и распо-
лагаться на ней, как дома. Животная природа человека
возмущается, рассудок вступает в права разума, хочет
привести весь материал рассудочного процесса в пол-
ную ясность, выбросить из него все противоречия, ко-
торых не может разрешить, или спешит фантазиями, а
не фактами, объяснить необъяснимое, свести все в про-
стые положения рассудка, расстаться, наконец, с этими
мучительными, вечными противоречиями и сомне-
ниями и сделать свою теорию неизменным принципом
практической
жизни. Но что же выходит из такой ре-
шимости? Временные, всеобъясняющие теории, которые
581
в данный момент, кажется, удовлетворяют всех, но в
следующий же рушатся, оставляя пустоту в душе,
которую человек спешит наполнить новой теорией, а
жизнь идет все вперед, колеблемая, но не сбиваемая
с пути временными увлечениями рассудка. Наука руко-
водится рассудком; но жизнь руководится разумом, для
которого наука только средство, а не цель жизни.
Сущность сознания и, следовательно, рассудочного
процесса, состоит в уничтожении беспрестанно
вкрады-
вающихся в него противоречий; но не такова сущность
разума, который сознает эти противоречия и вместе с
тем видит неизбежность их. Рассудок есть процесс со-
знания, а разум — сознание самого этого процесса,
или, вернее, самосознание рассудка. Рассудок есть
совокупность фактов, приобретенных сознанием из
опытов и наблюдений над внешним миром. В разуме к
этому содержанию рассудка присоединяются еще наблю-
дения и опыты, которые сделало сознание над соб-
ственным
своим процессом в различных областях рас-
судочной деятельности — в истории философских и
политических систем, в истории цивилизации, в истории
религии, в истории самой науки, сводя всякую историю
и историю вообще к спокойному психическому анализу.
Но из этого, конечно, не следует заключать, что разумом
обладают только психологи, историки л философы ex
officio. Всякий мыслящий человек непременно историк,
философ и психолог; всякий делает наблюдения над
собственным развитием,
над своими психическими про-
цессами; всякий делает опыты в психической сфере и
выводы из этих опытов.
Рассудок есть плод сознания; разум — плод само-
сознания; сознанием обладают и животные, но самосо-
знанием обладает только человек. Вот почему анализ
разума нам предстоит еще сделать тогда, когда мы будем
заниматься духовными особенностями человека, теперь
же мы еще в сфере его животной жизни, из которой нас
беспрестанно увлекают вперед те изменения, которые
сделаны
в этой жизни духовными особенностями чело-
века. Изменения же эти так велики, что только внима-
582
тельный анализ открывает в животных процессах, со-
вершающихся в человеке, сходство с теми же процессами,
совершающимися в животных: дух переделывает на свой
лад даже животный организм человека.
В теории можно еще жить одним рассудком; но выс-
шая практическая деятельность требует всего человека,
и, следовательно, требует руководства разума. Это за-
мечание, приложимое ко всей общественной историче-
ской деятельности человека, с особенной
силой отно-
сится к деятельности воспитательной.
Воспитатель — не ученый, не специалист в науке, не
человек умозрений, а практик, и потому-то его наме-
рениями и его действиями должны руководить не одно-
сторонние увлечения рассудка, стремящегося удалить
противоречия и бросающего временный мост из гипо-
тезы там, где еще нет перехода,— а всестороннее по-
нимание разума, который видит современные пределы
знания. Этим-то спокойным разумом прежде всего дол-
жен обладать тот
зрелый человек, который берет на
себя воспитание незрелых поколений. Если специалист-
естествоиспытатель стремится объяснить все психи-
ческие процессы из физических и химических явлений,
то это увлечение может принести полезные плоды; если
метафизик стремится объяснить все из субъективной
идеи, то он, может быть, подарит мир несколькими ве-
ликими мыслями; если специалист-историк или статис-
тик подводит все под какой-нибудь один закон, положим,
хоть под закон влияния природы
на человека, то в своей
односторонности он может подвинуть науку вперед,
расширить область человеческих знаний. Но если вос-
питатель увлечется каким-нибудь из этих односторон-
них стремлений, то кроме вреда он ничего не прине-
сет своим воспитанникам, которых он готовит не для
специальной науки, а для всеобнимающей жизни.
В практической жизни русская пословица — «ум без
разума беда» имеет большое значение, а особенно в
деле воспитания. Из этого уже видно, как противоре-
чат
сами себе те, которые в одно и то же время воору-
жаются против различных увлечений в школах и против
583
специального приготовления воспитателей к своему
делу, полагая, что каждому учителю достаточно быть
хорошим специалистом в своем предмете*. Поясним это
отношение воспитателя к науке примером, взятым из
самых современных вопросов.
Самое характеристическое явление науки двух по-
следних десятилетий есть необычайное усиление и рас-
пространение естествознания; а вместе с тем и промыш-
ленная деятельность народов расширилась и приобрела
такое
значение, какого не имела никогда. Как бы кто
ни смотрел на этот факт, но не признать его никто не
может, и во всяком случае жизнь человечества сделает
бесспорный прогресс, если ею будет руководить более
промышленный и торговый расчет, чем властолюбие,
слепой фанатизм, национальные гордости и ненависти.
Однако разумный воспитатель не увлечется этим дви-
жением времени. Зная человеческую природу, понимая
хорошо, что удовлетворение материальных потребностей
не есть еще удовлетворение
всех потребностей чело-
века, что человек живет не для того, чтобы есть и оде-
ваться, но для того одевается и ест, чтобы жить, воспита-
тель не оставит неразвитыми высших душевных и ду-
ховных потребностей человека и сделает девизом своей
воспитательной деятельности слова спасителя: не о хле-
бе едином жив будешь. Но если воспитатель останется
глух и нем к законным требованиям времени, то сам
лишит свою школу жизненной силы, сам добровольно
откажется от того законного влияния
на жизнь, которое
принадлежит ему, и не выполнит своего долга: не приго-
товит нового поколения для жизни, а оставит ей во всей
ее пестроте, неурядице и часто безобразии, довоспиты-
вать воспитанников его несовременной школы. Школе
не опрокинуть жизни; но жизнь легко опрокидывает
деятельность школы, которая становится поперек ее
пути. Школа, противящаяся жизни, сама виновата,
* Милль и Конт совершенно справедливо видят большое
зло в «разрозненной специальности» современных
ученых
(Дж.-Ст. Милль.— О. Конт, стр. 86); но нигде это зло не
приносит такого вреда, как в воспитании.
584
если не внесет в нее тех благодетельных умеряющих
влияний, которые может и обязана внести, тех разум-
ных элементов, под сенью которых должны обеспечиться
от едкой остроты жизни и ее беспрестанных временных
увлечений — как нежное, беззащитное детство, так и
неокрепшая еще, пылкая юность.
Успехи естественных наук, характеризующие наше
столетие, идут не только вширь, но и вглубь. Число зна-
ний человека о природе не только увеличилось в гро-
мадных
размерах, но и сами знания все более и более
приобретают научную форму, способную развить чело-
века умственно не менее, а может быть, и более, чем
прежние приемы и методы, так называемого, формаль-
ного развития. Неужели же школа останется как бы не
знающею о такой реформе в науке и жизни и будет итти
своим прежним, устарелым, ходом, забывая, что то,
что было современным и полезным, может сделаться
несовременным, неполезным, а потому и вредным? Если
бы европейская школа шестнадцатого
столетия осталась
глуха и нема к реформам, совершавшимся тогда в жиз-
ни, и к возобновлению науки из классических источни-
ков, то хорошо ли бы она сделала? Почему же будет
хорошо, если современная школа ничем не отзовется на
глубокую реформу, совершающуюся теперь в той же
жизни и в той же европейской науке?
Реформа эта, как всякая глубокая умственная и мо-
ральная реформа, не могла совершиться без борьбы,
а борьба не могла не сопровождаться увлечениями вся-
кого рода
и наполнила этими увлечениями и головы,
и книги, перемешивая полезное с вредным и истинное
с ложным. Неужели же воспитатель выполнит свое дело,
только отвернувшись от той самой жизни, для которой
должен приготовить своих воспитанников? Но точно
так же не выполнит он своей обязанности и тогда, если
будет без разбора вносить в свою школу все, что пока-
жется ему поновее и позанимательнее. В первом случае
он сделает школу учреждением бессильным и бесполез-
ным, а во втором —
совершенно разрушит ее. Мы же
думаем, что истинный воспитатель должен быть посред-
585
ником между школою, с одной стороны, и жизнью ж
наукой — с другой; он должен вносить в школу только
действительные и полезные знания, добытые наукою,
оставляя вне школы все увлечения, неизбежные при
процессе добывания знаний. Он должен выводить из
школы в жизнь новые поколения, неиспорченные, не-
измятые меняющимися увлечениями жизни, но вполне
готовые к борьбе, которая их ожидает. Напрасно бы
надеялся воспитатель на силу одного формального
развития.
Психический анализ показывает ясно, что
формальное развитие рассудка, в том виде, как его прежде
понимали, есть несуществующий призрак, что рассудок
развивается только в действительных реальных зна-
ниях, что его нельзя наломать, как какую-нибудь
стальную пружину, и что самый ‘ум есть не что иное,
как хорошо организованное знание. Но если, с другой
стороны, внести в школу естествознание со всеми увле-
чениями, которыми сопровождались его порывы впе-
ред, со всеми безобразными
фантазиями и преувеличен-
ными надеждами, словом, внести в школу не зрелую
мысль, а самую борьбу мысли во всем ее случайном
безобразии, то это значит разрушить школу и оставить
беззащитных детей посреди поля, где кипит битва взрос-
лых людей со всеми ее отвратительными случайностями.
И не может ли случиться (дай не случалось ли уже
иногда?), что какое-нибудь увлечение, которое настав-
ник поспешил внести в школу, отживет свой век
даже в уме самого наставника прежде, чем дети,
кото-
рым он передал его, окончат курс учения? Не должна
ли тогда совесть глубоко упрекнуть наставника за такой
необдуманный образ действия? Если тот, кто вносит
свои мысли в печать, обязывается обдумывать их, то во
сколько раз усиливается эта обязанность для того, кто
вносит свои идеи и стремления в открытые и впечатли-
тельные души детей.
Многие боятся естествознания как проводника ма-
териалистических убеждений; но это только слабодуш-
ное недоверие к истине и ее источнику
— творцу природы
и души человеческой. Истина не может бытъ вредна:
586
это одно из самых святых убеждений человека, и воспи-
татель, в котором поколебалось это убеждение, должен
оставить дело воспитания — он его недостоин. Язы-
ческий бог обманывает, хитрит, притворяется, потому
что он сам — создание человеческого воображения:
христианский бог — сама истина. Пусть воспитатель
заботится только о том, чтобы не давать детям ничего,
кроме истины, конечно, выбирая между истинами те,
которые соответствуют данному
возрасту воспитанника,
и пусть будет спокоен насчет ее нравственных и практи-
ческих результатов; пусть воспитатель, соблюдая толь-
ко закон своевременности, смело вводит воспитанника
в действительные факты жизни, души и природы, везде
указывая предел человеческого знания, нигде не при-
крывая незнания ложными мостами, и может быть уве-
рен, что ни знание души, ни знание природы, какими
они являются нам в фактах, а не в созданиях самолюбия
теоретиков, не извратят нравственности
воспитанника,
не сделают его ни материалистом, ни идеалистом, не
раздуют без меры его самолюбия, не поколеблют в нем
благоговения к творцу вселенной. Напротив, мы думаем,
что воспитание не выполнит своей нравственной обя-
занности, если не очистит сокровищ, добытых естество-
знанием, от всей ложной шелухи, остатков процесса их
добывания, и не внесет этих сокровищ в массу общих
знаний каждого человека, имеющего счастье употребить
свою молодость на приобретение знаний. Наука
делает
свое дело: она добыла много сокровищ знания и про-
должает их добывать, не заботясь о том, как и в каком
виде входят они в массу общих сведений человечества.
Эта обязанность лежит на воспитании, в обширном
смысле этого слова, а не на различных спекуляторах,
рассчитывающих именно на те временные увлечения в
науке, которые должны быть выброшены.
Пока сокровища естествозцания будут принадлеж-
ностью одних специалистов, до тех пор в них будет
существовать тот скрытый
яд, которого ныне боятся:
яд этот есть не более, как плесень, которая завелась в
душном воздухе запертых лабораторий науки и исчез-
587
нет, когда эти знания перейдут в общее обладание. Не
свет открытого дня, а мрак таинственности вреден. Мо-
лодой человек, голова которого с детства не привыкла
работать над явлениями и предметами природы, есте-
ственно смотрит на них как на что-то новое, таинствен-
ное и ждет от них гораздо более того, чем они могут дать:
приучите его с детства обращаться с идеями естество-
знания, и они, потеряв для него всю свою таинствен-
ность, потеряют
и все вредное действие. Но, конечно,
для этого необходимо, чтобы науки психические шли
рядом с науками природы, чтобы человек еще в детстве
привык соединять всегда эти два порядка идей и знать,
что один так же необходим, как и другой. Школа долж-
на внести в жизнь основные знания, добытые естествен-
ными науками, сделать их столь же обыкновенными,
как знания грамматики, арифметики или истории, и
тогда основные законы явлений природы улягутся в
уме человека вместе со всеми
прочими законами, тогда
как теперь они именно по новости своей вызывают не-
сбыточные ожидания и сулят удовлетворение тем ду-
ховным требованиям, которым удовлетворить не могут.
Это психический закон, открытый Гербартом, что вся-
кая новая мысль возмущает все прежние ряды мыслей,
пока не примеряется к каждой из них и не составит
с ними прочных и спокойных сочетаний, верениц, групп
и сетей.
Если же школа запрется от естествознания, то она
будет сама содействовать распространению
материализ-
ма, потому что знания естественных наук носятся ныне
в воздухе: но в каком виде? Не согрешит ли школа перед
юным поколением, не оградив его истинным знанием от
этих уродливых смешений лжи и истины? Кто же будет
виноват, если молодые люди, употребившие свою моло-
дость единственно на изучение того, что делалось и ду-
малось за две тысячи лет тому назад, будут потом с
благоговением слушать шарлатана или фанатика, рас-
сказывающего им, как он подсмотрел тайны душевных
явлений
в волокнах мозга? Не стеснениями и запреще-
ниями, а только истинными знаниями можно оградить
588
человека от зданий ложных, от безобразных восточных
и языческих фантазий в одежде европейского знания.
Но если такова обязанность воспитания, если оно
должно, с одной стороны, зорко следить за тем, что со-
вершается в жизни и науке, а с другой — не увлекаться
теми увлечениями, которые свойственны и жизни
и науке, и вносить из них в школу лишь то, что состав-
ляет действительное приобретение человечества, остав-
ляя за порогом ее все временные
увлечения, то уже из
этого видно, какой зрелости требует от человека дело
воспитания. Для этого дела уже недостаточно одного
теоретического рассудка, увлекающегося собственным
своим процессом, а необходим спокойный практический
разум, сознающий самые рассудочные процессы в их
неизбежной односторонности. Такая же зрелость разума
может быть почерпнута только из изучения человече-
ской природы в ее вечных основах, в ее современном
состоянии и в ее историческом развитии, что и
состав-
ляет главную основу педагогики, или искусства воспи-
тания в обширном смысле этого слова (т. VIII, стр. 655—
664).
266. Накопление знаний или формирование идей
должно составлять цель учения?
…Уже и теперь мы имеем преподавателей русского
языка, которые пользуются чтением и рассказами про-
читанного не только для практических упражнений в
языке, не только для умственной гимнастики, но и для
того, чтобы в, так называемом, вещественном разборе
сообщить ученикам
положительные, полезные и доступ-
ные для них знания.
Однакоже я не согласен с теми преподавателями
русского языка из этой последней категории, которые
видят в самих знаниях цель таких чтений и объяснений.
Не самое знание, а идея, развиваемая в уме дитяти усвое-
нием того или другого знания,— вот что должно со-
ставлять верно, сердцевину, последнюю цель таких за-
нятий… Составляя мою книгу, я хотел облегчить ею
труд преподавателей, разделяющих такое воззрение.
589
на значение чтений и рассказов в классах; а вместе с
тем усилить влияние их полезной деятельности, сохра-
нив системой моей книги их многочисленные объясне-
ния в уме и памяти детей.
Если преподаватель, руководясь случайным сопо-
ставлением читаемых в классе рассказов, толкует ребен-
ку сегодня об огнедышащей горе, завтра о благодар-
ности, послезавтра о крокодиле или железной дороге,
а иногда в один и тот же класс, вынуждаемый необходи-
мостью
объяснять встречающиеся слова, толкует о мно-
жестве самых разнообразных предметов; то, конечно,
не имеет он права требовать, чтобы ученики помнили
его объяснения, и не может ожидать, чтобы в умах их
построилось сколько-нибудь систематическое знание,
а тем более систематически развитая идея.
При чтениях и рассказах прежде всего должно быть
сообщаемо ученику какое-нибудь положительное знание,
дающее ему идею, и вместе с тем упражняема его мысли-
тельная и словесная способность
над этой идеей
(т. V, стр. 22—23).
267. Изучение родного языка как прямой путь к раз-
витию самопознания ребенка
…Изучение всякого языка как изучение духовного
организма само по себе уже благодетельно действует
на развитие духа независимо от того влияния, которое
имеет знание иностранного языка как ключ к литера-
туре народа… Будучи органическим созданием челове-
ческого духа, язык имеет в себе все достоинства беско-
нечно глубокого создания природы и, вместе с тем,
до-
пускает бесконечное углубление в самого себя. В этом
отношении язык всегда был и останется величайшим
наставником человечества. Между другими предметами
изучения нет ни одного столь способного развить чело-
века, как изучение языка. Но не должно забывать при
этом, что язык есть также только форма выражения жиз-
ни духа и что, если для развития рассудка важна его
логическая постройка, то еще более важны те идеи и те
590
чувства, которые на нем выражаются. Вот почему не
изучение древних языков, а изучение родного языка мы
поставили бы во главе гуманного образования…
…Именно изучение родного языка есть вернейший
и прямейший путь к самопознанию человека. Раскрывая
ребенку и юноше богатство родного слова, мы раскры-
ваем богатство его собственной души, которое он уже
чувствовал прежде, чем начал понимать. Изучением
родного слова мы вводим дитя в дух народа,
создание
его многовековой жизни, в тот единственный живой
ключ, из которого бьет всякая сила и всякая поэзия
(т. III, стр. 41, 45—6, 48-9).
268. Об источниках стремления человека к прогрессу
и совершенству
Стремление к прогрессу в деятельности зависит уже
от особенности человеческой природы, как равно и тех
чисто уже человеческих стремлений, которые из нее
возникают, каковы, например, стремление к расшире-
нию своих знаний, своей власти, своего имущества,
как средства
для деятельности. У животных, как и у чело-
века, есть стремление сделать запас; но нет и не может
быть стремления к приобретению имущества для рас-
пространения своей деятельности.
(Ф. 316, № 21, «О душевных стремлениях», л. 91 об.)
269. (II, 2). Стремление к совершенству
«Еще очень маленькие дети говорят нередко, видя,
как кто-нибудь что-нибудь делает: и я могу это сделать»
(Erziehungs- und Unterricht., Benecke, § 61, S. 243).
Этим, по сознанию Бенеке, выражается стремление
к
приобретению свойств, и насколько эти свойства
являются совершенствами, воспитание обязано им по-
кровительствовать.
Но что же это, как не врожденное стремление к со-
вершенству? Не все ведь свойства хочет приобрести
ребенок, а те, которые считает хорошими.
591
<Имея> в виду развить это стремление к совер-
шенству, воспитатель должен признавать его, уметь
хвалить (ib., S. 244).
Да, дети ненавидят учителей, от которых никогда
не дождешься одобрения или признания того, что хо-
рошо сделано. А у иных входит в систему никогда не
хвалить; это убивает стремление к совершенству: кто
бранит, должен уметь и хвалить.
Стремление к совершенству очень часто извращает-
ся: иногда оно может направиться на
внешнее, на слу-
чайное: так называемая знатность рода, телесную кра-
соту, платье…
Воспитатель не должен обращать внимания своего и
детского на эти внешние вещи. Не должно хвалить дитя
за наивность, за болтовню и прочее.
«Чем окружающие любуются в ребенке, то и он оце-
нивает выше» (ib., § 61, S. 245).
«Дитя часто может довольствоваться воображаемыми
совершенствами. В этом часто бывают виноваты роди-
тели, видящие в детях совершенства, которых нет, так
что и дитя
начинает думать, что оно обладает этими со-
вершенствами» (ib., S. 246).
Прямо противоречить в этом ребенку может быть
опасно: «лучше ставить дитя в такие отношения, чтобы
оно собственным своим опытом убедилось в своем несо-
вершенстве и своих ошибках, и это повторять до тех
пор, пока туман воображения рассеется» (ib.).
270. (II, 1). Стремление к совершенству
«Есть сильное удовольствие в созерцании своих соб-
ственных совершенств, власти, величия и т. п.» (Bain,
The Emotion,
p. 127).
«Пользование удивлением других кажется с первого
взгляда проще и элементарнее, чем удивление самому
себе; но я думаю, что последнее служит основанием пер-
вому» (ib.).
Неправда, мы сначала научаемся удивляться дру-
гим и потом уже переносим это на себя. Это имеет очень
592
важное воспитательное значение: если человек с дет-
ства привык удивляться пустому блеску, то и в себе
будет стараться его воспроизвести.
«Удовольствие руководить большими интересами и
управлять громадною машиной может так поглотить
человека, что он пренебрежет голосом совести и голосом
толпы» (ib.).
— Это чисто человеческая, божественная страсть,
а не средство к удовольствиям, как говорит Бенеке.
Не заставляет ли властолюбие человека
пренебрегать
всеми удобствами и удовольствиями жизни — и внеш-
ними и внутренними!
Самолюбие раздувается похвалами (ib., р. 134) —
правда; но почему похвала-то приятна человеку? —
Это врожденное чувство к совершенству.
«Сравнение есть средство определения достоинства.
Чувство сравнительно высшего достоинства (возникаю-
щее при сравнении себя с другими) есть лестница, по
которой мы поднимаемся в самоуважении» (ib., р. 135).
Но почему же Бэн не говорит о чувстве, из которого
вытекает
само соревнование, о стремлении к совершен-
ству?
«Смирение кажется нам прекрасным потому, что в
нем лежит великодушие в отказе в значительной сте-
пени от самого приятного из человеческих чувств» (са-
модовольства). Но (не) принимать никакого удоволь-
ствия в самом себе и не придавать никакой цены своим
хорошим качествам — невозможно (ib., р. 186).
Похвалы и даже лесть приятны; но основание этого—
стремление к совершенству, из которого вырастают высо-
чайшие добродетели
и величайшие пороки. Только хри-
стианство может вести человека по этой великой и опас-
ной дороге: оно устремляет нас к совершенству, но
тут же смиряет нашу заносчивость, указывая живой
идеал совершенства — Христа.
Наши церковные христианские торжества имеют
глубокое художественно-воспитательное значение.
593
2. О воспитании нравственности
271. (III, 18). Нравственное воспитание (Бенеке)
«Нравственное не существует в душе, как нечто
абстрактное, но состоит все в отдельных наклонностях,
из которых потом отвлекается нравственный принцип»
(Erz. und Unter., von Benecke, т. I, § 50).
Это верно; но верно также и то, что эти частные склон-
ности образуются под влиянием общих стремлений,
врожденных душе.
Отсюда и педагогическое правило — поселять
сна-
чала в душе дитяти «частные склонности, сообразные
норме, потом, когда появятся уклонения, вызывать
чувствования, и к этому уже присоединить сознание
нравственного» (ib., S. 208).
To-есть, создай сначала материал нравственности,
а потом уже ее правила.
То же самое следует сказать и об искоренении дур-
ных наклонностей, хотя здесь сила понятий и суждений
более имеет влияния. Тут задача в том, чтобы отбросить
морально-неправильное, а это могут сделать суждения,
как
и сами по себе имеющие силу. На напрасно ожида-
ли бы мы, чтобы суждения и аморальные наставления
уничтожили дурную наклонность.— «Вообще, говорит
Бенеке, нем никакого средства уничтожить в душе что—
нибудь, ров обрадовавшееся. В развитии своем душа все
идет далее, и потому, ввиду наклонности безнравствен-
ной, не остается ничего более, как воспитать добрую
наклонность еще большей силы, и эта-то добрая наклон-
ность будет загонять другую в бессознательное состоя-
ние» (ib.,
S. 209).
Надобно, следовательно, воспитывать положитель-
но хорошие наклонности, не давая пищи дурным.
Пример действует на дитя сильно потому, что здесь
является сила ясного представления действия. Но не все
примеры действуют с одинаковой силой: надобно, чтобы
уже образовались прежде соответствующие примеру
наклонности. Вот почему примеры сверстников имеют
594
гораздо большее влияние, чем примеры взрослых (ib.,
§ 51, S. 210).
Непременно надобно возбудить в ребенке уверен-
ность, что от него ожидают хорошего.
Очень верно говорит Бенеке: «Хотение нравственного
со стороны воспитанника есть необходимое условие
нравственного поступка. Но так как хотение (воля)
есть желание с представлением желаемого, как бы со-
вершившегося через действие», то убеждение в возмож-
ности дела — необходимое условие
всякого нравствен-
ного поступка» (ib., § 213).
Вот почему в отношении дитяти, которого мы хотим
исправить, как бы он ни был испорчен, мы должны
показать любовь и доверие.
Вот почему не должно давать очень трудных нрав-
ственных задач и т. д. (ib., S. 214).
272. (III, 21). Рождение нравственных понятий
Руссо (на стр. 71 Emile) приводит разговор, показы-
вающий нелепость рассуждения с детьми о нравствен-
ных обязанностях. Этот разговор следует привести
не для того,
чтобы показать ошибку Руссо, а для того,
чтобы показать, как возникают нравственные понятия
в детях о том, какие поступки дурны и какие хороши.
Вместо этого разговора, я бы составил другой, глав-
ные основания которого были бы следующие:
«Что, если бы у тебя украли эту вещь,— был ли бы
ты доволен?»
— HfeT.
«Расскажи, что бы ты тогда чувствовал против того,
кто взял ее, и как бы ты его называл?»
— Вором, негодяем, презренным… и т. д.
«Хотел ли бы ты, чтобы тебя самого
считал кто=-
нибудь и за дело вором и негодяем?»
— Нет.
«Не бери же никогда чужих вещей».
Руссо смеется над Локком (ib., р. 72), что ему не
выйти из ловушки, и Локку, не признававшему ничего
врожденного, действительно не выйти.
595
Из стремления к совершенству и из чувствования соб-
ственных прав, врожденных человеку, выходит чувство
справедливости в отношении других и нравственное
правило.
Впрочем, в противоречии с самим собой, Руссо выска-
зывает далее весьма верную идею о зарождении
справедливости :
«Le premier sentiment de la justice ne nous vient pas
de celle que nous devons, mais de celle qui nous est due,
et c’est encore un des contre-sens des éducations
com-
munes, que, parlant d’abord aux enfants de leurs devoirs,
jamais de leurs droits, on commence par leur dire le con-
traire de ce qu’il faut» (ib., p. 81).
Как молнии, блестят гениальные идеи и чрезвычай-
но верные и глубокие психологические наблюдения —
в этой ткани софизмов на утопически-ложной мечте о
совершенстве дикой природы человека.
273. (VII, 15). Нравственность. Локк
Против Бокля.
«Искусство чтения не есть гарантия продолжения
цивилизации. Умственные
условия человечества зави-
сят от их вкусов, которые всегда шатки; и мы не должны
удивляться, что греки и римляне впадают в варвар-
ство, обладая Фукидидом, Платоном, Демосфеном,
Цицероном и Тацитом» (Lock, v. 1, p. 63, примечание).
274. (III, 25). Стыд. Нравственное воспитание.
(Бенеке)
Если в ребенке уже образовался стыд неморального
действия, тогда можно действовать через него. Но если
еще нет, то очень вредно. Так, если вы будете звать ре-
бенка лгуном за ложь или
вором за воровство, то у него
с представлением о самом себе свяжутся эти представ-
ления, и этим вы только убьете зарождение нравствен-
ного стыда (Erz. und Unter., von Ben., § 51., S. 212).
«Насмешка — могучее орудие против взрослых —
только вооружает дитя против насмешников» (ib.).
596
275. (III, 22). Нравственное учение должно быть
более делом, чем словом
Руссо, рассказав, как с помощью огородника он
выучил своего Эмиля идее собственности (первого за-
владения), прибавляет:
«Молодые наставники, подумайте об этом примере и
вспоминайте, что во всем ваши уроки должны быть
более в действии, чем в словах: дети легко забывают
то, что они говорят, и то, что им говорят; но не то, что
они делают, и то, что с ними делают»
(S. 1).
276. (III, 30). Стремление к истине. Детская ложь
Бенеке причисляет стремление ко лжи к средство
наклонностям. В этой главе (Erz. und Unt., Т. I, § 65),
Бенеке опять противоречит себе:
«Больше всего, говорит он, следует избегать пер-
вой лжи. В каждом человеке образуется почти с необхо-
димостью отвращение (eine Scheu) перед ложным
проявлением; чтобы преодолеть это отвращение в
первый раз, нужен сильный натиск; но преодоленное
раз, оно противится уже с меньшей
силой» (ib., S. 258).
Это верная практическая заметка, но противоречит
теории Бенеке о неврожденности.
Человеку вместе с другими стремлениями к совер-
шенству врождено стремление к истине: мы хотим ее
знать; мы негодуем, когда нас обманывают; мы красне-
ем, обманывая, прежде чем сознаем даже, что это без-
нравственно.
Бенеке, правда, говорит: образуется страх лжи;
но нигде не показывает, как он образуется, — прежде
первой лжи.
Но педагогические советы Бенеке очень
хороши.
1. Не принимать за ложь игры детской фантазии;
дети часто лгут просто из удовольствия новых комби-
наций, часто перемешивая слова, не сознавая этого.
2. Нужно поправлять ребенка, но не говорить, что
он солгал, а тем более не называть его лгуном.
597
3. За признанную и обдуманную ложь надобно силь-
но наказать, но надобно быть совершенно уверенным во
лжи, а то лучше не заметить.
4. Если ожидаем, что ребенок солжет, то лучше
избегать вопросов; не вынуждая- ребенка на ложь,
узнать правду и прямо наказать его за проступок, если
нужно (ib., S. 250).
5. За проступок, сопровождаемый ложью, наказы-
вать сильнее; но за признание проступка — не прощать
(ib., S. 261).
6. Руссо и Кант
советуют некоторое время не верить
солгавшему мальчику; но Ж. П. Рихтер говорит, что
такое неверие будет тоже ложь, и предлагает лучше
запрещать ребенку некоторое время говорить, так как
он злоупотребил словом; но Бенеке замечает, что это
будет хорошо не в отношении всех детей, и особенно —
в отношении тех, которые будут ленивы говорить.
Сам же Бенеке ясного совета не дает; а советует обра-
тить внимание на причину лжи. По большей части при-
чинами лжи бывает или страх, или
сильное желание;
последнее опаснее, чем первое41, за ним должно следо-
вать наказание и во .всяком случае отказ в том, к чему
дитя стремилось.
7. Воспитатель должен подавать собой пример прав-
дивости и никого не обманывать.
Я заметил на Воле, как необыкновенно сильно дей-
ствует на него неисполненное обещание. Мне кажется,
что это Один из источников лжи: лучше — как можно
менее обещать, но всегда сдержать (данное обещание).
Правило это «не лгать детям» часто забывается;
так,
его забывает во многих местах Руссо, а также и Бенеке
(см. § 67, стр. 273 и друг.).
277. (III 23). Воспитание нравственности. Аристо-
тель. Платон. Наказание
Кто не только умеряет себя, но находит удовольствие
в умеренности — тот умерен (Ethica, В. II, Сар. 3, § 1).
* В ркп.— второе. (Pfd.)
598
«Поэтому необходимо, чтобы человека с самой ранней
юности, как говорит Платон (в сочин. «О законах», II),
к тому приводили, чтобы его удовольствия и его стра-
дания направлялись на что следует и в этом состоит
истинное юношеское воспитание» (ib., В. II, § 2).
Т. е., другими словами, чтобы хорошев нравилось
юноше, а дурное нет.
На этом основании Аристотель оправдывает наказа-
ния: «это лечебные средства, а лечебные средства уже
по природе
производятся противоположными» (ib., § 4).
У Гиппократа: «contraria contrariis» (Aphorism.,
XXII, 2).
278. (III, 11). Нравственность. Ее воспитание. (Дро-
биш)
Гербартовская идея хорошо выражена Дробишем
(Moral., St., p. 100).
Целью нравственного воспитания должно быть:
«в ранней молодости образовать нравственный вкус чело-
века и через то облагородить его природу».
279. (III, 35). Идея собственности
Хороший пример ученья собственности на практике
у Руссо (см.
сцена с огородником, р. 82, 83, 84).
Я думаю, что собственность на деле выходит из jus
primi occupandi*, а также и воспитание чувства собствен-
ности: вещь, сделанная мною, — моя; вещь, которую
я первый взял, — тоже. — (Но уже теперь — только
сделанных).
280. (III; 34). Нравственное воспитание. (Бенеке).
Идея собственности
Душа дитяти не пришла еще к единству; наклонно-
сти в ней разорваны; общего морального настроения еще
нет; а из этого следует необходимость особого
взгляда
на поступки ребенка.
Бенеке рассматривает случай воровства, обыкновенно
так пугающий воспитателей.
* Руссо….
599
«Идея собственности, говорит Бенеке, основана на
глубочайших основных отношениях человеческой при-
роды; а именно на том, что если мы завладеваем вещью,
на которую никто не имеет других или больших прав,
и полагали ее некоторое время в связи снами, (то) и
составили ожидание пользования ею. Это ожидание у
всех людей образуется одинаково и, следовательно,
должно всеми людьми признаваться» (Erz. und Unt.,
v. Ben., § 52, S. 215).
Нет.—
Собственность имеет свое глубочайшее осно-
вание в сознании равенства людей в их первоначаль-
ных правах.
Самосознание дает человеку возможнозть дойти до
своего абстрактного и в то же время в высшей степени
конкретного я, лишенного всякого содержания, а такие
я все равны, ибо нот между ними различий. Следователь-
но, если л завладел первый вещью, то так же может это
сделать и другой; но чем уже завладел я, тем не может
завладеть другой, и наоборот, — в этом равенство чело-
веческих
прав, вытекающее из равенства человеческих
личностей. Право свое я могу передать; но отнять его
у меня никто не может, хотя может отнять вещь.
Бенеке замечает, что у детей идея собственности раз-
вивается поздно; идея — так, но чувство высказывается
так ясно и так сильно, что нет надобности укреплять
его еще более.
При воровстве надобно разбирать мотив: это только
симптом дурной наклонности, но наклонность может
быть разная.
* •
Так как дети в моральном отношении далеко
еще
не пришли к единству, то, например, видя, что дитя
бьет своего товарища по игре, никак нельзя заключать,
что он его не любит. Напротив, он, может быть, его чрез-
вычайно любит; но тут — он увлекся минутой досады,
«причем все задатки, в которых коренится любовь, оста-
вались лежать в стороне» (ib., § 53, S. 218).
600
Бенеке весьма справедливо важнейшее средство
воспитания нравственности полагает в том, чтобы все
жизненные отношения ребенка были проникнуты нрав-
ственностью, были нравственны; ибо моральные поня-
тия, как и всякие другие, должны выходить из единич-
ных представлений, и в этом случае из чувствований.
«Где такое практическое образование морали не пред-
шествует,, там всякое ученье о практических от-
ношениях будет скользить по поверхности»
(ib., § 75,
S. 312).
Это справедливо, но только отчасти, иначе бы мы
должны отнять всякое влияние мысли на наши чувства
и действия.
Понятие о морали, как о системе правил, извлечен-
ных из практики, часто ставит Бенеке в затруднитель-
ное положение (ib., § 75, S. 314). Но мораль есть
произведение стремления к совершенству, а идеал
этого совершенства отрицательным путем развивается
в истории.
Бенеке требует, чтобы воспитатель всегда отли-
чал нарушение дисциплины
от уклонений от морали:
первое он может даже наказывать строже, но холоднее;
при втором воспитатель должен иметь «особенный
акцент во взоре, в мине, в тоне голоса и проч…»
(ib., § 75, S. 315).
Это выражено очень неясно; но, действительно, раз-
личие должно быть большое; но в чем оно должно быть?
Я думаю, что на административный проступок долж-
но смотреть, как на игру с двух сторон, окончившуюся
для воспитанника — проигрышем; а на нарушение
морального правила как на
несчастье, как на бо-
лезнь, от которой дитя может излечиться только своей
волей.
Длинные нравственные наставления, особенно одно-
образные, очень вредны, приучая душу к их бессилию.
Последствия их: «Равнодушие, бесчувственность, легкое
самоутешение, которые могут служить симптомами со-
вершенно неудавшегося нравственного воспитания»
(ib., § 75, S. 319).
601
281. (VII, 23). Половые стремления
Здесь же мы считаем нужным сказать только то,
что чем позднее достигается половая зрелость, тем луч-
ше: «чем более она замедлена,— совершенно справед-
ливо замечает Руссо: — тем более молодой человек
приобретает силы и энергии» (Emile, Livre IV, p. 233).
Но это влияние не ограничивается одним телесным здо-
ровьем: от него более всего зависит нормальное и силь-
ное развитие нервной системы, а вследствие
того пра-
вильное развитие памяти, воображения и рассудка,
насколько эти способности не могут обойтись без дея-
тельности нервной системы*.
Но этого мало: самый характер человека — его чисто
человеческие достоинства много терпят от преждевре-
менного развития половых стремлений, и Руссо весьма
меткий наблюдатель в этом случае, когда говорит:
(Перевести стр. Эмиля, Livre, IV, р. 238).
Также совершенно справедлив Руссо, когда заме-
чает, что в простой деревенской жизни половая
зрелость
наступает гораздо позднее. Но если в этом, конечно,
принимает сильное участие более простая обстановка
жизни, то не менее сильно и влияние, передаваемое на-
следственно в нервной системе.
Если наступление половой зрелости, или преждевре-
менное ее развитие имеет влияние на подбор представ-
лений или, как говорят, на воображение, то, с другой
стороны, и наоборот — дурное направление воображе-
ния имеет большое влияние на преждевременное раз-
витие этой зрелости.
Отсюда вытекает правило, что вос-
питание должно избегать всего, что может двинуть во-
ображение отрока в эту сторону.
Но напрасно думают, что этого избегают, произнося
самые невинные слова, которым уже только испорчен-
ное воображение может придать какой-нибудь дикий
смысл. Нужно только, подходя к ребенку, быть самому
совершенно чистым в душе. Однакоже это никак не
должно переступать границы бесстыдства: само при-
* Гуфеланд.
602
родное чувство стыда указывает нам верную границу.
Кому нестыдно высказывать скабрезные вещи перед
дитятей и юношей, тот должен быть удален от воспита-
ния, как величайшая зараза. — В последнее время
многие указывают на спартанское воспитание, которое
будто бы не имеет целомудренности христианина; но
кто хочет в этом случае подражать спартанцам, тот
пусть подражает им, если может, во всем: железное вос-
питание, полудикий, суровый образ
жизни, пища, ко-
торую они ели, физическая деятельность, которой они
предавались, — все это такая среда, в которой половое
развитие не настает ранее, как = = = =. Но у нас бы-
ли псевдопедагоги,г4которые, отвергая, конечно, и розгу,
и бичевание, и военные упражнения, и спартанскую
похлебку, — заимствовали у них только то, что нра-
вилось их уже развращенному вкусу. Не нужно много
знать, чтобы видеть, к чему это может вести.
Одной из побудительных причин к снятию всяких
границ
и покровов в этом отношении было германское
увлечение классической древностью, которое отнеслось
враждебно к аскетическому будто бы чувству, положен-
ному христианству, — но это совершенная ложь: хри-
стианство в этом случае только освятило врожденное
человеку во все века и у всех народов чувство стыда.
Так, мы можем прочесть у Цицерона, до какой степени
в этом отношении строгость нравов была доведена в
древнем мире, которая сохранилась даже и до сего вре-
мени, и как древние
циники хотели поколебать ее почти
теми же самыми доводами, которые приводятся и совре-
менными циниками.
Внизу даем цитату из:
De officie. Liber I, с. XXXV.
(Principio, corporis nostri… praesertim natura ipsa
magistre et duce).
He одни романы, чтения, изображения развивают
преждевременное воображение, но весь склад воспита-
ния; его изнеженность, затаенная страсть в душе воспи-
танника. Даже ласки — положительно вредны. Следует
любить дитя, но не следует ласкать
его даже матери.
603
282. (VII, 24). Тиранство и сладострастие
Руссо тоже замечает:
«J’ai toujours vu que les jeunes gens corrompts de
bonne heure et livrés aux femmes et à la débauche étaient
inhumains et cruels» (Emile, p. 238).
283. (VII, 26). Материализм и сострадание и зависть
«Si le physique va trop bien, le moral se corrompt»
(Emile, p. 67).
«Человек, не знающий страданий, не будет знать ни
сочувствия к человечеству, ни сладости сострадания;
его
сердце ничем не будет трогаться, в нем не разовьется
общественность, он будет чудовищем» (ib., р. 67).
«Сострадание приятно, потому что, ставя себя на
место того, кто страдает, человек чувствует удоволь-
ствие не страдать, как он. Зависть горька, так как созер-
цание счастливого человека не только не ставит завист-
ника на его место, но внушает ему сожаление не быть
на месте счастливца» (ib., р. 230).
«Человек сострадает в других только тем бедствиям,
от которых не считает
самого себя свободным»
(ib., р. 242).
Это’ вздор I
Обеспеченность и полная безопасность делают чело-
века холодным, бесчувственным, говорит Руссо (ib.,
р. 243) и в этом совершенно противоречит Боклю.
Отчасти верно: чувствуя беду, люди жмутся друг к
другу, охотнее помогают один другому, и у народов,
у которых жизнь не обеспечена, сострадания более, чем
у англичан. Но, по своему обыкновению, Руссо вдается
в крайность и советует воспитанию: «ébranlez, effrayez
son imagination
des périls dont tout homme est sans
cessé environné; qu’il voit autour de lui tous ces abîmes,
et qu’à vous les entendre décrire, il se presse contre vous
de peur d’y tomber. Nous le rendrons timide et polt-
ron, direz vous (непременно, да еще и ипохондриком
вдобавок). Nous verrons dans la suite (ничего нет), —
604
mais quant à présent, commençons par le rendre humain;
voilà surtout ce qui nous importe» (ib., p. 243).
Привычка видеть страдание людей притупляет чув-
ство сострадания. «Священники и медики, видя смерть ,
и страдание, делаются совсем безжалостными людьми».
«Пусть же ваш воспитанник знает страдания людей,
но не будет слишком часто их свидетелем. Один пред-
мет, хорошо выбранный и показанный во-время, даст
ему целый месяц доброты (d’ ate
nd risse ment) и размыш-
ления» (ib., p. 252).
К чему эта искусственность?
Но мы видим женщин и мужчин, которые, постоянно
видя несчастье, не делаются нечувствительными, если
их зовет несчастье, а не самолюбивый расчет к постели
больного. А дурно то, если несчастье других людей де-
лается для человека средством существования, — вот
почему у попов и лекарей сердце, не развитое смолоду,
скоро черствеет.
284. (VII, 27). Детская щедрость
Локк хочет основать ее на рассудке
так, чтобы дитя
опытом убедилось, что тот, кто щедр, сам всегда более
имеет. Но Руссо справедливо замечает, что «это значит
сделать дитя щедрым по наружности и скупым в сущ-
ности; это будет щедрость ростовщика» «qui donne un
oeuf pour avoir un bœuf» (p. 89).
Но какое средство советует сам Руссо? По своему жал-
кому обычаю он обманывает дитя. «Друг мой! — должен
сказать воспитатель воспитаннику: когда бедные захо-
тели, чтобы были богатые, богатые обещали питать тех,
которые
не могут жить сами ни своим имуществом, ни
своим трудом» (ib., р. 90).
Но первый нищий может разуверить воспитанника,
что воспитатель его солгал.
285. Радость, печаль, труд
«Дитя только или смеется, или плачет» (Руссо,
Эмиль, р. 250). —- Неправда: оно еще занимается.
(Ф. 316, папки № 25, 26, 28, 29, 31).
605
286. (VII, 7). Труд
Обязанность труда Руссо выводит из жизни человека
в обществе. «Riche ou pauvre, puissant ou faible, tout
citoyen oisif est un fripon» (Emile, p. 209).
Мы видели, что необходимость труда имеет другой
источник — свойство души.
Отсюда выводит Руссо необходимость обучения
Эмиля мастерству.
Если у человека в руках мастерство, то «la probité
et l’honneur ne sont plus obstacle à la vie».
Золотые слова!
Страсть к
занятию и талант часто не сходятся. Это
говорит Бэн; это говорит и Руссо (ib., р. 213).
287. (VII, 29). Ложь
Не нужно заставлять дитя обещать много, и никогда
того, чего он наверное не сделает (Emile, р. 88).
А между тем Руссо постоянно надувает воспитан-
ника. Поразительный пример этого см. р. 115—117.
Здесь в заговоре против капризного ребенка его отец и
вся улица; даже шпион подсылается; и представьте,
что кто-нибудь скажет ребенку, как его обманули все.
Он может после
этого впасть в самое несчастное состоя-
ние души, воображая, что его повсюду окружают за-
говоры и обманы.
Руссо опять обманывает детей (ib., р. 140).
А не сам ли Руссо в другом месте говорит: «Un seul
mensonge avéré du maître à l’élève ruinerait à jamais
tout le fruit de l’éducation» (ib., p. 233).
288. (VII, 31). Упрямство
«Если дети находят противодействие только в вещах,
а не в воле других людей, то они не сделаются ни упря-
мы, ни сердиты» (Emile, р. 43).
Это
не верно: если воля других людей будет так же не-
преклонна, как природа, — то очень и причислим ее к
таким же необходимостям. «Pourquoi se feraient-ils
606
(дети) faute de pleurer dès qu’ils voient que leurs
pleurs sont bons à tant de choses» (ib., p. 47).
«Единственное средство излечить или предупредить
эту привычку (преднамеренного упрямства) — не обра-
щать на нее никакого внимания. Никто не любит тру-
диться понапрасну, даже дети» (ib., р. 147).
«Отвлекать внимание ребенка очень хорошо, но
надобно, чтобы дитя не заметило ваших усилий»
(ib., р. 47).
289. (VII, 32). Страх и смелость
«Именно
в этом возрасте (т. е. в младенчестве) бе-
рутся первые уроки смелости, и вынося без ужаса лег-
кую боль (падение, ушибы и т. п.), приучаются посте-
пенно выносить и сильную» (Emile, р. 55).
Не нужно только кидаться к детям, когда они упадут,
ушибутся, и вызывать в них чувство страха нашим
собственным страхом. Так-то и делаются трусы у пугли-
вых маменек.
Преступление часто увеличивается, чтобы избежать
наказания (ib., р. 296).
3. О воспитании эстетических чувств
290.
(IV, 10—11). Эстетическое чувство. Его воспита-
ние. Мое
«Die Geschichte zeigt aber, wie Schiller bemerkt,
als Phänomen durch welches der Wilde in die Menschheit
tritt, die Freude am Schein, die Neigung zu Putz und
Spiel» (Dittes, § 73)..
Первые признаки цивилизации у древних герман-
цев выразились украшением одежды, сосудов, оружия,
танцами и песнями, замечает тоже Шиллер.
Эта заметка совершенно верно подтверждается исто-
рией и путешествиями, а факт этот легко объясняется,
если
мы принимаем, что стремление к изящному есть
только ветвь стремления к совершенству, которое дей-
ствует и в этом случае отдельно от стремления к пользе.
607
Это самая первобытная и грубая форма этого стремле-
ния — внешнее совершенство, наряд.
Украшайте комнату дитяти красивыми вещами, но
только красота которых доступна ребенку, советует
Диттес (ib., § 74).
Однакоже я думаю, что не нужно <детей> пе-
реполнять красивым; обратившись в привычные вещи,
вещи красивые не замечаются. «Пение» (ib.) — это
другое дело. Но почему Диттес пропустил детское ри-
сование и детские работы, — это, конечно,
одно из
могущественнейших средств пробуждения в детях стрем-
ления к совершенствованию в области изящного. Окру-
жая же его изящными вещами, скорее можно подавить
в нем этот вкус. Это ошибка Бенеке, и Фребель ее могу-
щественно исправляет. Я думаю даже, что слишком со-
вершенные образцы только скорее задавят в ребенке
свои собственные попытки; а со временем, именно через
призму этих попыток, он будет понимать достоинство
красоты.
Я думаю, что карикатурные игрушки, если
нет хо-
рошеньких, вредят; хотя карикатура тоже воспитывает
вкус.
Украшение школы цветами и деревьями — хорошее
дело (ib., § 76).
Мое. Природа, пышные обряды католичества и
остатки древнего искусства — вот что пробудило искус-
ство в средневековой Италии.
Школьные и домашние праздники имеют хорошее
влияние (ib., § 78). — Верно, но только надобно, чтобы
в этих праздниках уже проглядывала художественность.
А если они будут такого тяжелого свойства, как в Гер-
мании,
то они пробудят лишь вкус к безобразной и усы-
пительной торжественности.
Я думаю, что эстетически действовать прямо на
детей — трудно, и что надобно взрослых образовывать
эстетически. Статуи, картины, природа действуют ско-
рее на взрослых, а они уже вносят это влияние в жизнь,
в слова, в телодвижения, в домашний круг, в одежду,
в обращение с детьми, — и уже в этой форме дети воспри^-
608
нимают изящное. Но если родители так мало изящны,
как немец и немка, то все, что они устроят для детей,
будет, быть Может, чисто, опрятно, манерно, пестро —
но не изящно. Изящество — такая штука, которой по
заказу не сделаешь. Посмотрите на художественный
Берлин и Мюнхен, эти германские Афины, — тут по-
трачены миллионы и много передумано, а между тем в
каком-нибудь грязном городишке Италии больше ху-
дожественности. Посмотрите на опрятную
молодую нем-
ку и на грязную старуху итальянку, и вы поймете, что
в том, как у последней наброшен на голову платок,
больше художества, чем во всем накрахмаленном кос-
тюме немки; —да разве крахмал не та же грязь?!
В книге Диттеса и Бенеке — чистое, опрятное, ма-
нерное постоянно смешивается с художественным.
Жан-Поль Рихтер очень удачно называет детей
«маленькими азиатцами» (kleine Morgenländer) по их
страсти к чудесному.
«Мораль и религия суть по натуре своей эстетические
явления
и выражают в себе эстетический характер с
особенной чистотой и полнотой» (ib., § 102). Но, увы,
понимание религиозного у него страшно узко. Сам-то
себя он считает выше религии, а хочет только, чтобы де-
тям оставили то, «was kindisch ist» (ib., § 106).
Диттес также обращает внимание на эстетическую
сторону праздников… но увы! Немцы в своей близору-
кой мудрости сами отказались от этого действительно
сильно воспитывающего средства. Протестантизм не
понял связи между эстетическим,
нравственным и ре-
лигиозным и отбросил эстетику как идолопоклонство.
Но не прилично ли — лучшее, что есть в человеке, обле-
кать в лучшие формы, какие у него есть. Жизнь духа
протестантизма закована в оковы рассудка; сама добро-
вольно приковала она себя к земле, от которой теперь
напрасно хочет оторваться на вздутых крыльях пастор-
ских проповедей.
Религия принадлежтт духу, божеству в человеке;
рассудок — способность животного; свести религию на
степень вещи полезной,
нужной для хозяйственного оби-
609
Хода,— значит погубить ее. Протестантская, прусская
Германия, несмотря на проповеди своих пасторов,—
сделалась бесчестнейшей страной земного шара: бис-
марковская бессовестность, наглость преступления,
насмешка над всяким обещанием; Бисмарк, сидящий на
карте Европы; конституционные фразы р пасторские
проповеди сверху и игольчатое ружье под полой; Гер-
мания в высшей степени развратна, — развратна, гряз-
на по-протестантски.
Мое. Пасторы
нередко вооружались против эсте-
тичности в религии, говоря, что это значит унижать ее;
но это потому, что религия кажется им чем-то тяжелым,
обязанностью из-под палки. Для них религия не кажет-
ся эстетической, т. е. привлекательной; они рады бы
избавиться от нее и под рукой надувают ее, но отделать-
ся совсем боятся. Такая религия не художественна, но
она и не религия. (См. Диттес, § 42).
[Владычество Пруссии в Европе грозит последней
большей бедой, чем владычество Тамерлана.
Это будет
владычество бездонного рассудочного разврата. Не за-
будьте, что прусский король теперь папа протестантиз-
ма, этой бесформенной глины, из которой можно выле-
пить горшок и всякую другую посуду для домашнего
обихода,— но не статую.
Пруссия говорит во имя пользы: славяне, говорите
по-немецки, это полезнее, забудьте ваши обычаи, наши
обходятся дешевле, —вот прусская проповедь. И меж-
ду тем нет изувернее, фанатичнее этого народа! Для
него разумно только то, что
по-немецки. Он не может
себе представить, что может быть и другой разум и дру-
гие вкусы: пиво пьянит и сытно, следовательно, пейте
все это одуряющее свиное пойло; колбасы сытны и их
можно делать из всякой дряни, следовательно, ешьте
все эту собачью жвачку. Кто же этого не делает, тот не
цивилизованный человек, тому надобно учиться и сде-
латься немцем.]
Во всякой науке более или менее есть эстетический
элемент, передачу которого ученикам должен иметь в
виду наставник.
610
Из черновых рукописей К. Д. Ушинского
611
Всего более эстетического элемента в религии, так
что ученье ей должно быть проникнуто эстетичностью.
Это эстетическая сфера, полезных знаний здесь вовсе нет,
и в этом огромное значение этого ученья, которое долж-
но выходить из ряда других наук; здесь принуждения,
наказания или передача полезных знаний не должны
иметь места.
Ученье языку отечественному, кроме своего логи-
ческого элемента, имеет много эстетического: оно вво-
дит в
народную жизнь и т. д.
Не должно забывать, что на наставнике языка лежит
обязанность ввести дитя в общество великих и изящных
умов, что, конечно, расширяет силу воспитания гораз-
до шире, чем она дома и в школе.
291. (IV, 12). Эстетическое образование
Дитя не чувствует красот природы (Emile, р. 172).
Наши дамы тоже находятся в этом детском состоя-
нии. Красоту цветка они поймут; но море ничего не го-
ворит их сердцу.
Напрасно наставник хотел бы растолковать детям
красоту
природы: «в сердце человека — жизнь картин
природы: чтобы ее видеть, надо ее чувствовать».
«Дитяти не нужно описаний, не нужно красноречия,
фигур, поэзии. С ним нужен язык ясный, простой и
холодный» (ib., р. 174).
Не совсем верно.
4. О религиозно-философском воспитании
292. Предисловие
Плохое логическое и философское подготовление
лишает нас возможности употреблять с пользой произве-
дения западных мыслителей. Так, например, сочинение
Бокля отразилось у нас преимущественно
своей слабой
стороной — психологической; сочинения Дарвина тоже
своей слабой — метафизической и т. д.
(Ф. 316, папки № 25, 26, 28, 29, 31).
612
293. (VI, 10). Воспитание религии (также филосо-
фии). Бенеке
Бенеке, конечно, должен был почувствовать заме-
шательство, приступая к воспитанию религиозного чув-
ства; где не предполагается врожденная потребность
религии,— там трудно вывести ее из следов, или, по
крайней мере, ждать, пока эти следы накопятся, а это
уже придет, когда время воспитания пройдет. Вот по-
чему Бенеке прибегает к замечательному извороту.
Он начинает с того,
что многие и преподавание фило-
софии находят слишком ранним в университетах, ибо
потребность решения вопросов, составляющих содер-
жание философии, еще не появляется. Но, говорит Бе-
неке, прививают оспу для предотвращения будущей
опасности (Erz. und Unt., § 78, S. 337).
Итак религию, подобно философии, надобно при-
вить, как оспу! Но оспу прививают, чтобы предупредить
оспу. Не для того ли прививать и религию? Но оспу
Можно привить, ибо это действие физическое, а можно
ли
привить религию к душе, в которой нет потребности
религии?
Те, кто говорит, что философия в университетах не
на месте, неправы; ибо в юности общие, гамлетовские
вопросы как раз на месте, и именно надобно подготовить
юношу к пониманию мировых вопросов, по крайней мере
настолько, чтобы он не впал в ошибки, давно уже
открытые мыслителями,, чтобы, по крайней мере, не
впадал в старые ошибки, а делал новые, — так что и в
этом отношении будет движение вперед, а не прыганье
с
места на место.
На замечание Руссо, что религиозные истины еще не
доступны уму дитяти, Бенеке возражает, «что они не
понятны и взрослому, следовательно, все равно, когда
их ни передавать (ib., р. 338). — Что это, насмешка,
что ли?
Религия, которую передает детям Бенеке, самого
наивного свойства — это чисто бабьи сказки, благо дитя
еще не сомневается (ib.). Но на этом основании — лги,
613
что угодно, —благо верят; а не сам ли Бенеке говорит
об опасности лгать детям.
Высоких же истин не передавай. Так, например,
жертвы, принесенные Христом в пользу человечества.
Потребности такой жертвы 14-ти летнее дитя еще не
может не только понять, но и почувствовать. «Если же
мы будем сообщать ему относящиеся к этому догматы,
то оно примет их только внешним образом, не так, как
этого требуют их истинный характер, их великое и глу-
бокое
значение, и из этого образуется не детское, а ре-
бяческое понимание, которое, может быть, останется
навсегда» (ib., § 78, S. 338)*.
Вообще Бенеке советует: «все положительное в раз-
личных религиозных формах держать далеко от ре-
бенка» (ib., S. 340). «По крайней мере противополож-
ностей различных религиозных форм не сообщай ребен-
ку» (ib.). «Говори с уважением о всех религиозных
формах; изгони из учения всякую полемику, даже
против религий нехристианских» (ib.).
Это
все может говорить человек, не имеющий вовсе
никакой религии. Но тогда зачем же обманывать дитя;
зачем ему навязывать то, чего оно не требует, и что со-
временем, если дитя правильно разовьется (воспитатель
непременно считает себя правильно развитым), должно
будет разрушать, тем более, что для образования нрав-
ственного Бенеке считает религию ненужной? Нрав-
ственные отношения, говорит он, способны к строго
научному развитию (которым Бенеке считает, конечно,
свое, за исключением
многих тысяч других попыток),
строгому проведению и основанию на твердых принци-
пах (в противоположность религии); ибо это объекты
внутреннего опыта и как такие доступны познаванию»
(ib., § 78, S. 338, Anmerk).
При таком взгляде учение религии есть компромисс
со стороны Бенеке в пользу прусского министерства.
* Не нужно детей в церковь водить (Бенеке, S. 343, § 78).
Жан-Поль Рихтер советует водить в пустую церковь — это
совершенно по-немецки (ib.).
614
Мы же скажем: кто не имеет религии и не чувствует
ее потребности, тот должен не воспитывать детей, ре-
лигии не учить.
Евангелие действует на десятилетнее дитя: это я сам
испытал на себе и на детях: служение также, праздники
и обряды также, они укрепляют религиозное стре-
мление.
Издеваться над религиями тоже не должно, ибо вся-
кое религиозное чувство выше всех остальных и само
по себе почтенно; но должно воспитывать в почтении к
той
религии, к которой принадлежит воспитатель, и в
этом отношении русские поставлены очень счастливо,
ибо их религия соответствует самым высоким требова-
ниям воспитания; историческая верность, терпимость,
вера в провидение и в свободу воли, отсутствие загроб-
ных мечтаний, отсутствие непогрешимости главы и т. д.
294. (VI, 6). Удивление. Религия
«C’est en vain que les abîmes de l’infini sont ouverts
tout autour de nous; un enfant n’en sait point être épou-
vanté; ses faibles
yeux n’en peuvent sonder la profondeur»
(Emile, p. 284).
«Если бы я хотел изобразить гибельное безумие, то
я изобразил бы педанта, преподающего катехизис де-
тям; если бы я захотел лишить дитя рассудка, то я за-
ставил бы его объяснить то, что он говорит в своем ка-
техизисе».
«Если бы от изучения слов зависело спасение души,
то почему бы не населить неба сороками и скворцами»
(ib., р. 283).
Однако тот же Руссо говорит: «L’oubli de toute
religion conduit à l’oubli
des devoirs de l’homme» (ib.,
p. 291).
У древних совесть была лучше их религии: «славя
разврат Юпитера, они удивлялись умеренности Ксено-
крата, чистая Лукреция обожала бесстыдную Венеру,
бесстрашный римлянин приносил жертвы страху» (ib.,
р. 324).
615
Отсюда Руссо выводит, что «в глубине души есть
врожденный принцип справедливости и добродетели»
(ib.).
«Si la divinité n’est pas, il n’y a que le méchant qui
raisonne, le bon n’est qu’un insensé» (ib., p. 328). — От-
лично I
«Quelle félicité plus douce que de se sentir ordonné
dans un système où tout est bien» (ib., p. 329).
Тут же необходимость возможности зла для свободы
воли.
На жизнь Руссо смотрит как на приготовление к
загробному
счастью (ib., р. 330).
V. МЕЛКИЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ
ЗАМЕТКИ
1. О возрастных особенностях
295. (VII, 22). Отрочество
«В двенадцать и тринадцать лет силы дитяти разви-
ваются гораздо быстрее его потребностей» (Livre III,
p. 169).
Этот избыток сил должен итти на ученье.
296. О воспитании юношества (незаконченное письмо)
…Ты жалуешься на сыновей твоих. Тебя оскорбляет,
что они уже не слушаются твоих советов, как бы-
вало прежде; что они более доверяют своему
собствен-
ному незрелому уму, чем благоразумию людей опыт-
ных; что они хотят пользоваться свободой, которой еще
не умеют распорядиться; но ты забываешь, что они уже
не дети. Ты жалуешься, что они опрометчивы, легко
вдаются в крайности, увлекаются, не думают о буду-
щем; но ты забываешь, что они еще не взрослые люди,
что самый закон еще не признает их совершеннолетними,
не дозволяет им в важных случаях жизни свободно
распоряжаться судьбой своей и своим имуществом,
смягчая
ответственность их при проступках; словом,
616
ты забываешь, что они юноши. И многие забывают это.
О воспитании детей и у нас было писано довольно и
особенности детства разработаны довольно подробно;
о воспитании юности думали у нас очень мало; я, по
крайней мере, не знаю ни одной статьи, где бы особен-
ности юношеского возраста были исследованы, а вме-
сте с тем выставлены и необходимые особенности юно-
шеского воспитания, а между тем юность имеет не ме-
нее детства своих характеристических
отличий.
Прежде всего согласимся в том, что голос природы
должен быть выслушан и родителями, и обществом, и
воспитателями, и законодательством. С природой плохо
спорить; можно, пожалуй, не уважать ее законов,
можно помешать их выполнению в развитии человека,
но из этого ничего хорошего не выйдет: человеку остается
только узнать эти законы и воспользоваться их силой.
Юность такой же необходимый период в развитии
человека, как и детство, и обойти этот период невоз-
можно
и, если бы было возможно, то было бы крайне
неразумно. Есть, правда, люди, у которых почти не бы-
вает юности — и которые из детей прямо почти становят-
ся взрослыми; но это плохие люди: общество столь же
мало может ожидать от них плодов, как садовник от
дерева, которое не цвело; потому что юность в развитии
животного и человеческого организма— такой же су-
щественно важный и необходимый период, как период
цвета в организмах растительных. Цвет часто бывает
пустоцвет, но без
цветов» плодов быть не может.
Но в чем же состоят особенности этого необходимого,
существенного перехода от детства к возмужалости?
Если мы обратимся за разрешением этого вопроса к фи-
зиологии, то увидим, что переход от детства к юности
обозначается проявлением половой зрелости. Если
обратимся к психологам, то также не найдем удовлетво-
рительного ответа: одни из них занимались более мета-
физическими вопросами, чем наблюдением, другие
наблюдали процесс рождения чувств и
мыслей; но те и
другие мало обращали внимания на явления постепен-
ного развертывания духовной природы человека. И в
617
этом, как и во многих других случаях, самую меткую
мысль найдем мы у старика Гегеля, несмотря на туман-
ную абстрактность выражений берлинского Аристоте-
ля. Постараемся, сколько возможно яснее, передать
его мысль:
«Мальчик созревает в юношу, когда при наступле-
нии половой зрелости начинает в нем пробуждаться
жизнь природы и ищет себе удовлетворения. Юноша
ищет вообще существенного в самых общих явлениях
человеческой жизни; его идеал
уже не в личности взро-
слого человека (родителя, воспитателя, учителя), но
вообще идеал любви, дружбы, всеобщего мирового по-
рядка. Но юноша считает эти самые общие идеалы чело-
вечества своими личными идеалами и действительно
примешивает к ним много личных, субъективных воз-
зрений. В этом личном понимании общих идеалов скры-
вается противоречие, которое отражается во всем
характере юности. Богатое воодушевляющее содержа-
ние этих идеалов вливает в душу юноши чувство силы,
и
он чувствует себя призванным и способным пере-
делать мир по собственному идеалу; а пылкость увле-
чений и недостаточность в глубине воззрений не дает
ему возможности видеть что в действительности и так
уже развиваются и осуществляются эти идеалы, насколь-
ко в них есть всеобщего и разумного и самое осуществле-
ние этих идеалов кажется ему измененным. Таким обра-
зом, то бессознательное спокойствие, в котором живет
дитя, в юноше разрушается и сменяется борьбою. Это
стремление
к идеалу придает юности тот характер бла-
городства и бескорыстия, которых, повидимому, недо-
стает зрелому возрасту, когда человек более заботится
о своих особых временных интересах; но на деле выхо-
дит, что юноша, стремясь ко всеобщему, стремится
удовлетворить только своим субъективным воззрениям,
живет в своем особенном мире мечтаний и заботится о
своем личном развитии, тогда как взрослый, будучи
погружен в действительность, работая для себя, при-
нимает действительное
участие в историческом осуще-
ствлении идеалов человечества. К этому необходимо
618
приходит и юноша: чтобы осуществить свой идеал,
он стремится образовать самого себя и в этих попытках
юноша делается мужем» (Hegel’s Encyclopädie, 3 Theil,
Die Philosophie des Geistes, S. 45, § 98—99).
Сообразно с этим Гегель несколько дальше говорит:
«что в этом юношеском идеале есть истинного, то удер-
живается и в практической действительности; только
от неистинного, от пустых абстракций отучивается
взрослый человек; объем и род его
занятий могут быть
очень различны, но существенное во всех человеческих
делах одно и то же, а именно — справедливое, нрав-
ственное, религиозное». Во всех сферах практической
деятельности могут поэтому найти люди удовлетворение
и честь, если каждый в своей особенной сфере, которую
представят ему случай, необходимость, или свободный
выбор, сделает то, что можно от него потребовать
по справедливости. Но для этого прежде всего нужно,
чтобы образование юности, превращающейся в
мужа,
было закончено, чтобы он выучился из юности в зрелый
возраст и во 2-х, чтобы он стал сам заботиться о своем
содержании, решившись работать для других. Одно
образование не делает еще юноши совершенно взрослым
человеком; для этого нужна еще ему личная разумная
забота о своих временных интересах; точно так же как
народы только тогда являются зрелыми, когда могут
уже сами заботиться о своих духовных и материальных
интересах…
(Рукопись не закончена). (Ф. 316, № 34).
2.
Об изучении родного языка и языков
297. Образовательное значение родного языка
Бэн весьма удачно говорит: «Без формального
ученья язык, в котором мы выросли, учит нас всеобщей
философии века» (Mill’s Log., В. IV, Ch. III, p. 205).
«Он направляет нас наблюдать и знать вещи, которые
мы бы просмотрели; он дает нам уже готовую класси-
фикацию. Число нарицательных имен в языке и сте-
пень общности этих имен свидетельствуют о науке
619
эпохи и о том интеллектуальном воззрении, которое
есть унаследованное право того, кто родился с этим язы-
ком». (См. также у Милля, В. V, Ch. II, р. 207).
(Ф. 316, папки № 25, 26, 28, 29, 31).
298. (VII, 12). Язык
«Слова и мысли так тесно связались в родном язы-
ке, что кажется (es den Schein gewinnt), как будто мы
думаем посредством слов» (Herb. Lehr. d. Psych., § 22).
299. (VII, 13). Психологический язык. О слове. Ду-
шевные движения.
Emotion
Материализм языка испортил наши психологические
понятия, доказывает Броун (р. 82).
300. (VII, 14). Изучение языка
Свойства языка, которое требуются для выражения
и отыскивания общих истин, Милль выражает в двух
условиях: «Первое, чтобы всякое общее имя имело значе-
ние, твердо установленное и точно определенное. Вто-
рое, менее важное, чтобы у нас для всего, где понадобит-
ся, было слово» (Mill’s Log., В. IV, Ch. IV, p. 211).
301. (VII, 18). К рассудку. Изучение
иностранных
языков
Об этом предмете Руссо выражается темно; избегает
ответа. Он не говорит об изучении языков, ибо говорит
о воспитании детей младшего возраста (р. 96)… Но и
впоследствии тоже об этом ничего нет. Видно, он или
позабыл, или схитрил.
«Голова образуется по языку; мысли принимают
оттенок наречия. Один рассудок общ всем; дух же в
каждом языке имеет свою особенную форму, различие,
которое может быть отчасти причиной, а отчасти след-
ствием народного характера»
(р. 96, Руссо, Эмиль).
Это верно, а вот ошибка:
«Чтобы обладать двумя языками, должно сравни-
вать идеи, и каким образом будет сравнивать их дитя,
620
когда оно с трудом, едва их понимает?» — Не сам ли
говорил выше, что понимать значит сравнивать.
Он положительно отвергает возможность выучить
дитя хорошо иностранному языку и говорит, что вот
для того-то, чтобы скрыть этот недостаток, детей учат
древним языкам, в которых нет судьи (ib., р. 97).
302. (VIII, 13). Изучение чуждых языков
Одна из польз этого изучения та, что вообще и родной
язык станет идеальнее… т. е. не будет дитя привязывать
понятие
к исключительным вещам, а, переводя, поймет
лучше особенности значения каждого слова, т. е. идею,
которую представляет это сочетание звуков; оторвет
идею от сочетания звуков, которое может быть различно
на различных языках.
Но не нужно забывать, что чуждый язык мы можем
понять только через посредство своего.
3. Об обучении чтению
303. (VII, 10). Учение чтению
«La lecture est le fléau de l’enfance, et presque la
seule occupation qu’on lui sait donner. A peine à douze
ans
Emile saura-t-il ce qu’est un livre» (Em., p. 106).
Поздненько; но в замечании этом немало правды.
«Parlerai-je à présent de l’écriture? Non, j’ai honte
de m’amuser à ces niaiseries dans un traité de l’éduca-
tion» (p. 107).
И это повторяется часто, что Руссо совестится чи-
тателей, если нужно объяснить им такие само собой
ясные вещи.
Это и я часто чувствую: неужели нужно для чего—
нибудь то, чем набиты немецкие педагогики?!
4. О детском чтении
304. (VII, 11). Чтение
детей
Лучшим чтением Руссо признает Робинзона (ib.,
р. 195). Историю начинает Плутархом и воспоминаниями
(см. Confessions, Emile, p. 265).
621
305. Изучение басен
Мнимо-дельное замечание у Руссо, которое опять
слишком уже вооружает против басен (Emile,
р. 101-106).
(Ф. 316, папки № 25, 26, 28, 29, 31).
5. Об обучении разным предметам
306. (VII, 8). Рассудок. Геометрия. Естественные
науки. География окружающего. Расположение наук
Первый предмет, которому учит Руссо дитя, — это
наглядная геометрия (по методе Дистервега — тоже).
Но дитя должно само находить доказательства,
а не
так, как делается:
«Вместо того, чтобы дитя само находило доказатель-
ства, мы ему их диктуем: вместо того, чтобы заставить
его рассуждать, учитель рассуждает за него и упраж-
няет только его память» (Emile, р. 144).
Это несправедливо, но не вполне, ибо основано на
ложном убеждении гимнастики рассудка без содержа-
ния.
Фигуры должны рисоваться точно (ib., р. 145).
Что геометрия первый предмет см. ib., р. 171.
Второй предмет естественные науки (ib., р. 175).
Далее
окрестная география (ib.).
Руссо полагает, что дитя и отрок должны изучать
отношение свое к вещам, а юноша к другим людям
(ib., р. 230). Но ясно, что такое деление невозможно: оно
все основывается на ложном предположении, что будто
моральное чувство, как настанет время (половая зре-
лость), так и появится самой собой. Это, конечно, вздор,
и моральные чувства наши начинают слагаться из наших
привязанностей и антипатий с самых первых дней
жизни.
307. (VII, 9). Учение географии
В
географии Руссо, кажется, первый советует начи-
нать с плана отцовского сада (Emile, р. 97).
622
308. (VII, 28). Дух критики в воспитании. (Гнев).
(За историю)
Критическое направление самого Руссо увлекло его
советовать провести его и в воспитании; но хороший пси-
хический такт удержал его, и он заметил неудобство
этого направления.
«Если ваш воспитанник сделается наблюдательным
слишком рано; если вы будете упражнять его в том, что-
бы рассматривать слишком близко действия других,
вы приучите его к злословию и сатире, сделаете
его ре-
шительным и быстрым в суждениях: он будет находить
отвратительное удовольствие отыскивать всему дурное
истолкование и не видеть хорошего там, где оно и есть.
Он привыкнет видеть злых без ужаса, как привыкают
видеть несчастных без сострадания, и скоро общая раз-
вращенность будет служить ему не уроком, а извине-
нием: он скажет сам себе, если человек таков, то и ему
незачем желать быть другим» (Em., р. 259).
И вот почему Руссо хочет показать ^своему Эмилю
сначала
человека издали (ib., р. 260) и избирает для
этого историю.
Но почему же он не выбрал евангелия? В этой исто-
рии и дурные и хорошие стороны человека раскрыва-
ются вполне, и хорошие увлекают неудержимо.
Для начала истории он выбирает Плутарха, так как
он более рисует внутреннюю жизнь человека (ib.,
р. 265).— Но разве у Плутарха хвалится только то, что
действительно хорошо? Единственный отрывок из
человеческой истории — евангельские события — ми-
рят человека с человеком
и притом с человеком, погряз-
шим в пороках.
И у Руссо была система…
[О, попы… вы заставили людей отвернуться и от
евангелия!]
623
Приложения
624 пустая
625
1. ЛИЧНОСТЬ
ОЧЕРК ИЗ ФЕНОМЕНОЛОГИИ6
— «Он ему говорит,—вы, милостивый государь, невежа; а он,
не говоря худого слова, и съезди его в самую личность»; или:
— «если ты еще раз напьешься, Ванька, то помни, братец,
что я тебе всю личность исковыряю»; или: «я ему и то и се:
помилуйте, мол, Ваше благородие, Ваше ‘высокоблагородие,
а он, куда тебе! как зверь дикой и слушать ничего не хочет, так
и лезет на меня; так до личности и добирается: в
бороду вце-
пился окаянный!» и проч.
Ясно, что здесь личность принимается в смысле лица, обла-
дающего глазами, ушами и носом, а более всего двумя щеками;
нос и глаза, пожалуй, могут и не быть, но щеки являются со-
вершенно необходимыми для Такого понятия личности. Лич-
ность, следовательно, принимается здесь в смысле рожи, мор-
ды, «мордасов», по-русски.
— «Вы, милостивый государь, имеете, кажется, намерение
задеть мою личность»; или: «я бы мог все стерпеть вам; но лич-
ности
своей тронуть не позволю; нет, нет, не позволю, ни за что
не позволю»; или: «не трогай он моей личности, пожалуй,
ругай, издевайся, коли уж пришла охота; но личности не тронь
и я бы смолчал ему; но»… и т. д.
Здесь личность принимается в смысле чести, которая тоже
понятие чрезвычайно условное и иногда означает тайные греш-
ки человека, такие местечки в его душе, до которых, если и не-
чаянно доткнешься, то человек на стену лезет.
— «Помилуйте, как же мне было терпеть, когда он
нагово-
рил мне личностей, слышите ли, личностей»; или: «что это
такое, милостивый государь, это, кажется, личность! Личность
ли это или нет? я вас спрашиваю»; или: «по какому праву вы
смеете говорить мне личности? Да знаете ли?» и проч. и проч.
Здесь под именем личности разумеется всякое метко-обидное
слово и, чаще всего правда, высказанная в глаза.
— «Делайте себе, что вам угодно, но моей личности прошу
не мешать!» или: «нет уж, сделайте одолжение: мою-то личность
626
оставьте в покое»; или: «личность жены моей, милостивый го-
сударь, вещь священная; я не позволю никому ее касаться!»
и т. д.
В этих фразах под личностью разумеется уже более весь
человек и с руками, и с ногами, с крестом на шее или в петлице,
с тем титулом, который присвоен ему по чину и должности, с
состоянием, и даже с дядей, с теткой и двоюродным братом,
особы важные.
Но все это пресердитые значения личности; такие, что когда
дело
зайдет о такой личности, то лучше отойти подальше. Да и
по большей части личность — штука пресердитая и выходит
у нас на сцену только тогда, когда человека задели за живое,
когда хмурится бровь, возвышается голос… Неприятно слы-
шать разговор такой личности! Но изредка слово личность
употребляется и в более мирном значении.
—- «Премиленькая, преинтересная личность!» или: «важная
личность!»; или: «вот это личность, так личность!»— «Священная
личность его превосходительства!»
и т. д.
В этом случае разумеется под личностью иногда то же, что
и в первом, только не морда, а хорошенькое личико; а иногда
и то, что называется приличнее латинским словом — persona.
Persona — это то же, что личность, и слово это вошло в обще-
ственное употребление с подмосток древнего театра: per — sona,
т. е. лицо, издающее звуки на сцене; а потому и у нас именем пер-
соны называется лицо, которое издает звуки, когда все вокруг
него молчит, и не всякие звуки, а только важные,
нерусские,
высоко гортанные, отрывистые. Персону зовут также и особой,
т. е. чем-то особым, отдельным от людей в отличие от человека.
Человек и особа— два понятия крайне противоположные; на-
звать особу человеком значит сказать особе личность, да она и
не откликнется на название человека; та же особа, которая от-
кликается на название —«человек!», вовсе не особа и ей вооб-
ще и нельзя сказать личности, что бы вы ни сказали. Русская
жизнь придала всем этим понятиям —^личности»,
«персоны»,
«особы», «человека», — столько своих своеобразных значений,
что если перевести буквально на русский язык германскую
философскую книгу, то вышла бы такая галиматья, которой
и сам переводчик не понял бы.
Впрочем, личностью персону зовут только люди очень мо-
лодые, неопытные, не знающие приличий; во-первых, потому,
что это и действительно не личность, а персона, и может, чего
боже сохрани, оскорбиться таким названием; а во-вторых, пер-
сона, если сама уже и не ездит
по личностям, то стоит ей только
махнуть пальцем или насупить бровь,— и сотни самых дюжих
кулаков пойдут усердно молотить по личностям. Даже, если
персона только едет мимо, или где-нибудь персону ожидают,
то там непременно идет сильнейшая раскваска личностей. Как
же можно после этого назвать персону личностью? Это в высшей
степени неприлично; и почти все равно, что назвать персону
627
человеком, тогда как персона сидит в карете, а человеку место
за каретой.
Есть еще несколько понятий личности. Русское общество
очень полюбило это слово и придало ему множество весьма инте-
ресных значений. Когда оно вошло в русский язык, мы не
знаем, на то есть филологи; но верно только то, что в Руси до-
екатерининской слово личность не употреблялось; хотя все по-
нятия, которые и ныне придают ему, у нас были, конечно, тог-
да, как и
теперь.
Но в самом философском значении слово личность употреб-
ляется нашей полицией; да и немудрено, потому что это сосло-
вие чаще всех прочих обращается с личностями и личности
трудно было куда-нибудь укрыться от его философских исследо-
ваний. «В личности Петра Егорова, сына Подколенова, удосто-
веряют», — и т. д.
Это значение личности, что вот-де это тот самый, которого
зовут Петром, Егоровым сыном, Подколеновым, ближе всех к то-
му понятию личности, которое придает
ему западная юриспру-
денция и философия. Близко, но все же не то. Петр, Егоров сын,
Подколенов, как это очень хорошо известно философам благо-
чиния, может вдруг оказаться Сидором, Терентьевым сыном,
Блинниковым, хотя все же останется тем же самым Петром…
нет, не Петром, да и не Егором; а тем же самым… нет, и не тем
самым, а тою же самою личностью… Тьфу, ты, пропасть! как
трудно поймать эту личность за хвост, да без помощи полиции
даже и вовсе невозможно. Но вот полиция
поймала-таки для
нас личность и ведет ее, связанную по рукам и по ногам. Вот
вам личность налицо, личность in corpore; рассмотримте же ее,
пока она не убежала, что, предваряю вас, она непременно сде-
лает, оставивши после себя только запах дегтя и какую-нибудь
ассигнацию, а у ассигнации, как вам известно, личности ника-
кой нет, потому-то они и могут переходить беспрепятственно из
чьего угодно в чей угодно карман. Начнемте же исследование:
берите вашу лорнетку или пускайте на
нос ваши очки и
смотрите.
Видите ли вы эту личность? Она и с бородой и с усами, пол-
сажени в плечах, и имеет один только маленький недостаток:
слаба памятью, бедняжка, и совершенно позабыла все свои род-
ственные связи в совершенную противоположность вам, мой
любезный читатель: вы так хорошо помните даже троюродного
брата вашей невестки, который получил недавно Владимира
на шею. Но потому и трудно докопаться в вас личности, а этот
путешественник, позабывший на одной из станций
не только име-
на своих родных и название губернии, уезда и села, где родился,,
но даже собственное свое имя, для нашей цели и вообще для фи-
лософии субъект неоцененный. Сегодня приведут его в при-
сутствие, он — Петр, через неделю — он Сидор, — еще через
неделю Карп, — сегодня он из Саратова, завтра из Чухломы,
послезавтра из Пскова; а все же это одна и та же личность без
628
имени. Вот вам самое философское доказательство, что личность
не нуждается в имени и что не имя составляет личность. Но
этого мало: вот теперь эта путешествующая личность с бородою
и на голове у нее целый стог; и одета в страннические одежды и с
посохом в руках; но завтра у нея не будет бороды; голову тоже
Обреют; оденут в серую куртку; может быть, будет меньше тре-
мя, четырьмя зубами, но зато лишняя синяя шишка вырастет
под глазом; а она
все останется тою же самою личностью и будет
упоминаться в толстом деле, которое будет, по крайней мере,
вдвое тяжелее самой личности и в постройке которого примут
деятельное участие пятьдесят земских и уездных судов и два-
дцать гражданских палат. Одна и та же личность будет носить
там двадцать разных названий и как ее там признать — это
тайна полиции.
Не вправе ли мы после того сделать такое заключение.
Ни рост, ни толстота, ни нос, ни губы, ни глаза, ни платья, ни
бороды,
ни пучина на голове не составляют личности и даже не-
дочет полдюжины зубов или лишний синяк под глазом не изме-
няют личности человека, хотя, конечно, могут так изменить
физиономию, что и мать родная не признает. Да личности и
узнать-то нельзя. На что уж, кажется, С.кий становой — зна-
ток личности вообще и бородатых личностей вверенного ему ста-
на в особенности, изучил, могу сказать, изучил, потому что с
детства страсть питал к личности, да и теперь,— только завидит
ее, так
и протягивает руки, как младенец к груди матери,
играетъ неутолимая,— а и тот ничего не сделает. Приведут путе-
шественника в родимую деревню, поставят лицом к лицу с же-
ною, с детьми, с целым селом. Все его знают, а он никого: пере-
забыл всех, бедняга. Жена с воем кидается к нему на шею:
дети пищат и лезут под ноги. «Муженек ты мой, Иван свет Кузь-
мич!» вопит жена; «тятя! тятя!» — голосят дети: «Ванюха, раз-
бойник!» — ревут мужики; а он все стоит па одном: «знать не
знаю,
ведать не ведаю. Какой я вам Ванюха, лешие; отродясь
Иваном не звали; отвяжись, ошалелая баба; ступайте прочь,
бесенята, дам я вам тятю». Становой и рвет и мечет; знает, ну вот
заподлинно знает, что Иван Безрылов; что скрылся три года
тому назад, видит даже метку, которую как бы по предчувствию
Сам же, собственною рукою положил у него на личности; а дока-
зать нет никаких средств. «Я да не я, твердит себе бродяга пер-
вую категорию из гегелевской феноменологии духа, да и все
тут,
и доказывает очевидно, ясно, как день, что на личности нет
и не может быть никаких примет, и если ей сильно захочется
спрятаться, то никакой становой ее не отыщет. Говорите после
Этого, что философия у нас не в ходу: да, господин, не помнящий
родства, такой философский субъект, каких поискать; сам бы
Гегель дал дорого, чтобы иметь возможность осветить таким
примером свою туманную философию. Возможно ли доказать
осязательнее, что ни имя, ни место жительства, ни род занятий,
ни
жена, ни дети, ни борода, ни нос, ни зубы, ни даже
629
рубец, положенный на самой личности, не могут отметить
личности!
Фихте, выводя свое знаменитое Я, доказывает то же самое;
но наши философы благочиния и без помощи Фихте достигли
тех же результатов. Вот почему в наших паспортах пишутся
приметы, какие попало, которые также применимы к оранг-
утангу, как и к каждой человеческой личности. Ясно, что эти
приметы пишутся в совершенном и глубоком убеждении, что,
какие приметы ни пиши, личности
не обозначишь.
Но если личность не нос, не глаза, не рост, не семья, не имя,
не фамилия; если она, словом, не имеет никаких примет, то что
же она такое, наконец?
Это даже странно, невероятно, если хотите, а между тем это
справедливо как нельзя более. Кажется, например, решитель-
но невозможным отделить юпитерский нос и таковые
же брови от личности его превосходительства, даже и во-
образить себе трудно личность его пр-ства без носа и без бро-
вей: и нечего нахмурить, так чтобы
чиновник почувствовал бла-
гоговение, и нечего поднять кверху, так чтобы чиновник на-
гнулся книзу. Совершенно невозможное тем не менее это только
так кажется. Если бы его пр-ству случилось не то чтобы где—
нибудь потерять — это неприлично и быть не может,— а так
где-нибудь позабыть нос и брови, на время, конечно, то его пр-
ство не только бы осталось тою же самою личностью; но даже и
тем же самым пр-ством. Но пойдем далее и предположим себе,—
трудно представить что-нибудь нелепее
этого предположения;
но философская вольность все допускает, — предположим себе,
что его пр-ство, вместе с носом забудет где-нибудь и самое его
пр-ство, что, конечно, невозможнее, чем позабыть нос; то и
тогда личность его пр-ства останется та же самая. Вы не верите?
Право же так! Сморщится, скорчится, станет ниже ростом, при-
смиреет, поглупеет его пр-ство без его пр-ства; а все же и
после этого вычитания останется не нуль, как надобно было
ожидать, следуя арифметике, а личность.
Вот и выходит, что
арифметика лжет, как доказал Гегель теоретически, а один
мой знакомый комиссариатский чиновник на практике. Неве-
роятно? Но такие ли еще фокусы показывают нам немецкие фи-
лософы? Впрочем, в тожестве личности его пр-ства во всех воз-
можных видах и положениях и даже без его пр-ства, вы можете
убедиться сами, если найдете случай поговорить с человеком
его пр-ства; не с самим его пр-ством, это ни к чему не поведет,
тут-то вы и не увидите личности; а с человеком
и не вообще с
человеком, а с человеком, принадлежащим его пр-ству. Какой
то великий человек сказал, что для лакея нет великих лично-
стей; это, может быть, потому что великих личностей вообще
нет, а есть так себе личности ни великие, ни малые, а все ров-
ненькие, но зато никто не ощущает так очевидно чужой личности,
за неимением своей, как люди не в немецком, а в русском смы-
сле слова. Человек его пр-ства видит его, т. е. свое пр-ство,
630
в самых разнообразных видах и все же чувствует, что это одна и
та же личность, обладающая им в продолжение пятидесяти лет.
Вот его пр-ство еще мальчик, и человек видит, как его секут;
т. е. не человека,— если секут человека, то он по самой есте-
ственной причине не может этого видеть,— и не его пр-ство —
кто же посмеет высечь его пр-ство,— а мальчика, который будет
со временем его пр-ством. Потом видит человек, как будущее
пр-ство гоняется
сначала за голубями, а потом за горничными;
видит человек и прапорщика, прокучивающего с приятелями
и приятельницами папенькины денежки; видит потом и самое
его пр-ство и видит его и в приемной, и в карете, в кавалериях
и почете, видит и без парика и без зубов, видит и в ванне без
рубахи; видит, как его пр-ство, затворясь в кабинете, чистит
звезду и хорохорится перед зеркалом,— видит, как они дрем-
лют за бумагами или ловят мух, когда чиновники со страхом
ждут в приемной появления
его пр-ства; видит и на коленях
перед Марьей Петровной, которую они об чем-то слезно просят;
видит, когда его пр-ство шепчется заботливо с доктором; ви-
дит…да где же, наконец, человек не видит его, т. е. своего пр-
ства и, несмотря на все разнообразие положений, физиономии,
оболочек, гримас и т. д., словом, всей внешности его пр-ства, ни-
когда не теряет из вида, что это одна и та же личность. О, люди,
т. е. люди в нашем доморощенном смысле слова, знают лучше
всех, что такое
личность и какие она может проходить превра-
щения, оставаясь все тою же личностью!
Но не только внешность; но и внутренность человека может
меняться, не производя никакой перемены в личности человека;
не только мысли и чувства (у кого же они проносятся в
голове, как облака по небу, не оставляя следа?), но даже самые
душевные и умственные способности. Человек может поумнеть,
поглупеть, спиться с кругу, совсем одуреть, а личность его оста-
нется все та же. Не верите? Мы сейчас
и примерец приведем.
Посмотрите на этого седого, вал итого салом купца: осове-
лые глаза его показывают поразительно ясно, что он глуп до
бесконечности и что и двух мыслей ему связать не под силу. Он
только открехтывается, отдувается, отплевывается, зевает во
всю глотку да упоминает имя господа всуе. Ленивый его не
обкрадывает, да не надувает: крадет жена, хоть и сама не отли-
чается быстротой ума, обкрадывают дети, зятья, невестки, при-
казчики, сидельцы, прислуга — все, кто
только может, и все
уверяют его в безграничной любви и уважении, а он и верит от
души, как же не любить его? Да и как ему распознать любовь,
когда он во всю свою жизнь только и любил что деньги, да боль-
шие самовары? Но можете ли вы себе представить, что эта глупая
и дряблая масса жиру сама нажила себе состояние и какое со-
стояние? — миллионное! А ведь этого, согласитесь, без ума
или, по крайней мере, без хитрости сделать нельзя. И точно:
было время, когда он был ловок и хитер,
рыж, в веснушках,
тощ, как кот в марте месяце; когда он надувал всех и вся, не
631
проходил мимо человека, чтобы не надуть его; как бесенок,
подталкивал дрожащую руку с чаркой водки, подпечатывал,
обмеривал, обвешивал, не говорил, а только божился, шеве-
лился и весь ходил, как на пружинах, и, подражая римскому
императору, считал тот день потерянным, в который не успевал
надуть десятерых человек. Он у бегущего, не то что у идущего
полы резал, а теперь?.. Но вы не верите! Да разве же можно из
ничего, не зная грамоты, составить
миллионы и из-за кабачной
стойки перелететь в каменные палаты? Такие превращения толь-
ко в сказках делаются да и то не совсем честным образом…
(Архив Института литературы А.Н. СССР Ф. 316, № 55).
2. ПРЕДИСЛОВИЕ А. Н. ОСТРОГОРСКОГО
К « МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ III ТОМА «ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
АНТРОПОЛОГИИ»
Семья покойного К. Д. Ушинского, предположив издать
настоящий сборник, признала полезным включить в него вы-
писки и заметки, которые делал Константин Дмитриевич, гото-
вясь писать
«Педагогическую антропологию». Часть их была
использована им для I и II томов; часть относилась к содержа-
нию III тома. К разбору этих материалов, предпринятому семьей
Константина Дмитриевича, был привлечен и я; исполнив эту
работу, я считаю себя обязанным дать в ней отчет и вместе с
тем поделиться с читателями впечатлениями, вынесенными из
просмотра заметок К. Д. Ушинского.
Два слова о внешности заметок.
Заметки Константина Дмитриевича писаны на четвертуш-
ках, с полями
в половину страницы, и представляют главным
образом выписки из прочитанных им книг. Иногда, исписав обе
стороны четвертушки, он продолжал писать на полях. На полях,
оставшихся чистыми, встречаются пометки и замечания, пово-
димому, сделанные после перечитывания выписок, потому что
чаще, сделав выписку, вслед за сим, на том же листке Кон-
стантин Дмитриевич излагал свои впечатления от прочитанного,
опровержения, родившиеся вопросы и т. п. На четвертушке
обыкновенно помещались выписки
только из одной какой—
нибудь книги. Наверху, в правом углу четвертушки Константин
Дмитриевич делал заголовок, указывающий, к какой главе
«Антропологии» он относит данную выписку. Иногда встречает-
ся несколько заголовков (напр., воля, внимание и т. д.). Сличе-
ние этих пометок в рукописи, относившихся к I и II тому «Антро-
пологии», с печатным текстом, обнаруживает, что иногда, оче-
видно, уже во время самой работы, он пользовался выпиской
совсем не там, где предполагал, когда
делал выписку.
При разборе заметок Константина Дмитриевича надо было
отобрать те из них, которые можно было считать относящимися
632
к материалам для неизданного III тома «Антропологии».
При этом часть их отпадала по следующим соображениям:
1) часть выписок, притом значительная, была использована
Константином Дмитриевичем при составлении двух первых
томов, где они приведены с указанием сочинения, из которого
взяты; 2) другая часть выписок также, судя по содержанию
их, относящихся к I и II томам, не вошла однако в печатный
текст этих книг; весьма возможно, что Константин
Дмитриевич
воспользовался бы ими так или иначе для III тома, и это обязы-
вало решать с некоторой осторожностью вопрос, что из этих
заметок вносить в число материалов для III тома. Из этих выпи-
сок некоторые представляют переводы отрывков из таких со-
чинений, которые уже после смерти Константина Дмитриевича
целиком переведены на русский язык. Мы поэтому не считали
нужным перепечатывать их в настоящем издании, так как цель
последнего ввести читателя в круг идей Ушинского, а не
тех
мыслителей, которых он читал, как бы почтенны они ни были.
Педагог, желающий познакомиться со взглядами Милля, Спи-
нозы, Бенеке и др., ныне имеет возможность обратиться к их
сочинениям и едва ли удовлетворится выписками из них, сде-
ланными Константином Дмитриевичем. Но если выписка из этих
писателей сопровождалась заметкой Константина Дмитриевича,
то она сохранялась для настоящего издания; 3) среди этой же
категории выписок, т. е. таких, относительно которых трудно
было
сказать, что они относятся к III тому, встречались отрывки
из сочинений, не переведенных на русский язык, причем эти
отрывки были бее всяких заметок Константина Дмитриевича.
В некоторых из них мысль автора выражена так ясно и опреде-
ленно, а иногда — живо и образно, что невольно являлось же-
лание популяризовать ее среди читателей-педагогов; оно сдер-
живалось сомнением: уместно ли такое популяризирование в
настоящем издании, и в тех случаях, когда нам казалось, что
данная мысль
или ее выражение нравились Ушинскому или
она могла пригодиться ему для III тома, мы сохраняли ее
для печати.
Сличение рукописных листков, содержащих материалы для
первых двух томов «Антропологии», с соответствующими ме-
стами в печатном тексте дает возможность представить себе, как
работал Ушинский. Не все выписки он вносил в текст целиком,
нередко он излагал их своими словами; встречал такую переда-
чу, можно составить себе понятие, с каким уважением относился
Константин
Дмитриевич к чужим мнениям, хотя бы и считал их
ошибочными. Сличение обнаруживает, что он не хотел излагать
воззрений авторов по памяти, а так сказать, держал их слова
перед глазами, чтобы неловким оборотом речи, неудачно вы-
бранным словом не извратить смысла учения даже противника.
Особенный интерес представляют заметки самого Ушин-
ского. Они имеют цену и для настоящего времени, не говоря уже
о том интересе, какой они могут иметь для биографа Констан-
633
тина Дмитриевича и для историка педагогической литературы.
Ушинский, очевидно, не предназначал их для печати, писал
для себя, нередко не стесняясь формой, и это усугубляет их
интерес. Эти заметки то же, что этюды в работе художника.
Сделав выписку и снабдив ее своей заметкой, Ушинский брался
за чтение другого сочинения, мысль его продолжала работать,
возникали новые точки зрения, принимались во внимание новые
факты, новые соображения, и когда
Ушинский садился писать,
имея уже план работы в голове, первоначальная заметка явля-
лась в иной обработке.
Константину Дмитриевичу не было нужды располагать
листки со своими заметками в порядке, который указывал бы
последовательность чтения их. Для розыска нужных ему для
работы листков служили заголовки вверху страницы. Необхо-
димость расположить их в порядке явилась только тогда, когда
пришлось подготовлять их для посмертного издания в качестве
материалов, подготовлявшихся
Константином Дмитриевичем
для III тома его «Педагогической антропологии». Опреде-
лить, в каком порядке следует дать их в печати, было нелегко.
Мы предполагали сперва расположить их по авторам, а авторов
разместить в хронологическом порядке, но при этом оказалось,
что следить за развитием мыслей самого Ушинского будет
трудно.
Естественно являлась мысль попытаться расположить ли-
стки в таком порядке, чтобы читателю легче было уследить за
ходом мысли Ушинского, а на самые выписки
из различных
авторов взглянуть лишь с той стороны, насколько они дали по-
вод Ушинскому высказаться. Но и эту мысль провести последо-
вательно было крайне трудно.
Читающий предлагаемую книгу должен постоянно помнить,
что имеет перед собой материалы, только материалы. Так и мы
смотрели на заметки Ушинского, подготовляя их к печати. Мы
сохранили заголовки на листках, недописанные фразы, заме-
чания Ушинского о необходимости достать книгу, прочесть,
сверить перевод и пр., местами
своеобразный язык наскоро де-
лаемых заметок, когда мысль перегоняет пишущую руку и
некогда подыскивать подходящее слово, да и не к чему, потому
что запись предполагает единственного читателя — самого пи-
шущего… Впрочем, в редких случаях мы давали в подстрочном
примечании или более литературно обработанный перевод или
свое изложение мысли Ушинского, как мы ее поняли. Кое-что
в рукописи Ушинского разобрать было крайне трудно; мы сове-
товались с разными лицами и, благодаря им,
а главным образом
А. И. Введенскому, осталось лишь немного слов, в правильном
прочтении которых у нас нет полной уверенности.
Сличение рукописных заметок с печатным текстом, которое
было возможно сделать относительно материалов для I и II
томов «Антропологии», дает право предполагать, что и печатае-
мые ныне материалы для III тома были бы использованы
634
Ушинским с той же тщательностью, какую он обнаруживал во
всех своих работах, явились бы обработанными с той художе-
ственной ясностью и точностью языка, с какими мы привыкли
встречаться в его печатных трудах. Чувствуется глубокое сожа-
ление, что судьба не дала Ушинскому возможности самому обра-
ботать и подготовить к печати III том, которого в свое время
с таким нетерпением ждали русские педагоги.
А. Острогорский.
3. ОГЛАВЛЕНИЕ «МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ III ТОМА
«ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ», ИЗДАННЫХ
А. Н. ОСТРОГОРСКИМ
Глава I. Свобода воли. 1. О свободе. Кант. Дробиш.
2. Свобода. Лейбниц. (Дробиш). 3. Рассудок. Причина. Врож-
денность идеи причины. Свобода воли. 4. Свобода воли. 5. Испол-
нение. Свобода воли. Самообладание. Совесть. Самосознание.
6. Исполнение. Свобода воли. Самообладание. Совесть. Само-
сознание. 7. Самообладание и свобода воли. Рассудок. Теория
Гербарта. 8. Свобода воли. 10—И. Исполнение. Воля (Бенеке
и
мое). 12—14. Исполнение и свобода воли. Дробиш и мое мне-
ние. 15. Гипотеза души. 16. Свобода. 17. Свобода воли. 18. Сво-
бода. 19. Этика Аристотеля. Воля. Исполнение. Свобода. 20.
Исполнение. Усилие. Материализм. Исполнение. Сила. Мнение
Гершеля, Идея силы, идея причины взяты из психического мира
и перенесены на физический. 21. Кетле. Свобода воли. 22. Кет-
ле. К воле. К прогрессу. Врожденность человеку человеческого
идеала. Средний человек. 23. О свободе воли. Дух. Бокль. 24.
Бокль.
Свобода воли. 25. О свободе воли Бокля (вып. из Кан-
та). 26—27. Свобода воли. Моральная статистика. Дробиш.
28. Исполнение. Воля. Свобода воли. 29. Эйлер о свободе воли.
Глава II. Стремление к совершенству. 1—2. Стремление
к совершенству. 3. Стремление к совершенству (его извращения).
Самолюбие. 4. Самолюбие (стремление жить). Нежность. 5—6.
Стремление к совершенству (соперничество). 7. Стремление к
совершенству (гордость). Броун. Тщеславие. 8. Стремление к со-
вершенству (гордость,
тщеславие, смирение). (Броун). 9—10.
Стремление к совершенству. Его извращение (честолюбие).
11. Стремление к совершенству. Его извращение (зависть, сорев-
нование). 12. Стремление к совершенству. Его извращения
(злоба). Бенеке. 13. Стремление к совершенству. Его извраще-
ние (злоба). Бенеке. 14. Стремление к совершенству. Его извра-
щение (властолюбие). 15. Стремление к совершенству (чувство
справедливости). 16. Идея справедливости.
Глава III. Этика и право. 1. Предисловие (Тренделен-
бург).
Нравственность. 2. Этика Аристотеля. Добродетель. 3.
Нравственность (Броун). 4. Нравственность (Спиноза, Кант).
635
5. Нравственность (Кант). (Тренделенбург). 6. Нравствен-
ность. Ее целость. 7. Нравственность. Бенеке. 8. Совесть. Мне-
ние Адама Смита. 9. Стремление к добру. Совесть. (Броун).
10. Нравственность. Чувства ее. Совесть. Самообладание.
11. Нравственность. Ее воспитание. (Дробиш). 12—13. Нрав-
ственность. Совесть. 14. Совесть. Ее врожденность. Врожден-
ность внутреннего чувства. Внутреннее чувство. (В главу вообще
о чувстве). 15. Совесть. Ее врожденность.
16. Прирожденность
способностей. Френология. 17. К чувству. Развивается ли нрав-
ственность. Кетле; Бокль. Добродетель. 18. Нравственное вос-
питание (Бенеке). 19. Нравственность. Совесть. 20. Нравствен-
ность. Совесть. Постепенное развитие ее у детей. 21. Рождение
нравственных понятий. 22. Нравственное учение должно быть
более делом, чем словом. 23. Воспитание нравственности. Аристо-
тель. Платон. Наказание. 24. Нравственность. 25. Стыд. Нрав-
ственное воспитание (Бенеке). 26.
Раскаяние. 27. Стремление к
истине. 28. Рассудок (Локк). Справедливость. 29. Стремление к
истине. 30. Детская ложь. 31. Стремление к обществу и к уеди-
нению. 32. Любовь. Самолюбие. Семейный эгоизм. Любовь к
отечеству. 33. Общество — его отношение к индивидуальной
душе. 34. Нравственное воспитание (Бенеке). Идея собствен-
ности. 35. Идея собственности. 36. Этика Аристотеля. Честолю-
бие. 37. Идея человека. Его высокое назначение (Броун). 38.
Чувство доброты. Аристотель. 39. Сострадание
и сорадостие.
Чувство права (Броун).40. Сострадание (Аристотель). 41. Этика
Аристотеля. Стремление к благу. 42. Этика Аристотеля. Стрем-
ление к счастью. Стимулы человеческих действий. 43. Этика
Аристотеля. Стремление к счастью. Цель воспитания.
Глава IV. Эстетическое чувство. 1. Эстетическое чув-
ство. 2. Эстетические чувства. 3. Эстетическое чувство. 4. Эсте-
тическое чувство. 5. Эстетическое чувство. 6. Эстетическое чув-
ство. 7—8. Эстетическое чувство. Бенеке и мое. 9. Эстетические
чувствования.
Диттес. 10—11. Эстетическое чувство. Его вос-
питание. (Мое). 12. Эстетическое образование. 13. Искусствен-
ное и естественное. 14. Чувство красоты. 15. Эстетическое чув-
ство. Музыка. 16. Ощущение слуха. Музыкальный слух. Эсте-
тическое чувство.
Отношение эстетического чувства к морали. 1. Идея нрав-
ственности и эстетическое чувство. Гербарт. Из Тренделенбур-
га. 2. Идея нравственности и эстетическое чувство (Гербарт.
Взято из Тренделенбурга). 3. Идея права. Идея нравственности
и
эстетическое чувство (Гербарт, Тренделенбург). 4. Нравствен-
ное и эстетическое (Гербарт). 5. Нравственное и эстетическое
чувство есть инстинкт человечества. 6. Эстетическое чувство —
отношение к морали.
Глава V. Вера. 1. Вера. Врожденность верований. 2.
Врожденность идеи. 3. Сомнение. Скептицизм. Необходимость
веры. 4. Вера в разумность мира (Броун). Вера в науке. 5. Вера
движет науку. 6. Удивление. Религия. 7. Вера в бога. 8. Хри-
636
стианство. 9. Вера. Сущность христианства. 10. Воспитание
религии (также философии). Бенеке. 11. Вера, уверенность.
12. Страх. Религия.
Глава VI. Педагогика. 1. Предисловие. Нравственность.
Цель воспитания (Бенеке). Воспитание — искусство. 2. Преди-
словие. Цель воспитания. Бенеке. 3. Внешние чувства. Упраж-
нение чувств внешних. 4. Педагогическое приложение главы
об ощущениях. Наглядное обучение. 5. Любознательность. 6.
Воспитание внимания.
7. Труд. 8. Рассудок. Геометрия. Есте-
ственные науки. География окружающего. Расположение наук.
9. Учение географии. 10. Учение чтению. 11. Чтение детей. 12.
Язык. 13. Психологический язык. О слове. Душевные движе-
ния. 14. Изучение языка. 15. Нравственность. Локк. 16. Рас-
судок. Педагогические приложения. 17. Рассудок. Формальное
развитие вообще. 18. К рассудку. Изучение иностранных язы-
ков. 19. Физическое воспитание. Гимнастика. Платье. Сон. 20.
Телесные наклонности. 1-е
педагогическое приложение о чув-
ствовании. 21. Исполнение. 22. Отрочество. 23. Половые стрем-
ления. 24. Тиранство и сладострастие. 25. Предисловие. Знание
людей (или к Канту, где он говорит о страстях). 26. Материализм.
Сострадание и зависть. 27. Детская щедрость. 28. Дух критики
в воспитании (гнев). 29. Ложь. 30. Третье педагогическое при-
ложение страстей. Любовь к наставнику. 31. Упрямство. 32.
Страх и смелость. 33. Привычки. Локк. 34. Награды и наказа-
ния (Бенеке). 35.
Наказания. 36. «Детский мир» и «Родное
слово».
Глава VII. Язык. 1—2. Язык. Его происхождение (тео-
рия Бенеке). 3—7. Образование языка (из Лотце). 8. Разделе-
ние устных звуков (Мюллер). 9. Рассудок. Язык. Развитие рас-
судка изучением языка. 10. Образование языка. (Мое мнение).
11. К рассудку. Язык и суждения. 12. Язык. Вообще о чувство-
ваниях и их разделение. Аффекты. Название чувствований.
Вундт. 13. Изучение чуждых языков.
4. ПЕРЕЧЕНЬ ХРАНЯЩИХСЯ В АРХИВАХ РУКОПИСЕЙ
УШИНСКОГО
К «ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
АНТРОПОЛОГИИ»
Оставшиеся после К. Д. Ушинского черновые рукописи и
выписки к «Педагогической антропологии» долгое время хра-
нились неопубликованными в его семейном архиве, несмотря на
неоднократные просьбы об этом со стороны ряда лиц, заинтере-
сованных содержанием литературно-педагогического наследства
великого русского педагога. «Нас удерживало то, объясняли
члены семьи К. Д. Ушинского, что в оставшихся рукописях
нет ничего законченного и приготовленного
к печати». В 1908 г.
впервые был опубликован однакоже том под заглавием «Собра-
ние неизданных сочинений К. Д. Ушинского», в котором на-
637
ряду с биографическими материалами были напечатаны и мате-
риалы к III тому «Педагогической антропологии». К разбору
этих материалов был привлечен А. Н. Острогорский. Судя по
написанному им предисловию к этому тому,ему было предостав-
лено — а) отобрать из заметок Ушинского те, «которые можно
было считать относящимися к материалам для неизданного
III тома «Антропологии», б) расположить их «в порядке, ко-
торый указывал бы последовательность
чтения их» (см. выше,
стр. 631, 633). Таким образом избранные и сгруппированные
А. Н. Острогорским отрывки составили первую группу мате-
риалов «Педагогической антропологии», ставшую известной
читателям. В 1920 г. младшая дочь К. Д. Ушинского, Надежда
Ушинская, пожертвовала в Архив Института литературы Акад.
наук СССР («Пушкинский дом») все хранившиеся у нее руко-
писные материалы ее отца, и когда в 1945 г. они стали до-
ступными для пользования, выяснилось, что количество руко-
писей,
относящихся к «Педагогической антропологии» и к
III тому, в частности, гораздо богаче. Таким образом оказа-
лась в наличности и вторая группа материалов к «Педагогиче-
ской антропологии» Обзор этих материалов целесообразнее
всего произвести применительно к каждой из этих групп в
отдельности.
А. Рукописи, перепечатанные в 1908 г.
А. H. Острогорским в изданном им «Собра-
нии неизданных сочинений Ушинского».
Рукописи эти хранятся в 6 конвертах в виде четвертушек
бумаги, заполненных
по определенному плану К. Д. Угаинским
иногда полностью, иногда только частично. Группировка руко-
писей по конвертам принадлежит А. H Острогорскому, возмож-
но, в сотрудничестве с А. Ф. Фролковым. Рукописи хранятся
в том порядке, в каком они использованы Острогорским для
своего издания, под следующими шифрами архива «Пушкин-
ского дома»:
1. ф. 316 № 27 — Педагогика.
2. ф. 316 № 24 — Вера.
3. ф. 316 № 32 — Эстетические чувства.
4. ф. 316 № 30 — Свобода воли и Стремление
к совершен-
ству (два конверта).
5. ф. 316 № 31 —Этика и право (вместе с этим конвертом в
папке под этим же номером хранится 87 отдельных листков раз-
нообразного содержания, не вошедших в число отобранных
Острогорским материалов. Поэтому папка под № 31 будет ука-
зана и в дальнейшем перечне Б.
638
Б. Рукописи К. Д. Ушинского, относя-
щиеся к «Педагогической антропологии»,
но не вошедшие в изданные Острогор-
ским материалы.
Рукописи эти легко распадаются на два разряда: а) большое
количество исписанных Ушинским четвертушек бумаги, которые,
очевидно, были самим Острогорским отложены как не относя-
щиеся к III тому; б) ряд тетрадей, исписанных Ушинским и пред-
ставлявших собой частью выписки, частью черновые наброски
разных глав
I и преимущественно II тома. Весьма возможно,
что именно эти тетради почему-либо не были показаны
Острогорскому; если же и были показаны, то он не обратил на
них своего внимания. Однакоже как в неиспользованных
четвертушках, так равным образом и в тетрадях заклю-
чалось большое количество материалов, непосредственно пред-
назначенных для III тома.
а) Четвертушки, не использованные А. Н. Острогорским в
изданных им материалах для III тома.
Они расположены без твердо стабилизованного
порядка
в следующих пяти папках, имеющих каждая свое особое наиме-
нование по заголовкам первых вложенных в них отрывков:
6. ф. 316 № 25 — Материалы к сочинению «Человек как
предмет воспитания» — чувствования и воля (1—36 ЛЛ.).
7. ф. 316 № 26 — Материалы к сочинению «Человек как
предмет воспитания» — материализм, сострадание, зависть,
щедрость, ложь (1—36 лл.).
8. ф. 316 № 28 — Материалы к сочинению «Человек как
предмет воспитания» — печаль и радость, врожденные идеи,
индукция,
рассудок (1—81 лл.).
9. ф. 316 № 29 — Материалы к сочинению «Человек как
предмет воспитания» — рассудок, суждение, логика, язык (1—’
36 лл.).
10. ф. 316 № 31 — Материалы к сочинению «Человек как
предмет воспитания» — труд и отдых, сознание, идея, чувство
(1-87 лл.).
Всего таким образом в пяти папках 271 листок.
б) Тетради с выписками и черновыми главами «Педагогиче-
ской антропологии»
11. ф. 316 № 69— «Записная книжка» малого формата в
восьмую долю листа (лл. 1—81)
содержит в себе выписки из
Бэна, Бенеке, Дробиша, Рида, Вайтца и других авторов с ком-
ментариями и заметками самого Ушинского.
12. ф. 316 № 17 — «Внутренние чувства или чувствова-
ния». Большая переплетенная тетрадь в четвертушку (лл. 1—
639
94) с выписками из Бэна, Бенеке и др., сопровождаемыми заме-
чаниями Ушинского.
13. ф. 316 № 19 — «О чувствах». Тетрадь в четвертушку,
переплетенная: лл. 1—103 — черновые записи первой и вто-
рой глав II тома; лл. 103 об.—107 — подробная наново со-
ставленная программа первых 4 глав II тома; л. 107 об. —»
116 об. под заглавием «Замечания патологические», выписки из
книг по патологии.
14. ф. 316 № 20— «О душевных чувствованиях». Переплет
те
иная тетрадь в четвертушку: лл. 1—105 — ряд глав II
тома: чувства органические и душевные, чувства умственные
и сердечные.
15. ф, 316 № 21 — «О душевных стремлениях». Переплетен-
ная тетрадь в четвертушку (лл. 1—92) заключает в себе три чер-
новых главы ко 11 тому.
16. ф.316 № 23 — «Чувственные состояния, наклонности и
страсти». Переплетенная тетрадь в четвертушку: лл. 1—68 —
черновые главы ко II тому.
17. ф.316 № 22 — «Педагогические приложения». Перепле-
тенная тетрадь
в четвертушку, в которой лл. 1—61 заполнены
двумя главами приложений к главам о чувствованиях. Главы
эти целиком относятся к III тому.
18. ф.316 № 18 — «О внимании». Переплетенная тетрадь
в четвертушку, в которой заполнены трактатом о внимании лл.
1—105. Глава написана сплошь карандашом и относится к
I тому «Антропологии». Но в таком виде она не вошла в I том
и не совпадает с статьей о внимании, напечатанной Ушинским
в «Журнале министерства просвещения» в 1860 г. (см. Собр.
соч.,
т. II, стр. 362).
5. ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНОЙ (ФИЛОСОФСКОЙ,
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ)
ЛИТЕРАТУРЫ, ИСПОЛЬЗОВАННОЙ К. Д. УШИНСКИМ
В ТРЕХ ТОМАХ «ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ»*
А. Литература на русском языке (ориги-
нальная и переводная)
1. Аристотель, Политика, т. X, стр. 529.
2. Бернар Клод, Введение в опытную медицину, 1866, пе-
рев. Страхова, т. VIII, стр. 65, 269, 335, 399, 486, 555, 567,
596, 651; т. X, стр. 56, 204.
3. Бокль Г. Т., История цивилизации в Англии, т.
IX, стр.
87, 227, 228; т. X, стр. 179.
4. Брэм А., Жизнь животных, СПб., 1866, т. VIII, стр. 464.
5. Буслаев Ф. И., О преподавании отечественного языка,
М., 1844, т. VIII, стр. 674, 675.
. * Томы и страницы указаны по настоящему изданию.
640
6. Владиславлев М. И., Современные направления »
науке о душе, СПб., 1866, т. VIII, стр. 46.
7. Герман Л., Учебник физиологии (ред. И. Сеченова), т. VIII,
стр. 82, 90, 105, 106, 108, 109, 112, 117, 119, 120; т. IX, стр.
145, 146.
8. Дарвин Ч., О происхождении видов, т. VIII, стр. 216;
т. IX, стр. 363, 365—371, 373, 375-377, 379.
9. Даль В. И., Пословицы русского народа, т. IX, стр. 229.
10. Диттес, Практическая педагогика (перев. Паульсона),
1869,
т. IX, стр. 461.
11. Льюис Дж. Т., Физиология обыденной жизни, т. VIII,
стр. 190, 216, 236.
12. Льюис Д. и Милль Д., О. Конт, 1867, т. VIII, стр. 543,
659; т. X, стр. 583.
13. Пирогов Н. П., Вопросы жизни, т. X, стр. 372.
14. Платон. О законах, т. X, стр. 598.
15. Фогт К., Физиологические письма, СПб., 1864, т. VIII,
стр. 153; т. IX, стр. 71, 455.
16. Шванн Теодор. Анатомия человеческого тела, т. VIII,
стр. 99—101, 114, 115, 155г 159, 166—168, 171, 172, 174;
t. IX,
стр. 144, 146.
Б. Литература на иностранных языках
17. Aristoteles, De Anima, 1829, т. VIII, стр. 119, 123, 124,
130, 264, 327, 328, 334, 406, 523; т. IX, стр 24.
18 Aristoteles, Rhetorica, т. IX, стр. 177, 185, 197г 193,
206, 208, 211, 225, 231, 232, 238.
19. Aristoteles, Metaphysik, 1829, т. VIII, стр. 572, 594;
т. IX. стр. 297.
20. Aristoteles, Nicomachische Ethik, т. IX, стр. 172,417,
490, 491; т. X, стр. 279, 283, 289, 597.
21. Aristoteles, De Sensu et Sensibili.
1833. т. VIII, стр. 326.
22. Aristotels (frei Bücher der Rede ===== (übersetzt von Stahr. A.),
т. X, стр. 281.
23. Bacon, Nouvel Organum, i. VIII, стр. 481, 482, 483, 560,
567, 571, 579, 582, 583, 585, 593. 604, 626.
24. Bacon, Dignité et accroissement des sciences, т. VI II,стр. 560.
25. Bain, The Emotion and the Will, т. VIII, стр. 142, 163, 171;
240, 250,304-306,310, 311, 316, 376; т. IX, стр. 21, 25, 26,27,
61, 72, 77, 113, 117, 127, 133, 136, 137, 139, 156, 160, 161,
164,
178, 179, 180, 187, 190, 197, 198, 202, 212, 217, 219, 221,
223, 225, 227, 278, 282, 283, 285, 331, 338, 398, 417, 420. 421;
т. X, стр. 60,141, 147, 150, 154, 169, 171, 173, 201, 221, 256,
265, 300—302, 307, 315, 317, 323, 334, 342, 351, 375, 562, 591.
26. Bain, The Senses and the Intellect, т. VI И, стр. 144, 155,
156, 174, 498, 501, 639; т IX, стр. 27, 136, 330, 401, 455;
т. X, стр. 70, 141, 142, 430, 454.
27. Benecke Fr., Erziehung’s und Unterrichtslehre, т. VIII,
стр. 91,
285,296, 297, 299,300, 302, 354,370, 379, 380, 381,386,
641
401, 402, 439, 443, 461, 464, 535; т. X, стр. 60, 63, 65, 91, 109,
166, 259, 291, 313, 318, 326, 346, 371, 410, 412, 426, 429, 457,
477, 480, 482, 486, 490, 494, 502, 509, 515, 523, 525, 528, 575,
577, 590, 593, 595, 599, 612.
28. Benecke, Grundlinien des Naturrechts, т. X, стр. 314.
29. Benecke, Grundlinien der Sittenlehre.
30. Benecke, Lehrbuch dor Psychologie, т. VIII, стр. 238, 280,
313, 444, 457, 465, 467; т. IX, стр. 20, 39, 41, 42, 164,
165,
295, 351, 406, 407, 429, 440; т. X, стр. 15, 254, 261, 483, 501.
31. Bertho und Marenholtz, Die Arbeit und die neue
Erziehung nach Froebels Methode, Berlin, 1866, т. IX,
стр. 247.
32. Bormann, Vorträge über Erziehung und Unterricht, т. X,
стр. 502.
33. Botsteten, Briefe an Matthisson, Zürich, 1827, т. X,
стр. 169.
34. Braubach, Psychologie des Gefühls, 1847, т. VIII, стр.
500; т. IX, стр. 203.
35. Brown, The lectures on the Philosophy of the human Mind,
London,
1860, т. IX, стр. 94, 95, 112, 120, 121, 122, 134,
139, 154, 183, 198, 202, 212, 264, 276—278, 477, 482, 486;
т. X, стр. 259.
36. Brown, On Cause and Effect, т. X, стр. 157.
37. Carus С., Vorlesungen über die Psychologie, 1831, т. VIII,
стр. 89; т. IX, стр. 102, 103, 106.
38. Cicero, De offieiis, т. IX, стр. 44, 237; т. X, стр. 602.
39. Comenius J. A., Orbis Pictus, т. X, стр. 434.
40. Chomel, Eléments de pathologie générale, Paris, 1861,
т. VIII, стр. 205, 221, 237, 263;
266; т. IX, стр. 103.
41. Currie, The principles of common School Education, Edinb.,
1862, т. VIII, стр. 227; т. X, стр. 382, 395. 427.
42. Descartes, Oeuvres, 1875, Discours de la méthode, т.
VI IL стр. 17, 185, 273, 422; т. IX, стр. 287, 289, 290.
43. Descartes, Les passions de l’âme, т. IX, стр. 20, 21, 23, 24,
127, 154, 185, 198, 199, 211, 275, 279, 544.
44. Descartes, Réponses aux sixièmes objections, т. VIII,
стр. 185.
45. Dittes, Das Aestatische nach seinem eigentümlichen
Grund-
wesen und seiner pädagogischen Bedeutung, Leipz., 1854,
T IX, стр. 165; т. X, стр. 15, 254.
46. Drbal, Empirische Psychologie, т. IX, стр. 349.
47 Dressler, Ist Benccke Materialist?, т. VIII, стр. 281.
48. Drobisch, Empirische Psychologie, 1842, т. Vi II, стр. 223,
323 347, 370, 403, 442, 460, 518, 635; т. IX, стр. 213; т. X,
стр. 82. 412.
49. Drobisch, Moralische Statistik und die menschliche Wil-
lensfreiheit, 1867, т. IX, стр. 48; т. X, стр. 159,188,190,
196,
289.
642
50. Eiler L., Lettres, т. VIII, стр. 270, 298, 307, 308,368,458,
535, 538, 541, 542, 654; т. IX, стр. 50, 246; т. X, стр. 91, 138,
139, 577.
51. Erdmann, Psychologische Briefe, 1863, т. VIII, стр. 365,
385; т. IX, стр. 191; т. X, стр. 418.
52. Erdmann, Grundriss der Psychologie, 1862, т. IX, стр. 213,
355.
53. Fechner, Elemente der Psychophysik, т. VIII, стр. 92, 124,
162, 177, 181, 247, 249, 259, 286, 287, 289, 290, 292, 293—295:
т.
IX, стр. 60, 318—320, 323,, 325, 328.
54. Fechner, Über die physikalische Atomenlehre, т. VIII,
стр. 532, 535, 536.
55. Fichte H., System der Psychologie, т. VIII, стр. 235, 256,
257, 320, 347, 364, 487.
56. Fortlage, System der Psychologie, 1855, т. VIII, стр. 367,
400, 410, 500, 547; т. IX, стр. 52—56, 66, 162.
57. Fries, Psychologische Anthropologie, т. VIII, стр. 98, 188,
202, 205, 314, 335, 442.
58. Ganot, Traité élémentaire de physique, т. VIII, стр. 530.
59. Geiger,
Ursprung und Entwickelung der menschlichen
Sprache und Vernunft, т. VIII, стр. 453; т. X, стр. 114.
60. Grisolle, Traité de pathologie interne, Paris, 1852,
т. VIII, стр. 263; т. IX, стр. 104, 105; т. X, стр. 477.
61. Hegel, Werke, 1845, т. VIII, стр. 341, 347; т. IX, стр. 213.
62. Hegel, Philosophie des Geistes, т. IX, стр. 23, 45, 190, 196,
429; т. X, стр. 618.
63. Hegel, Wissenschaft der Logic, т. VIII, стр. 469.
64. Hasse, Handbuch der Pathologie, т. VIII, стр. 130.,
65.
Helmholtz, Über die Wechselwirkung der Naturkräfte,
1854.
66. Herbart, Schriften zur Psychologie, т. VIII, стр. 321, 383,
384, 408, 409, 418, 434, 451; т. IX, стр. 28, 29, 340, 342, 344;
т. X, стр. 63, 92.
67. Herbart, Lehrbuch der Psychologie, т. VIII, стр. 268, 282,
303; т. IX, стр. 20, 36, 41, 72, 85, 95, 114, 213, 253, 278, 299,
416, 417, 419; т. X, стр. 540, 550, 619.
68. Herbart, Allgemeine practischo Philosophie, т. X, стр. 163,
270.
69. Herbart, Einleitung in die
Philosophie, т. X, стр. 64, 202,
270.
70. Herbart, Practische Philosophie und die Ethik der Alten,
von Trendelenburg, 1856, т. л, стр. 278.
71. Herbart, Philosophische Abhandlungen der königlichen
Akademie der Wissenschaft zu Berlin, 1856, т. X, стр. 253,
254, 278.
72. Herschel John, Treatise on Astronomy, т. VIII,
стр. 549; т. X, стр. 157.
73. Hume, Essays and Treaties, Edinb-, 1793, т. VIII, стр. 452;
т. X, стр. 252.
643
.74. Hutcheson, Inquiry into original of our ideas of beauty
and virtue, Lond., 1746, т. X, стр. 251.
75. Jessen, Versuch einer wissenschaftlichen Begründung der
Psychologie, Berlin, 1855, т. VIII, стр. 249.
76. Kant, Kritik der reinen Vernunft, т. VIII, стр. 280, 443, 496,
497, 665; т. IX, стр. 495, 500; т. X, стр. 62, 185.
77. Kant,, Metaphysik der Sitten, т. X, стр. 185.
78. Kant, Prolegomena zu jeder künftigen Metaphysik, т. X,
стр.
185.
79. Kant, Rechtslehre, т. VIII, стр. 358, 372; т. X, стр. 449.
80. Kant, Kritik der practischen Vernunft, т. IX, стр. 492,
499, 500.
81. Kant, Anthropologie, 1838; т. VIII, стр. 228, 250, 314, 607;
т. IX, стр. 20, 23, 26, 96, 97, 247, 270, 278, 281, 411, 477, 547,
548, 557; т. X, стр. 541, 542, 547, 549, 551, 554, 561, 565,
569, 572.
82. Leibnitz, Opera philosophica (Ed. Erdmann), т. X,
стр. 196.
83. Lewes, The Physiology of common Life, т. VIII, стр. 173,175.
84.
Locke, Philosophical Works, т. VIII, стр. 181, 205, 260,
262, 271, 272, 279, 308, 309, 315, 443, 446, 452, 496, 514, 515,
524; т. IX, стр. 96.
85. Locke, On the Conduct of the Understanding, London, 1859,
т. VIII, стр. 310, 367, 396, 405, 444, 446, 473, 496, 510, 514,
524, 541, 569, 576; т. IX, стр. 120,187, 201, 246; т. X, стр. 78,
222 223 400.
86. Lotze, Microkosmos, т. VIII, стр. 334, 497, 503, 630,
649; т. X, стр. 102, 212.
87. Malebranche, Oeuvres, 1854, т. IX, стр. 24.
88.
Mill James, Fragment on Mackintosh, т. X, стр. 341.
89. Mill’s John, Logic, т. VIII, стр. 13, 52,280,311,313,319,
331, 453, 454, 468, 469, 472, 475, 477, 478, 513, 518, 531,
537, 538, 541, 548, 553, 554, 558, 559, 561, 562, 568, 570—572,
585, 586, 592, 603, 606; т. IX, стр. 19, 20, 27, 64, 254, 330, 436,
438-499, 502, 504; т. X, стр. 75, 76, 92, 194, 196, 193, 233,
238, 245, 247—249, 287, 355, 366, 618, 619.
90. Moleschott, Circulation de la vie, т. IX, стр. 455.
91. Montaigne,
Les essais, т. X, стр. 309.
92. Morel, Elements of Psychologie, т. VIII, стр. 380.
93. Müller I., Manuel de Physiologie, 1845, т. VIII, стр. 65, 66,
84,92,98,103,105,110,117,118,123-125,134,135,139,140,142,
143, 148, 150, 157, 161, 176, 179, 180, 184, 197, 199, 218, 233,
283, 248, 260, 270, 284, 287, 294, 295, 314, 322, 325, 342, 344,
417, 464, 499; т. IX, стр. 19, 49,113,129, 130, 140, 144, 145,
147, 219, 441, 442; т. X, стр. 114,117, 224.
94. Necker-de-Saussure, L’éducation
progressive, т. VIII,
стр. 352, 357, 385, 387, 430, 446; т. X, стр. 413, 417, 426, 576.
95. Palmer, Evangelische Pädagogik, 1862, т. X, стр. 478, 494,
501, 502.
644
Об. Platon, Théetètc ou de la science, т. VTH, стр. 490, 526.
97. Platon, Pliilèbe ou du plaisir, т. IX, стр. 172,174, 315, 343>
489.
98. Piderit, Gehirn und Geist, т. VHI, стр. 65.
99. Price Rich, Review of the principal questions and dif-
ficulties in morals, 1758, т. X, стр. 251.
100. Quetelet, Sur l’homme et le développement de ses facul-
tés, Paris, 1833, т. IX, стр. 64; т. X, стр. 177, 289.
101. Raue, Benecke’s neue Seelenlehre, т.
Vlll, стр. 238, 296,
314, 367, т. IX, стр. 39, 42.
102. Read, The Works, 1863, т. VIII, стр. 106, 201, 207, 218,
219, 225, 227, 320; т. IX, стр. 48, 49, 80, 157, 188, 198, 201,
530.
103. Rosenkranz, Psychologie, т. IX, стр. 191, 195.
104. Rousseau, Emile, т. Vlll, стр. 65, 228, 236, 444, 469, 516,
645, 651; т. IX, стр. 89, 121, 131, 138, 209, 247, 496; т. X, стр.
137, 156, 206, 264, 309, 310, 317, 319, 325, 360, 369, 401, 449—
452, 496, 502, 511, 515, 540, 574, 575, 577, 579,
594—596,
601,603—606, 611, 614, 619, 620—622.
105. Saint-Augustin, La cité de Dieu, т. IX, стр. 558.
106. Schmidt К., Die Anthropologie, 1865, т. IX, стр. 102;
т. X, стр. 479
107. Schmidt К., Die Wissenschaft von Menschen, т. IX,
стр. 443, 445; т. X, стр. 479.
108. Schnell, Die Streitfrage des Materialismus, т. VIII, стр.
535, 550.
109. Schopenhauer, Über den Willen in der Natur, 1864,
т. Vlll, стр. 282; т. IX, стр. 46, 47, 357, 358, 361, 362.
110. Schopenhauer, Die
Welt als Wille und Vorstellung,
т. Vlll, стр. 500.
111. Schopenhauer, Die beiden Grund problème der Ethik,
т. X, стр. 289.
112. SchuIler, Das Spiel und die Spiele, Ein Beitrag zur
Psychologie und Pädagogik, 1861, т. X, стр. 517.
113. Schwarz und Curtmann, Lehrbuch der Erziehungs-
und Unterrichts-Lehre, т. X, стр. 430. 476, 485.
114. Smith A., The Theory of Moral Sentiments, 1767, т. IX,
стр. 189; т. X, стр. 251, 301.
115. Smith A., Works, v. V, т. IX, стр. 277.
116.
Spencer H., Principles of Psychologic, 1855, т. VIII,
стр. 325, 373; т. IX, стр. 162.
117. Spencer H., Education intellectual, moral and physical,
Loud., 1851; т. Vlll, стр. 637; т. IX, стр. 398; т. X, стр. 68,
423, 436.
118. Spencer, What knowledge is of most worth, т. X,
стр. 436.
119. Spinosa, Ethica, т- VIII, стр. 309; т. IX, стр. 21, 22, 44,
45, 60, 63, 106, 114, 134, 138, 140, 154, 186, 200, 212, 229,
231, 233, 234, 276, 285; т. X, стр. 286.
645
120. Spinosa, De la réforme deTentendement, т. IX, стр. 289,
421. Steffens, Was ich erlebte, т. X, стр. 471.
122. Stewart D. Elements of the Philosophy of the humain
Mind, 1867, т. VIII, стр. 256, 291, 323.
123. Stewart, Active Power, т. X, стр. 302.
124. Stow D., The training system, 1859, т. VIII, стр. 228.
126. Tetens, Philosophische Versuche, 1777, т. VIII, стр. 280.
126. Trendelenburg Herb., Philosoph. Abhandlung, der
Acad. zu Berlin,
1856, т. X, стр. 270, 287, 291.
127. Virchov, Handbuch der speci allen Pathologie, 1855, т.
VIII, стр. 127, 170, 266; т. IX, стр. 104.
128. Volkman, Grundriss der Psychologie, т. VIII, стр. 249,
653; т. IX, стр. 154, 415.
129. Waitz Th., Lehrbuch der Psychologie als Naturwissen-
schaft, т. VIII, стр. 212, 254, 369, 419, 577, 635: т. IX, стр. 19,
20, 21, 29, 31, 34, 35, 36, 38, 41, 214, 242, 259, 260, 296, 340,
343; т. X, стр. 82.
130. Waitz Th., Anthropologie der Naturvölker,
Leipz., 1859,
т. VIII, стр. 73, 74, 75, 85; т. IX, стр. 234.
181. Whewell, Elements of Morality, т. X, стр. 303.
132. Wundt W., Vorlesungen über die Menseben und Thierseele,
т. VIII, стр. 181, 191, 195, 211, 237, 325, 499, 502, 646;
т. IX, стр. 48, 66, 156, 162, 171.
6. ПРИМЕЧАНИЯ*
ОБЩЕЕ ПРИМЕЧАНИЕ О МАТЕРИАЛАХ К III ТОМУ
«ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ»
Третий том «Педагогической антропологии» должен был
быть самой существенной частью этого произведения великого
русского
педагога: первые два тома только подводили читате-
ля к этой третьей части. Совершенно понятен поэтому интерес
к проблеме построения и разработки III’ тома: с такой или
иной его разработкой было связано окончательное оформление
* Ввиду значительного числа отрывков, вошедших в состав
материалов для третьего тома «Педагогической антропологии»,
и естественного неудобства после каждого отрывка отсылать
читателя за библиографической справкой в коней книги, справ-
ки эти даны в самом
тексте, как это указано в разъяснении «От
редакции». В немногих примечаниях даны поэтому только самые
необходимые пояснения к тем или иным разделам третьего тома,
причем в первом, общем примечании «О материалах для
III тома «Педагогической антропологии» изложены основные
данные как о подготовке материалов К. Д. Ушинским, так и о
публикации их после его смерти.
646
всего произведения Ушинского. Первые два тома этого про-
изведения с совершенной определенностью показали, что автор
критически относится к идеализму и к вульгарному материа-
лизму и идет навстречу материалистическому мировоззрению
в разработке основных вопросов элементарной психологии.
В III томе он должен был дать анализ конкретной психологии
человека, тех психических особенностей, которые поднимают
его над животными и которые в особенности
легко истол-
ковать идеалистически. Понятно, что представители идеалисти-
ческого мировоззрения были заинтересованы идеалистически-
ми тенденциями, заложенными в материале этой третьей
части «Антропологии», и обратно, для сторонников материа-
лизма были интересны тенденции материалистические.
Не удивительно, что непосредственно после смерти Ушин-
ского проф. богословия Одесского университета обратился
к жене педагога, Надежде Семеновне Ушинской, с просьбой
предоставить ему
оставшиеся после Ушинского материалы для
III тома с целью вместе с несколькими профессорами универси-
тета отредактировать их для печати. 27 февраля 1871 г. жена
Ушинского писала другу семьи последнего, Я. П. Пугачевско-
му: «Дайте совет, что мне делать с 3-й частью «Антропологии».
В Одессе университетский законоучитель вместе с несколькими
профессорами предлагают взять на себя просмотр. Отдать им,
или кому другому?» Нужно думать, что по совету Я. П. Пуга-
чевского Н. С. Ушинская
отказала профессорам Одесского
университета в их просьбе, сославшись на то, что законченной
рукописи III тома Уши некий не оставил. Желание поработать
над рукописью Ушинского изъявляли и другие лица. Повиди-
мому, через Я. П. Пугачевского жена Ушинского получила ана-
логичное предложение из Петербурга от педагога Классовско-
го, известного в 70-х годах своими работами по педагогике и
психологии. 10 апреля 1871 г. Н. С. Ушинская в своем ответе
на письмо Я. П. Пугачевского писала:
«что касается предложе-
ния Классовского, то надобно подождать с ответом. Прежде все-
го надобно собрать все относящиеся к III-му тому бумаги, руко-
писи, часть которых была оставлена покойным в Киеве». В даль-
нейшем, в процессе переписки выяснилось, что первоначальную
работу над материалами, собранными Ушинским к III тому, изъ-
явил желание произвести бывший личный секретарь и домаш-
ний учитель Ушинского, А. Ф. Фролков. В письме без
даты Н. С. Ушинская писала Я. П. Пугачевскому:
«что касается
до II 1-го тома «Антропологии», то так как Фролков изъявил свое
желание подобрать по главам, за что я ему буду несказанно бла-
годарна, то не может ли он заехать в январе проездом в Екате-
ринодар и мы тут с ним приведем в порядок и препроводим вам,
добрейший Яков Павлович… Я готова поблагодарить Фролкова
денежно, но только надо знать, сколько за это дать. Устройте
это дело и я сердечно буду благодарна». Письмо без даты и воз-
можно, что оно написано уже в конце
1871 г., так как не могла
647
‘ же H. С. Ушинская писать его в 1870 г., до смерти Ушинского.
Таким образом, к концу 1871 г., повидимому, созревал план
поручить распределение оставшихся после Ушинского материа-
лов по главам А. Ф. Фролкову и затем передать их для дальней-
шего движения Я. П. Пугачевскому. Был ли осуществлен этот
план, неизвестно. Материалы к III тому во всяком случае оста-
вались на сохранении у семьи Ушинского. Между тем интерес
к этим материалам не ослабевал,
и в 90-х годах настойчиво
распространялся слух, что какой-то завистливый родственник
Ушинского (возможно, что имелся в виду его старший брат,
Александр, внебрачный сын отца Ушинского) похитил руко-
пись III тома в надежде впоследствии издать ее. В совершен-
но положительной форме, но без указания его имени, сообщение
об этом предполагаемом похитителе сделано было М. Л. Песков-
ским как в его биографии Ушинского, так и в изданной им пере-
писке различных лиц с Н. А. Корфом. Эти
слухи и сообщения
только отражали тот интерес, который имелся в педагогических
кругах к незаконченной части труда Ушинского. Само собой
понятно однакоже, что этот интерес может быть удовлетворен не
собиранием слухов, но исследованием того, что в действитель-
ности оставлено Ушинским в качестве материалов к III тому и в
каком направлении, с какими целями были подобраны им эти
материалы. В первую же очередь возникает вопрос о том, как
далеко продвинулась разработка собранных материалов
самим
Ушинским. Только по мере уяснения этих вопросов возможно
будет подойти и к решению основного, интересующего исследо-
вателей наследства Ушинского вопроса о том, что же действи-
тельно мог представить собой III том «Педагогической антропо-
логии», если бы он был разработан Ушинским.
1. Как фактически велась Ушинским
работа по подбору материалов для III то-
ма и приступил ли он к их разработке? Под-
готовка материалов для III тома была начата Ушинским одно-
временно
с собиранием и обработкой материалов для первых
двух томов. Ушинский готовил не тот или другой том в отдель-
ности, а «Педагогическую антропологию» в целом и, оформляя
первый том, он уже имел в виду и содержание III тома. Именно
поэтому все материалы, собранные Ушинским, в одинаковой
степени относятся как к первым двум, так и к третьему тому.
И если в соответствии с сложившимся у него планом по-
строения всей работы он сначала излагал то, что относится к
первым томам, то в то
же время он думал и о том, как относится
излагаемое в первых томах к тому, что будет дано в третьем.
Содержание третьего тома он не мыслил совершенно оторванным
от содержания первых двух томов. Поэтому подготовка всех
трех томов шла одновременно. В самом деле, достаточно пере-
смотреть собранные Ушинским материалы, чтобы видеть, что
те же материалы, которые им использованы в первых томах,
Должны были служить ему материалом и для разработки треть-
648
его тома. Материалы для всех трех томов сплошь и рядом выпи-
сываются им одновременно. Использованное в первых томах он
зачеркивал, делая иногда надпись «взято», чтобы вторично не
пересматривать этого материала, незачеркнутое оставалось как
материал, возможный для использования в дальнейшем. К мо-
менту окончания первых двух томов в распоряжении Ушинско-
го оказалась масса выписок, не использованных частью потому,
что они не понадобились в
первых двух томах, хотя и относились
к ним непосредственно, частью потому, что по своему содержа-
нию они прямо относились к 111 тому. Именно эти выписки и за-
метки и послужили тем материалом, из которого А. Н. Остро-
горский в 1908 г. отобрал то, что, по его мнению, относилось к
III тому и что он издал под названием «Материалы к 111-му тому
«Педагогической антропологии».
Спрашивается, работал ли сам Ушинский над этими мате-
риалами, пытался ли он как-либо оформить их в виде
закончен-
ного исследования и по определенному плану примерно так же,
как он оформил 1-й и 2-й том? Что он думал об этом, ясно уже
из того, что в 1869—1870 г. он набросал в нескольких вариантах
план преподавания педагогики в женских училищах, причем
наравне с материалом 1-го и 2-го тома «Педагогической антро-
пологии» у него фигурирует и план построения материалов,
оставшихся для 111 тома. Правда, это еще не реализованный
план, а только проект плана, который окончательно мог сло-
житься
только в процессе фактической работы над третьим
томом. Для этого нужно было приступить к работе над этим
томом вплотную, что Ушинский и предполагал сделать, выжи-
дая момента улучшения своего здоровья.
Моменты этой подготовительной работы над материалами
для 111 тома можно до известной степени проследить по офи-
циальной и частной переписке Ушинского. В марте 1869 г. Ушин-
ский прислал заявление на имя главноуправляющего IV отделе-
нием императорской канцелярии, в котором писал:
«в третьем
томе мне предстоит изложить психические основания нравствен-
ности, искусства и религии. Хотя и этот отдел моего труда был
приготовлен мною; но так как я продолжал все еще изучать пред-
мет, то вновь накопившиеся материалы и обширное изложение,
данное мной первым двум томам при самом их печатании, вы-
нуждают меня совершенно переделать и И J-й том» (Ленинград-
ский ист. арх., д. Jv» 4631). Из этого заявления видно, что содер-
жанию III тома Ушинский предполагал дать
столь же разверну-
тое изложение, как и содержанию первых двух, и что общее
очертание 111 тома было уже сделано им, но оставило его неудо-
влетворенным и па основании продолжающегося изучения мате-
риала привело к убеждению в необходимости совершенно пере-
делать 111 том. Конечно, это сообщение официальное, в котором
автор имел целью оправдать причину задержки с опублико-
ванием III тома, который согласно первоначальному плану
должен был уже быть готовым. Можно бы было предположить,
649
что в официальном сообщении Ушинский придумывает искус-
ственные оправдания причин задержки III тома в виде выясни-
вшейся необходимости переработать первоначально приго-
товленное изложение. Однакоже переписка Н. С. Ушинской с
Я. П. Пугачевским подтверждает, что Ушинский неоднократно
принимался за составление III тома и, оставаясь недовольным
результатами, уничтожал написанное. 10 апреля 1871 г., разъяс-
няя Я. II. Пугачевскому, в каком состоянии
оставлены Ушин-
ским материалы III тома, Н. С. Ушинская писала, что
Ушинский «последнее время был очень расстроен и многим
был недоволен, что было написано им, и уничтожал, так что
теперь, когда стали перебирать его бумаги, то полного,
законченного уже III тома «Антропологии» не находится, а
только отдельные главы и тех не очень много». Весьма вероятно,
что именно это обстоятельство заставляло Ушинского «про-
должать изучение предмета» и искать такую форму изложения,
Которая
могла бы его удовлетворить в такой же степени, в
какой удовлетворяла форма первых двух томов.
Совершенно очевидно, что в Ушинском начался тот творче-
ский процесс, который он переживал и при написании первых
двух томов, когда ему приходилось расширять первоначально
набросанные планы изложения, по многу раз перерабатывать
отдельные главы, вставлять совершенно новые, ранее непредви-
денные разделы и т. п. Нужно признать однакоже, что, хотя
материалы для 111 тома в основном были
собраны, но удовле-
творяющей его формы изложения, несмотря на составленные им
проекты преподавания педагогики, в которые перспективно был
внесен и материал для III тома, Ушинский еще не нашел, с не-
терпением ожидая того момента, когда он получит возможность
вплотную подойти к работе над этим, уже начинавшим тяготить
его томом. Переписка Ушинского с Н. А. Корфом, начавшаяся
как раз в последние годы его жизни, дает возможность видеть
некоторые признаки этого напряженного ожидания
со стороны
Ушинского того момента, когда явится, наконец, возможность
творческой работы над собранным материалом. 28 мая 1869 г.
он писал: «Посылаю вам две первые части моей «Антропологии».
Когда выйдет третья— еще и сам не знаю. Теперь же я намерен
кончить и приготовить к печати русскую грамматику или, лучше
сказать, первоначальный курс, который мог бы дать ученику
возможность не затрудняться в употреблении письменного язы-
ка». Почти через год, 23 февраля 1870 г., только что
окончив
грамматику (3-й год «Родного слова») и посылая ее Корфу, Ушин-
ский писал: «Если здоровье потянет, то, как разделаюсь с III-м
томом «Антропологии», займусь исключительно народным обра-
зованием». Очевидно, внешние обстоятельства сложились так,
что Ушинский уже видел возможность приняться за работу над
III томом. Однако внутренне он еще не был готов к этому. По-
этому, намереваясь свидеться с Н. А. Корфом для беседы по
поводу книги для начальной школы, Ушинский 28 мая того
же
650
года писал ему: «написать книгу для народной школы составляет
уже давно мою любимую мечту, но, кажется, ей и суждено остать-
ся мечтою. Прежде мне необходимо кончить «Антропологию»
и потом только я хоть сколько-нибудь применю «Родное слово»
к потребностям сельской школы». Очевидно, подойдя уже вплот-
ную к задаче творческой работы над «Антропологией», Ушин-
ский все же не мог еще приняться за реальное ее выполнение.
Наконец, 27 сентября 1870
г. в своем последнем письме к Н. А.
Корфу, надолго выведенный из рабочей колеи неожиданной тра-
гической смертью своего старшего сына, Ушинский пишет: «само
собой понятно, что все работы мои остановились и если бы толь-
ко мне удалось в эту зиму хоть как-нибудь надиктовать 3-й том
моей «Антропологии», который в материалах уже готов!.. В
первых же главах этого тома вы найдете и разрешение показав-
шегося вам противоречия. Человек не потому говорит, что обла-
дает рассудком, который
есть и у животных, а потому, что обла-
дает самосознанием, т. е. способностью наблюдать свои собствен-
ные душевные явления, чего нет у животных. Эта-то способность
дает человеку дар слова, свободу воли, нравственность и спо-
собность к самоусовершенствованию, к прогрессу I» Из содер-
жания этого последнего письма, в котором Ушинский делится с
Корфом уже своими конкретными идеями из области третьего
тома, видно, что содержание этого тома в основном достаточно
четко определилось
у автора: первые главы представляются ему
совершенно ясно. Он ждет только момента, когда ему удастся
переехать на зиму в Крым, точнее — в Севастополь, где он
сможет, всецело ушедши в работу, продиктовать своему писцу
весь этот заключительный и давно ожидаемый том своего иссле-
дования. Поездка оказалась однакоже роковой для автора
«Антропологии»: он схватил простуду, которая окончательно
свела его в могилу. Вместо третьего тома, он оставил только ряд
выписок и замечаний к ним,
которые он исподволь делал в
процессе собирания материалов для «Педагогической антрополо-
гии» вообще и в процессе обработки первых двух томов этой
работы.Ясно, что никакого оформления III том не получил при
жизни Ушинского. В письме к Я. П. Пугачевскому 10 апреля
1871 г. Н. С. Ушинская писала, что «с лета, т. е. с приезда в
Богданку из Крыма (где он был с Александром Федоровичем),
он ни строчки не написал». Понятно, что какие бы то ни было
поиски законченного третьего тома «Антропологии»
должны
быть признаны фантастической затеей. Единственным материа-
лом для третьего тома являются те выписки и заметки, которые
так или иначе были сделаны Ушинским в перспективе подготовки
этого тома. Естественно, что разыскание, опубликование и
изучение этих материалов составляет ту первую задачу, осуще-
ствление которой вернее всего может подвести к разрешению
вопроса о том, какой путь построения III тома «Антропологии»
намечался Ушинским. Первые же попытки научного изучения
педагогического
наследства Ушинского были поставлены перед
651
этой задачей; эта же задача стоит и сейчас в связи с изданием
сочинений К. Д. Ушинского. Что же представляют собой эти
материалы?
2. Материалы для III тома «Педагогиче-
ской антропологии» и подготовка их к
изданию. Предпринятая А. Н. Острогорским в 1908 г.
попытка опубликовать эти материалы имела то несомненное
значение, что она рассеяла в значительной степени тот туман,
которым до этого времени были окутаны представления педаго-
гов
о содержании этих материалов. Читатель увидел перед собой
совершенно прозаическую груду рабочих материалов, подготов-
ленных Ушинским; груду, в которой предстояло еще разоб-
раться, что требовало гораздо большего труда, чем чтение со-
вершенно готового и законченного произведения. Изучению этих
материалов не было посвящено после их издания ни одного,
сколько-нибудь серьезного исследования, хотя отдельные ци-
таты из материалов нередко проникали в те или другие педаго-
гические
работы. Само издание, хотя и было встречено сочув-
ственно и с интересом, не получило сколько-нибудь серьезной
оценки в печати, что объясняется прежде всего тем, что руко-
писные материалы Ушинского вообще не были приведены в
известность и добывались отдельными исследователями с огром-
ными затруднениями. В настоящее время, когда архивные мате-
риалы стали широко доступными для научных работников и
когда, в частности, материалы семейного архива сданы наслед-
никами Ушинского в
государственные архивные учреждения,
есть полная возможность установить те. упущения, которые
так или иначе оказались в издании А. Н. Острогорского. В
основном они сводятся к следующему: а) материалы, изданные
в 1908 г., далеко не полны и есть в настоящее время возможность
дополнить эти материалы, увеличив их более, чем вдвое; б) на-
печатанные материалы во многих случаях прочитаны неверно и
изданы с пропусками,— недочет, который сейчас также может
быть восполнен; в) группировка
материалов сделана не в соответ-
ствии с тем планом построения III тома, какой намечался у
Ушинского.
Что касается прежде всего полноты материалов, бывших в
распоряжении А. Н. Острогорского, то следует сказать, что, по
всей вероятности, он имел под руками только заполненные выпи-
сками и заметками четвертушки Ушинского. Всех их в архиве
Ушинского в настоящее время насчитывается около 442. «При
разборе заметок Константина Дмитриевича надо было отобрать
те из них, которые можно
было считать относящимися к мате-
риалам для неизданного 111-го тома «Антропологии», писал Остро-
горский в своем предисловии к издаваемым материалами Аргу-
ментация в пользу необходимости отложить в сторону некоторые
материалы едва ли может быть признана убедительной (см.
выше Предисловие Острогорского к его изданию): даже простые
выписки, сделанные Ушинским из тех или иных сочинений,
652
могут быть важны для читателя, как указание на то, какими
материалами предполагал воспользоваться Ушинский; но выпи-
ски очень часто сопровождались замечаниями Ушинского,
которые он всегда обозначал заметкой — M о е. Неубедительность
своей аргументации признал и составитель предисловия и по-
тому в конце концов остановился на совершенно субъективном
принципе отбора материалов для печати, а именно: «когда нам
казалось, что данная мысль или ее
выражение нравились Ушин-
скому, мы сохраняли ее для печати». Но помимо выписок, кото-
рыми Ушинский заполнял отдельные четвертушки бумаги, боль-
шой материал к «Педагогической антропологии» заключался в
переплетенных тетрадях, заполненных выписками и черновыми
главами 2-го тома. Одна из этих тетрадей целиком посвящена
«Педагогическим приложениям к главам о чувствах» и как
педагогическое приложение предназначена для III тома. В
других тетрадях заключено множество выписок и замечаний
Ушинского,
относящихся прямой 111 тому, о чем самим Ушин-
ским нередко делались замечания на полях. Возможно, что
тетради не были показаны Острогорскому, потому что наслед-
ники Ушинского считали их уже использованными для 11 тома.
Наконец, Острогорским не принято во внимание, что в уже
изданных сочинениях Ушинского имеется множество указаний
как относительно содержания, так и относительно плана III
тома: не говоря уже о многочисленных высказываниях I и
II тома, в которых Ушинский развивал
идеи, относящиеся к
III тому,— в первом очерке «Педагогической антропологии»,
напечатанном в виде статей в «Педагогическом сборнике», имеет-
ся много разделов, не вошедших в I и II том и специально
предназначенных для И 1-го.
Отобранные для издания материалы представляли значи-
тельные трудности для прочтения, принимая во внимание мел-
кий, прихотливый и неразборчивый почерк Ушинского. Сам
Острогорский сообщает: «кое-что в рукописи Ушинского разо-
брать было крайне трудно;
мы советовались с разными лицами и,
благодаря им, а главным образом А. И. Введенскому, осталось
лишь немного слов, в правильном прочтении которых у нас
нет полной уверенности». Очевидно, издатели обращались за
помощью к известному философу-идеалисту, А. И. Введенскому,
который давал им справки философского характера. Все слова,
прочтенные издателями неуверенно, они оговаривали в приме-
чаниях. Тем не менее огромное количество слов с полной уве-
ренностью в правильном их прочтении
издатели прочитали на-
столько неверно, что возникает сомнение, проверено ли было
первоначальное чтение. Вот для образца несколько примеров
того, как были прочитаны те или иные места рукописей Ушин-
ского в издании 1908 г. (см. таблицу на стр. 653).
В некоторых местах по требованию ли цензуры или по иным
соображениям издатели сделали в тексте более или менее значи-
тельные сокращения, не оговорив этого в примечаниях,
653
Стр.
Напеча-
тано:
Следует
читать:
Стр.
Напеча-
тано:
Следует
читать:
22 всего не вело как 174 нам
именно
28 учение желание 179 вперед верить
— Всю
свою
181 Броун Бернар
28 взгляда мнения 197 высказал и еще поло
43 сил
ясно
жение
— всегда видя
190 папы главы
54 также полную 192 хватают давят
61 руководить управлять 199 потом юноша
66 это явление именно 201 воровство варварство
67
требуя трепете 206 воспитателя воспитанни-
68 нет или никто не
ка
74 злыми злобы
210 ничтожное несчастное
77 комбинации комплика-
ции
—
214
отчего не
его лишают
очень и
не пользо-
105 освобождает извиняет
валось
109 он
сам
— наказать например
142 была бы обладала
223 кроме как
равна
228 и других идущих
155 тоже
скорее
236 нам
или менее
и т. п.
Очень ответственной была задача издателей материалов
дать
последние в известной группировке, которая отвечала бы
замыслу автора. В самих материалах не было определенной си-
стемы, поскольку последняя хранилась в голове автора. Однако-
же вместо того, чтобы попытаться подойти к этой системе в со-
ответствии с высказываниями самого Ушинского, издатель мате-
риалов 1908 г. подошел к ним без определенной руководящей
идеи, заимствованной у автора «Антропологии». «Константину
Дмитриевичу, пишет А. Н. Острогорский, не было нужды распо-
лагать
листки с своими заметками в порядке, который указывал
бы последовательность чтения их. Для розыска нужных ему для
работы листков служили заголовки вверху страницы. Необхо-
димость расположить их в порядке явилась только тогда, когда
пришлось подготовлять их для посмертного издания в качестве
материалов, подготовлявшихся Константином Дмитриевичем
для 111-го тома его «Педагогической антропологии». Опреде-
лить, в каком порядке следует дать их в’ печати, было нелегко».
Было предположение
разместить выписки по авторам, а авторов
дать в хронологическом порядке. Это затемнило бы последова-
тельность мысли Ушинского. Издателем совершенно правильно
было решено, что нужно «попытаться расположить листки в
таком порядке, чтобы читателю легче было уследить за ходом
654
мысли Ушинского… Но и эту мысль, поясняет он, провести
последовательно было крайне трудно». В общем материал систе-
матизирован А. Н. Острогорским применительно к темам Ушин-
ского. Но все же необходимо признать, что группировка мате-
риала более или менее случайна и не вполне отвечает тому, что
вырисовывалось перед сознанием Ушинского, когда он обду-
мывал план построения III тома. Разделы о морали, языке, сво-
боде воли, эстетике, конечно,
отвечают тем главам, которые так
или иначе получили бы соответствующее место в книге Ушин-
ского, но это еще не система. Отнести материал о происхождении
языка на последнее место книги возможно было, только игно-
рируя указания Ушинского, согласно которым раздел о языке
должен был занять в его книге одно из первых мест. Вопрос о
самосознании, который должен был занять решающее место в
111 томе, совершенно не выделен в материалах, изданных Остро-
горским. Между тем, в 1908 г.,
когда печатались «Материалы»
Острогорского, уже была известна программа педагогики Ушин-
ского, в которой был перспективно намечен план предполагае-
мого III тома; была известна переписка Ушинского с Корфом,
так много света проливающая на вопрос об основных темах 111 то-
ма; наконец, были известны многочисленные печатные работы
Ушинского, в которых он с большей или меньшей определен-
ностью касался задач и построения III тома своей «Антрополо-
гии». Материалы Острогорского были
сгруппированы им и изда-
ны в значительном отрыве от всех тех высказываний, которые бы-
ли сделаны Ушинским в период подготовки к написанию III тома.
В связи с этим совершенно естественно возникла задача —
1) дополнить материалы для III тома теми высказываниями
Ушинского, которые сделаны последним в уже опубликованных
им работах; теми рукописями, которые отложены А. Н. Остро-
горским, как не имеющие отношения к III тому; наконец, теми
рукописями, которые по тем или иным причинам
Острогорскому
известны не были; 2) сделать опыт более развернутой группиров-
ки собранных материалов применительно к тем указаниям, ко-
торые неоднократно делались самим Ушинским относительно
построения заключительного тома его «Педагогической антро-
пологии». Опыт выполнения такой задачи на основании доступ-
ных в настоящее время материалов и представляет собой изда-
ваемый X том собрания сочинений Ушинского. Материалы III
тома представлены здесь полнее и систематичнее. Но, конечно,
было
бы напрасным ожидать, что эти материалы хотя в отдален-
ной степени могут восполнить то, чего не успел осуществить
Ушинский. Повторяя слова А. Н. Острогорского, можно ска-
зать, что это материалы и только материалы. Но уже потому,
что они собраны с возможной для настоящего времени полнотой
и расположены в системе, гораздо более отвечающей намерениям
Ушинского, они открывают и несколько больше возможностей
; для суждения о том, что же хотел дать Ушинский в III томе своей
«Антропологии».
655
ПРИМЕЧАНИЯ К ОТДЕЛЬНЫМ РАЗДЕЛАМ III ТОМА
1. (К стр. 51). Группировка материалов, собранных
К. Д. Ушинским для III тома «Педагогической антропологии», на-
ходя для себя прочное основание в самом содержании этих мате-
риалов, должна в то же время иметь известную опору и в пря-
мых высказываниях Ушинского по вопросам содержания и пла-
на III тома, сделанных им задолго до того момента, когда он
мог бы приступить к работе над этим томом. Систематически
и
планомерно, независимо от выписок, которые делались им при
чтении литературы, Ушинский делал эти высказывания дважды:
а) в самом процессе работы над первым и вторым томом «Педаго-
гической антропологии» Ушинский неоднократно обращался
мыслью к третьему, завершающему тому как органической со-
ставной части всего своего исследования, причем он системати-
чески оповещал своего читателя о том, какие именно вопросы
будут им освещены в третьем томе его труда; б) закончив печата-
ние
второго тома и подойдя вплотную к разработке третьего,
Ушинский в 1869—1870 г.г. предпринял разработку программ
преподавания педагогики для женских учебных заведений; в
представленных им нескольких проектах программ он частью
соображался с содержанием уже напечатанных им первых двух
томов, частью исходил из предполагаемого им плана, третьего
тома и таким образом дал первую попытку набросать план изло-
жения этого тома. Поскольку высказывания того и другого
рода, непосредственно
вводящие в содержание и план построе-
ния III тома «Педагогической антропологии», не были приняты
во внимание издателем материалов к III тому, А. Н. Острогор-
ским, они и составили содержание первого (вводного) раздела
настоящего тома.
2. (К стр. 53). К психологической части третьего тома Ушин-
ский намеревался дать особое предисловие, в котором он пред-
полагал выяснить окончательно те недоразумения, которые на-
копились у читателей в процессе их ознакомления с первыми
двумя
томами. Основное из этих недоразумений, тяжело воспри-
нимавшееся Ушинским, сводилось к тому, что его обвиняли в
метафизике (с одной стороны — в идеалистической, с другой —
в материалистической), между тем как Ушинский настойчиво
отклонял как то, так и другое обвинение. В предисловии к
третьему тому Ушинский и предполагал разъяснить, что самая
сущность его мировоззрения исключает возможность какой бы
то ни было метафизики. Понятно, что предположенное Ушин-
ским предисловие к третьему
тому должно было представить для
читателей его работ большой интерес. К сожалению, в сохра-
нившихся материалах не нашлось каких-либо законченных ра-
бот в этом направлении. Но есть ряд отрывочных высказыва-
ний и в числе их написанное Ушинским в предисловии ко
второму тому. Ряд таких высказываний и может рассматривать-
ся как материал для предисловия к третьему тому. Содержание
656
этого предисловия должно было свестись в основном к разъясне-
нию, что человеческое познание является результатом отраже-
ния в сознании человека как внешнего (материального), так и
внутреннего (психического) мира. Отсюда вытекало, что необхо-
димость в какой-либо особой философии или метафизике отпа-
дает, так как все мировоззрение сводится к совокупности обоб-
щенных данных внешнего и внутреннего мира: естественные
науки, руководимые математическим
методом, обрабатывают
данные внешнего опыта, эмпирическая психология — данные
внутреннего опыта. Следовательно, из философских наук нужна
только наука о методе правильной обработки данных внешнего
и внутреннего опыта, а такой наукой является логика, которая
и должна стоять в преддверии всех наук. —В таком примерно
духе намечалось Ушинским то разъяснение в предисловии к
третьему тому, которое должно было пролить свет на общие
методологические установки, которые руководили им при
разработке
всех томов его антропологии.
3. (К стр. 58). Термин «психические явления высшего по-
рядка» принадлежит самому Ушинскому. В это понятие он вклю-
чал как общие функции психики человека, не свойственные жи-
вотным, как-то — самосознание (в отличие от сознания, которое
естъ и у животных), разум (в отличие от рассудка, которым обла-
дают и животные), речь, которой не обладают животные, и
свободная воля, вернее, сознание свободы от принуждения,—
так равным образом и те конкретные психические
процессы, ко-
торые обусловлены этими функциями, как-то — стремление к
истине, выражающееся в постижении идей, а также эстетиче-
ские, моральные и религиозные чувствования, выражающие эмо-
циональное и практическое отношение человека к этим идеям.
В материалах, изданных А. Н. Острогорским, собраны только
заметки Ушинского, относящиеся к характеристике конкрет-
ных психических процессов высшего порядка, но совсем почти
не затронуты сами функции, характеризующие высшую психи-
ку.
Из этих функций указан только язык, да и то он отнесен в
материалах на последнее место, между тем как Ушинский пред-
полагал дать ему место в первых же главах третьего тома. В со-
ответствии с изложенным раздел «Психические явления высшего
порядка» имеет два подразделения* в первом даны материалы,
характеризующие общие психические функции высшего поряд-
ка, во втором материалы, в которых говорится о конкретных
психических процессах, обусловленных этими функциями.
4. (К стр. 364).
«Сжатый учебник педагогики» — так сам
Ушинский называл педагогическую часть своей антропологии
(см. предисловие ко второму тому «Антропологии»), иногда он
называл ее — «наша педагогика» £r. VIII, стр. 233), иногда —
«общая дидактика» (т. VIII, стр 604) и т. п. Вообще он предпо-
лагал, что этот раздел должен быть очень кратким, поскольку
психологическое его обоснование развернуто в первых двух то-
мах и в первой (психологической) части третьего. Материалы
657
к этому «сжатому учебнику» педагогики в основном не были
учтены А. Н. Острогорским. Известно, как Ушинский пришел
к мысли о создании этого специального приложения к своей
«Антропологии». Первоначально он предполагал, что педагоги-
ческие приложения будут расположены отдельными главами
вслед за изложением тех или иных разделов общей психологии.
Соответственно этому он готовил свои педагогические приложе-
ния к каждому крупному разделу психологии.
Однакоже уже
при составлении первого тома он увидел, что педагогические
приложения увеличивают размеры и без того разросшегося то-
ма, а с другой стороны, что в педагогических приложениях,
появляющихся исподволь, по мере разработки отдельных пси-
хологических глав, будут большие повторения, мало единства и
значительная разбросанность. Прийдя таким образом к выводу
о необходимости сделать из педагогических приложений особый
раздел в конце всей «Антропологии», Ушинский значительную
часть
педагогических приложений, написанных к первому и
второму томам «Антропологии», не включил в состав этих томов,
а отложил для «сжатого учебника» педагогики. Совершенно оче-
видно, что, приступив к разработке этого последнего раздела
своего труда, Ушинский должен был бы написанным им прило-
жениям дать какую-то систему, сократив многочисленные повто-
рения и выделив основные руководящие принципы, уже доста-
точно наметившиеся в процессе разработки психологической
части «Антропологии».
Однакоже к этой стадии в разработке
своего труда Ушинский только подходил, но осуществить ее
не успел. Таким образом, в нашем распоряжении имеется,—
а) ряд отрывков и выписок, сделанных в плане так или иначе
намечавшихся Ушинским разделов сжатого учебника педаго-
гики, б) ряд более или менее законченных и литературно обра-
ботанных под именем «Педагогических приложений» глав. Из
всего этого материала автор «Педагогической антропологии»
должен был как-то создать уже предносившийся
в его сознании
«сжатый учебник педагогики». Как легко видеть из оглавления,
материалы для с жатого учеб пика педагогики представлены преи-
мущественно в разделе воспитания и только в незначительной
части в разделе дидактики и методики. Эти последние разделы
менее всего беспокоили автора «Педагогической антропологии»,
поскольку он считал их достаточно разработанными в своих ди-
дактических и методических руководствах к «Детскому миру»
и «Родному слову».
5. (К стр. 364). Среди
рукописей Ушинского сохранилось
несколько отрывков с заголовком «Предисловие». Очевидно из
содержания этих рукописей, что они предназначались в каче-
стве предисловия к курсу педагогики вообще и в известной сте-
пени могли относиться и к предисловию к «сжатому учебнику
педагогики». Предисловие к «Педагогической антропологии»,
напечатанное в первом томе, составлено значительно подробнее
и обстоятельнее! чем заметки в выписках, по эти последние
658
могли быть так или иначе использованы автором и при об-
работке «сжатого учебника». Ввиду изложенного они и обозна-
чены здесь как наброски предисловия к этому учебнику.
6. (К стр. 625). Незаконченный отрывок под заглавием
«Личность. Очерк феноменологии» представляет собой перепи-
санную набело каллиграфическим писарским почерком руко-
пись* Судя по содержанию, она предназначалась для газеты или
скорее журнала в качестве фельетона и развивает
мысли, не-
однократно высказывавшиеся Ушинским в его педагогических
статьях, но уже в плане публицистической сатиры. Очерк
свидетельствует о том, что Ушинский настойчиво интересовался
вопросами формирования личности, поскольку это формиро-
вание происходит в определенных, в данном случае капитали-
стических условиях.
659
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Августин Аврелий (354— 439) — епископ иппонский, один из отцов западной церкви, стр. 173, 281.
Аквинат Фома (Томас Аквинский) (1225—1274) — знаменитый богослов, представитель средневековой схоластики, стр. 278.
Аристотель (384—322 до н. э.) — древнегреческий философ и ученый, стр. 71, 136, 137, 199, 207, 232, 278— 284, 289, 332, 455, 529, 566, 597, 598, 617.
Арндт — доктор, стр. 501.
Арнольд Томас (1795—1842) — английский педагог, директор школы в Рюгби, стр. 524.
Баден Поуэл — автор работы Essay on the inductive philosophie, стр. 200.
Бенеке Фридрих-Эдуард (1798— 1854) — немецкий психолог, философ и педагог, представитель эмпирической психологии, стр. 15, 60, 61, 63, 65, 78, 90, 91, 109—112, 121, 141, 166, 167, 169, 178, 224, 251, 254—256, 259—261, 263, 277, 278, 292— 297, 313, 314, 318, 320, 323, 324—330, 346, 347, 358, 364, 365, 369—371, 410, 412, 416, 426, 429, 441, 457, 475, 477, 478, 480—483, 486— 488, 490, 493, 495, 497, 501, 502, 505, 508, 509, 515,
523, 525, 528, 533, 535—537, 540, 574—577, 590, 592—600, 607, 608, 612, 613.
Бентлей — стр. 248.
Бернар Клод (1813—1878) — знаменитый французский физиолог, стр. 56, 65, 74, 191, 204, 221, 222, 225, 230, 240, 241, 243, 248, 369, 456.
Беркли Джорж (1684—1753) — ирландский епископ, основатель субъективной идеалистической философии, стр. 206.
Бисмарк Отто (1815—1898) — выдающийся германский государственный деятель и дипломат, стр. 609.
Бокль Генри-Томас (1822— 1862) — английский писатель, автор «Истории цивилизации в Англии», стр. 56, 65, 138, 153, 156, 175, 176, 179—188, 201, 245, 289, 312, 357, 369, 481, 595, 611.
Борман — немецкий педагог первой половины XIX в., стр. 502.
660
Ботштетен — стр. 169.
Брайгем — стр. 381.
Браубах — немецкий педагог первой половины XIX в., стр. 293, 559.
Броун Фома (1778—1820) — шотландский философ, стр. 157, 158, 244, 246, 258, 259, 281, 282, 284—286, 288, 320—323, 619.
Буслаев Ф. И. (1818—1897) — русский филолог, автор многочисленных работ по языковедению, истории литературы и методике преподавания русского языка, стр. 109.
Бон Александр (1818—1903) — видный английский психолог, исследователь эмпирического направления, стр. 56, 60, 62, 65, 70, 92, 127, 139—145, 147, 150, 151, 154, 155, 157, 158, 169—173, 191, 201, 221, 256—260, 265, 266, 269, 301—304, 306—308, 315, 317, 331, 334, 335, 342, 345, 346, 351—357, 374—376, 430, 454, 455, 491, 562, 591, 592, 618.
Бэкон Френсис (1561—1626) — лорд Веруламский, знаменитый английский филоссф, основоположник эмпирического и материалистического направления европейской философии, стр. 273, 436, 455.
Бэнтам — стр. 301.
Бюффон Жорж-Луи-Леклерк (1707—1788) — известный французский натуралист, стр. 380.
Вайтц Теодор (1821—1864) — немецкий антрополог и психолог, стр. 82.
Вико Джованни-Баттиста (1668—1744) — итальянский философ, основоположник философии истории, стр. 188.
Владимир Святославич (святой) — великий князь Киевский (ум. в 1015 г.), стр. 253.
Вольтер Франсуа-Мари-Аруэ (1694—1778) — знаменитый французский писатель-просветитель, стр. 222.
Вольф Христиан (1679—1754) — немецкий математик и философ-популяризатор, стр. 278.
Воля — второй сын К. Д. Ушинского, стр. 297.
Вундт Вильгельм-Макс (1832— 1920) — один из крупнейших немецких философов-идеалистов, основатель экспериментальной психологии как науки, стр. 113, 128, 132— 135, 193, 212.
Галилей (1564—1642) — знаменитый итальянский астроном и математик, стр. 305.
Гверчино Барбиери-Джованни-Франческо (1591—1666) — итальянский живописец, стр. 549.
Гегель Георг-Вильгельм-Фридрих (1770—1831) — знаменитый немецкий философ-идеалист, стр. 56, 71, 196, 201, 203, 217, 276, 278, 429, 505, 545, 563, 618.
Гейгер Лазарь (1829—1870) — немецкий филолог, стр. 114.
Генш — стр. 276.
Гербарт Иоганн-Фридрих (1776—1841) — немецкий философ, психолог и педагог реакционного направления, стр. 62, 63, 65, 73, 78, 87—92, 139, 141, 149, 156— 166, 178, 192, 193, 197, 201— 204, 206, 224, 251—254, 270— 273, 278, 310, 315, 343, 344, 348—350, 365, 441, 483, 540, 550, 587, 619.
Гердер Иоганн-Готфрид (1744— 1803) — немецкий историк,
661
философ и литературный критик, стр. 188.
Гершель Джон (1792—1871) — английский физик и астроном, стр. 157, 199.
Гёте Иоганн-Вольфганг (1749— 1832) — знаменитый немецкий поэт и ученый, стр. 214, 255, 483.
Гётчесон Френсис (1694— 1747) — английский философ, стр. 251.
Гиппократ (460—377 до н. э.) — греческий врач, отец медицины, стр. 598.
Гоббес Томас (1588—1679) — английский философ материалист (продолжатель Бэкона), стр. 94, 339;
Гоголь Николай Васильевич (1809—1852) — великий русский писатель, стр. 277.
Гомер (IX в. до н. э.) — древнегреческий полулегендарный поэт, автор «Илиады» и «Одиссеи», стр. 205, 435.
Григорий Нисский (святой) (ум. в 394 г.) — епископ Нисский, один из выдающихся отцов восточной церкви, стр. 347.
Гризоль Август (1811—1869) — французский ученый-невропатолог, стр. 477.
Губернатис Анджело (род. в 1840 г.) — итальянский писатель, стр. 223.
Гумбольдт Александр (1769— 1859) — знаменитый немецкий натуралист, стр. 252.
Гуфеланд Христофор-Вильгельм (1762—1836) — знаменитый германский врач, стр. 601.
Даль Владимир Иванович (1801—1872) — русский писатель, собиратель произведений русского народного творчества, составитель «Толкового словаря живого великорусского языка», стр. 114, 115.
Данте Алигиери (1265—1321) — великий итальянский поэт, автор «Божественной комедии», стр. 572.
Дарвин Чарльз (1809—1882) — знаменитый английский натуралист, основатель эволюционной теории развития животного мира, стр. 89, 90, 243, 377, 568, 569.
Декарт (Картезий) Рене (1596— 1650) — знаменитый французский философ, основатель новой философии, стр. 150, 212, 222, 478.
Демосфен (384—322 до н. э.) — знаменитый греческий оратор, стр. 595.
Дидро Дени (1713—1784) — французский философ-материалист, издатель французской энциклопедии, стр. 348.
Дистервег Фридрих-Адольф-Вильгельм (1790—1866) — германский педагог, директор Берлинской учительской семинарии, стр. 574, 621.
Диттес Фридрих (1829—1896) — немецкий педагог, последователь Бенеке, стр. 15, 178, 254—256, 276, 277, 606— 609.
Дженнис Сэм (1704—1787) — английский писатель, стр. 302.
Джонсон — стр. 302.
Дресслер — немецкий ученый середины XIX в., издатель сочинений Бенеке, стр. 111.
Дробиш Мориц-Вильгедьм (1802—1890) — немецкий философ и психолог, гербартианского направления, стр. 159—161, 187, 188, 189,
662
190, 196, 197, 289, 355, 412, 415, 598.
Кальвин Жан (1509—1564) — один из вождей Реформации в Женеве, стр. 481.
Кант Эммануил (1724—1804) — крупнейший философ, основоположник немецкого классического идеализма, стр. 62—64, 73, 82, 133, 139, 159, 160, 181, 185, 186, 191, 196, 197, 203, 223, 224, 254, 278, 286, 287, 290, 342, 343, 369, 410, 413, 449, 478, 541, 542, 544, 547, 549—554, 560, 561, 563, 569, 572, 573, 597.
Карл Великий (742—814) — франкский король, в 800 году коронованный папой как римский император, стр. 413, 414.
Картезий — см. Декарт — стр. 278.
Катон Марк Порций Младший (или Утический) (95—46 до н. э.) — римский политический деятель (глава аристократическо-республиканской партии), стр. 178, 269.
Керри Джемс — английский педагог середины XIX в., стр. 381, 382, 395, 427.
Кетле Адольф (1796—1874) — бельгийский статистик и натуралист, применивший статистический метод к изучению общественных явлений, стр. 173—178, 187, 289.
Китти — стр. 354.
Кларк Самуил (1675—1729) — английский философ, картезианец, стр. 360.
Коменский Ян-Амос (1592— 1670) — знаменитый чешский педагог, «отец новой педагогики», стр. 434.
Кондильяк Этьен (1715— 1780) — французский философ-сенсуалист, стр. 92, 123.
Конт Огюст (1798—1857) — французский философ, основатель позитивизма, стр. 56, 583.
Ксенократ (396—314 до н. э.) — древнегреческий философ, ученик Платона, стр. 614.
Кузен Виктор (1792—1867) — французский философ, популяризировавший немецкую идеалистическую философию во Франции, министр народного просвещения, стр. 187.
Куртман В. (1811—1856) — немецкий педагог, директор учительской семинарии в Фридберге, стр. 429, 430, 476, 485, 494.
Кэдворт Ральф (1617—1688) — английский философ, стр. 301, 302
Кюстин Адольф (1793—1857) — французский писатель, автор соч. «La Russie», в котором дано невыгодное для русского правительства описание быта и порядков России, стр. 183.
Ламарк Жан-Батист (1744— 1829) — французский натуралист, предшественник Дарвина, стр. 377, 569.
Лейбниц Готфрид-Вильгельм (1646—1716) — знаменитый немецкий философ-идеалист и величайший ученый своего времени, стр. 190, 192, 193, 196, 211, 223, 278.
Ликург (9 в. до н. э.) — полулегендарный законодатель древней Спарты, стр. 269.
Линней Карл (1707—1778) — шведский натуралист, стр. 455, 456, 482.
Локк Джон (1632—1704) —
663
представитель английской эмпирической философии и психологии, стр. 78, 79, 191, 222—224, 370, 400, 401, 449, 454, 594, 595, 604.
Лотце Герман (1817—1881) — немецкий-философ-идеалист, стр. 102—109, 212.
Лукреция (вторая половина VI в. до н. э.) —жена Луция Тарквиния Коллатина, по преданию, покончившая самоубийством после полученного оскорбления, стр. 614.
Лютер Мартин (1483—1546) — немецкий церковный реформатор, стр. 255.
Ля Шамбр (1594—1675)—французский писатель, стр. 258.
Магомет (Мухаммед) (571— 632) — арабский пророк, основатель магометанской религии — ислама, стр. 346.
Макинтош Джемс (1765— 1832)—представитель шотландской философской школы, стр. 85, 341.
Массильон Жан-Батист (1663— 1743) — французский проповедник, стр. 322.
Маттисон — стр. 192.
Меланхтон Филипп (1497— 1560) — немецкий реформатор и педагог, сподвижник Лютера, стр. 278.
Милль Джемс (1773—1836) — английский публицист и философ, отец Д. С. Милля, стр. 341, 342.
Милль Джон-Стюарт (1806— 1873) — английский философ-позитивист и экономист, стр. 56, 65, 75, 76, 86, 92, 93, 96, 97, 99—102, 132, 134, 169, 171, 172, 178, 194—201, 212, 224—227, 229, 232—236, 238—240, 244,245, 247, 248, 250, 287, 345, 354, 355, 366, 583, 618, 619.
Молешотт Яков (1822—1893) — немецкий физиолог, представитель вульгарного материализма, стр. 481, 566.
Монтень Мишель (1533—1592) — французский писатель, стр. 9, 415.
Мюллер Иоганн (1801—1858) — известный немецкий биолог, основатель физико-химической школы физиологии и сравнительной анатомии, стр. 114, 116—119.
Наполеон I (1769—1821) — французский император, стр. 482.
Наполеон III Людовик (1808— 1873) — французский император, стр. 565.
Неккер-де-Соссюр Альбертина-Адриенна (1766—1841) — французская писательница-педагог, стр. 413, 417, 426, 453, 513, 576, 578.
Нимейер Август-Герман (1754— 1828) — немецкий педагог, директор учреждения Франке в Галле (автор соч. «Основы воспитания и обучения», переведенного на русский язык в 30-х годах XIX в.), стр. 574.
Ньютон Исаак (1642—1727) — знаменитый английский физик и математик, стр. 247, 249, 456.
Овидий Назон (43 г. до н. э. — 17 г. н. э.) — римский поэт, стр. 337.
Окен Лоренц (1779—1851) — немецкий естествоиспытатель, натуралист, стр. 456.
Оккам Вильгельм (1300— 1347) — немецкий средневековый философ, номиналист, стр. 301.
664
Острогорский Алексей Николаевич (род. в 1840 г.) — известный педагог, издатель «Материалов для 3-го тома «Педагогической антропологии» Ушинского», стр. 5.
Пальмер Христиан (1811— 1875) — немецкий педагог и теолог, стр. 362, 478—480, 501, 502, 574.
Пелагий (V век) — британский монах, отрицавший первородный грех, стр. 173.
Петр Великий (1672—1725) — русский император, стр. 396, 412.
Пирогов Николай Иванович (1810—1881) — знаменитый хирург и выдающийся педагогический деятель, стр. 372.
Платон (428—347 до н. в.) — древнегреческий философ-идеалист, стр. 196, 348, 349, 595, 597, 598.
Плутарх (48—120) — древнегреческий писатель, стр. 620, 622.
Прайс Ричард (1723—1791) — английский политический деятель и философ, стр. 251.
Прометей — мифический герой древней Греции, похитивший у богов огонь и принесший его людям, стр 276.
Пэлей Вильям (Палей) (1743— 1805) — английский теолог, стр. 302.
Pay — немецкий психолог и педагог середины XIX в., последователь Бенеке, стр. 261, 262, 291, 296, 547.
Регул Марк Атилий (III в. до н. э.) — римский полководец, стр. 269, 309.
Рид Томас (1710—1796) — шотландский философ, представитель философии так называемого здравого смысла, стр. 127, 200, 206, 207, 336, 337, 453, 454.
Рихтер Жан-Поль (1763— 1825) — немецкий писатель, педагог, стр. 112, 508, 597— 608, 613.
Робинзон — герой романа («Робинзон Крузо») английского, писателя XVII—XVIII в. Даниэля Дефо, стр. 620.
Руссо Жан-Жак (1712—1778) — оригинальный французский философ ранней эпохи просвещения, автор педагогического романа «Эмиль или о воспитании», стр. 81, 133, 137, 156, 157, 161, 165, 205, 206, 254, 264, 303, 309—311, 317, 319, 320, 325, 326, 338, 344, 348, 360, 362, 370, 374, 376, 401, 402, 410, 449—452, 502, 511, 515, 539, 540, 575, 579, 594—598, 601, 603—605, 612, 614, 615, 619—622.
Сенека Луций (1—65) — древнеримский философ, стр, 285.
Сеченов Иван Михайлович (1829—1905) — великий русский физиолог, основатель материалистической физиологии, стр. 155.
Смит Адам (1723—1790) — английский экономист, основатель классической школы политэкономии, стр. 251, 252, 301.
Сократ (469—399 до н. э.) — древнегреческий философ, стр. 71, 94, 98, 178, 280, 305, 309, 342, 362, 421, 531.
Спенсер Герберт (1820—1903) — английский философ позитивист-эволюционист, автор «системы синтетической философии», стр 68, 204, 244, 249, 269, 423, 436—440, 442.
665
Спиноза Барух (1632—1677) — знаменитый философ, стр. 87, 146, 201, 286, 287, 310.
Стеффенс Генрих (1773—1845) — норвежский философ-шеллингианец, стр. 471.
Стюарт Дюгальд (1753—1828) — шотландский философ, стр. 85, 226, 257, 302, 331.
Стюарт Мария (1542—1587) — королева шотландская, стр. 440.
Тамерлан (1336—1405) — монгольский завоеватель, основавший обширную среднеазиатскую империю, стр. 264, 609.
Тацит Публий-Корнелий (55— 120) — римский историк, стр. 595.
Телль Вильгельм — герой одноименной драмы немецкого поэта Шиллера, стр. 492.
Толстой Лев Николаевич (1828— 1910) — величайший художник русской и мировой литературы, мыслитель и педагог, стр. 395.
Тренделенбург Фридрих-Адольф (1802—1872) — профессор философии Берлинского университета, противник Гегеля, стр. 251—254, 270, 272, 273, 278, 287, 290, 291.
Уатт Бенджамен-Джемс (1736— 1819) — шотландский механик и физик, усовершенствовавший паровую машину, стр 454.
Уэвель Вильям (1794—1866) — английский философ-эмпирик, стр. 303—305.
Фехнер Густав (1801—1887) — немецкий физиолог, основатель психо-физики, стр. 158, 405, 559.
Фиеско — герой драмы Шиллера «Заговор Фиеско», стр. 325.
Филон Александрийский (20 г. до н. э. — 50 г. н. э.) — еврейский богослов и философ-платоник, стр. 173.
Фихте Эммануил-Герман (сын) (1796—1879) — немецкий философ-спиритуалист, стр. 219, 559.
Фихте Иоганн-Готлиб (1762— 1814) — немецкий философ, представитель философии классического немецкого идеализма, стр. 314.
Фогт Карл (1817—1895) — немецкий естествоиспытатель, зоолог, представитель вульгарного материализма, стр. 121, 566.
Франклин Вениамин (1706— 1790) — американский государственный деятель, экономист и физик, стр. 455.
Фребель Фридрих (1782—1852) немецкий педагог, основатель детских садов, стр. 517, 518, 607.
Фрис Яков-Фридрих (1773— 1843) — немецкий философ-кантианец, основатель естественного учения о человеке (философской антропологии), стр. 60, 236, 237, 251.
Фукидид (ок. 455 — ок. 396 до н. э.) — крупнейший древнегреческий историк, стр. 595.
Цезарь Юлий (100—44 до н. э.) — римский император и полководец, стр. 167, 269.
Цицерон Марк Туллий (106— 43 до н. э.) — римский оратор и писатель, стр. 595. 602.
666
Шварц (1766—1837) — немецкий педагог, писатель, стр. 476, 479, 485, 494, 501, 523, 574.
Шекспир Вильям (1564— 1616) — великий английский драматург, стр. 257, 305, 440.
Шефтсбэри Антони-Ашлей (1671—1713) — английский философ-моралист, стр. 302.
Шиллер Фридрих (1759— 1805) — немецкий поэт и писатель, стр. 276, 277, 325, 606.
Шмидт Карл (1819—1864) — немецкий педагог, автор «Истории педагогики, изложенной во всемирно-историческом развитии», стр. 479, 480, 494.
Шопенгауэр Артур (1788— 1860) — немецкий философ-идеалист, стр. 89, 90, 289, 377, 559, 569.
Штиглер — автор «Психологии», стр. 347.
Шуллер — стр. 517.
Эджворт Мария (1767—1849) — английская писательница-педагог, стр. 508.
Эйлер Леонгард (1707—1783) — выдающийся математик и физик, стр. 91, 138, 139, 243, 577.
Эрдман Иоганн-Эдуард (1805— 1892) — немецкий философ и психолог, стр. 418, 550.
Юм Давид (1711—1776) — английский философ, представитель субъективного идеализма, историк и экономист, стр. 206, 224, 252.
667
ОГЛАВЛЕНИЕ
От редакции 5
О содержании и плане 3-го тома «Антропологии» (Введение к материалам 3-го тома)
1. Основные вопросы 3-го тома 11
2. Программы педагогического курса женских учебных заведений 19
Материалы к 3-му тому «Педагогической антропологии»
Предисловие к 3-му тому 53
Г. Психические явления высшего порядка
I. Функции, отличающие человека от животных 58
1. Самосознание 58
2. Рассудок и разум 67
3. Мышление и речь 79
4. Свобода воли 125
II. Конкретные психические процессы высшего порядка 204
1. Идеи как формы теоретического приближения к истине 204
2. Эстетическое чувство как восприятие истины в образной форме 251
3. Нравственное чувство как осознание прекрасного в отношениях между людьми 278
4. Религия как исторически ранняя форма функционирования высшей психики 350
Д. Сжатый учебник педагогики
Наброски предисловия 364
I. О цели воспитания 369
II. Педагогические приложения к физиологической части
1. Замечания о физическом воспитании 374
2. О воспитании власти ребенка над его нервной организацией 374
3. Воспитание привычек и навыков 385
668
III. Педагогические приложения к общепсихологической части
1. О воспитании внешних чувств 401
2. О воспитании внимания 402
3. О воспитании памяти 410
4. О воспитании рассудка 449
5. Педагогические приложения глав о чувствах 476
6. О воспитании воли 540
IV. Педагогические приложения к специально-психологической части
1. О воспитании разума 579
2. О воспитании нравственности 593
3. О воспитании эстетических чувств 606
4. О религиозно-философском воспитании 611
V. Разные дидактические и методические заметки 615
1. О возрастах детства 615
2. Об изучении родного языка и языков 618
3. Об обучении чтению 620
4. О чтении детей 620
5. Об обучении разным предметам 621
Приложения
1. Личность. Очерк из феноменологии (незаконченная публицистическая статья К. Д. Ушинского) 625
2. Предисловие А. Н. Острогорского к «Материалам для III тома «Педагогической антропологии» 631
3. Оглавление «Материалов для III тома «Антропологии», изданных А. Н. Острогорским 634
4. Перечень хранящихся в архивах рукописей Ушинского к «Педагогической антропологии» 636
5. Перечень научной литературы, использованной К. Д. Ушинским в трех томах «Педагогической антропологии» 639
6. Примечания 645
Указатель имен 659
Редактор Н. А. Сундуков
Художеств. редактор Г. З. Гинзбург
Технич. редактор В. П. Гарнек
Корректор Е. М. Лидова
Текст сочинений К. Д. Ушинского сверен К. С. Мокринской
А08104. Подписано к печати 5/Х 1950 г. Уч.-изд. л. 31,75.
Бумага 82×1081/32 = 10.44 бум., 34,23 печ. л. Цена 15 руб.
Заказ № 1691.
***
Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова
Главполиграфиздата при совете Министров СССР.
Москва, Валовая, 28.
Азбука веры
Православная библиотека
Константин Дмитриевич Ушинский
Полное собрание сочинений в 11 томах
Пожертвовать
Вход
Константин Дмитриевич Ушинский
К. Д. Ушинский (1824–1871) – основоположник русской педагогической науки и народной школы России, создатель оригинальной, основанной на принципе народности педагогической системы, психолог, тонко понимавший особенности развития ребенка, замечательный дидакт, «учитель русских учителей». Он – автор книг, по которым обучались и воспитывались в течение многих десятилетий несколько поколений нашей родины, десятки миллионов детей.
• Том 1. Научная работа в Ярославском лицее. Статьи в журнале «Современник». Статьи в «Библиотеке для чтения». Статьи в «Вестнике Русского Географического Общества».
• Том 2. Статьи в «Журнале для воспитания». Статьи в журнале «Сын Отечества». Педагогические материалы Смольного института.
• Том 3. Статьи в «Журнале министерства народного просвещения». Статьи в газете «Голос». Статьи в журнале «Отечественные записки». Материалы служебные. Статьи в газете «С.-Петербургские ведомости». Статьи в журнале «Народная школа».
• Том 4. Детский мир и Хрестоматия.
• Том 5. Методические статьи и материалы к первому изданию «Детского мира». Методические статьи и материалы ко второму изданию «Детского мира». Статьи и материалы периода последней обработки «Детского мира».
• Том 6. Родное слово для детей младшего возраста. Год 1-й. Азбука и первая после азбуки книга для чтения. Родное слово для детей младшего возраста. Год 2-й. Вторая после азбуки книга для чтения. Родное слово. Книга для учащих.
• Том 7. Родное слово. Год 3-й. Руководство к преподаванию по «Родному слову».
• Том 8. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии. Том 1.
• Том 9. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии. Том 2.
• Том 10. О содержании и плане третьего тома «Педагогоческой антропологии». Материалы к третьему тому «Педагогической антропологии».
• Том 11. Материалы биографические и библиографические.
Источник: Собрание сочинений / К.Д. Ушинский ; Ред. коллегия: А.М. Еголин (глав. ред.), Е.Н. Медынский и В.Я. Струминский ; Акад. пед. наук РСФСР. Ин-т теории и истории педагогики. — Москва ; Ленинград : Акад. пед. наук РСФСР, 1948-1952 (М. : Образцовая тип.). — 11 т.
Наши Telegram-каналы
Комментарии для сайта Cackle
Main
Top
Interesting
500 ideas
Help
Follow us:
-
Follow us on Vkontakte
-
Follow us on Telegram
-
Follow us on Pinterest
-
Follow us on Odnoklassniki
Applications
-
iOS
-
Android
-
Huawei
COMPANY
-
About
-
News
-
Help
PRODUCTS
-
Checklists
-
Button «Share»
-
Media program
COMMUNITY
-
Afisha LJ
-
Frank
-
Stylish merch
CHOOSE LANGUAGE
-
Privacy Policy
-
User Agreement
-
Help
LiveJournal — v.643
?
LiveJournal
Top

-
Readability
-
kotbeber
Archive
Readability
Log in
No account?
Create an account
Remember me
Forgot password
If this type of authorization does not work for you, convert your account using the link
-
-
kotbeber
January 31 2021, 16:24
- Литература
- Cancel
К.Д. Ушинский. Собрание сочинений. Том 10. Материалы к третьему тому «Педагогической антропологии» — М.-Л.: Издательство Академии педагогических наук, 1950 — 668 с. 25000 экз.
константин ушинскийобложки книгсобрание сочинений

Печатается по постановлению. Совета Народных Комиссаров СССР
от 22 августа 1945 г.
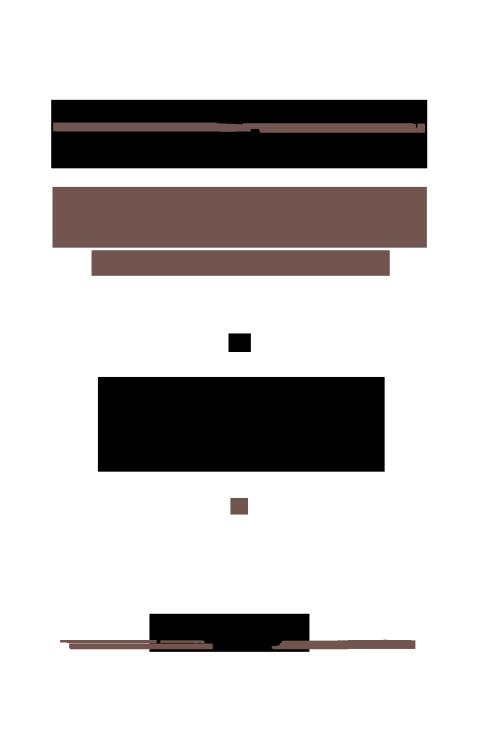
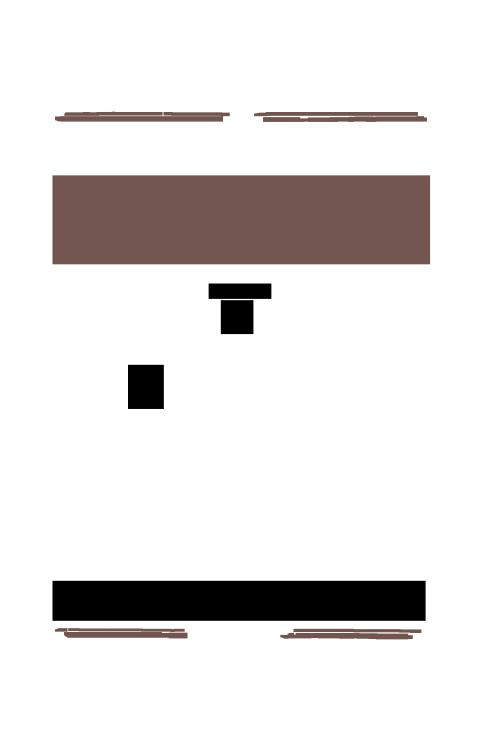
Подготовил к печати
В. Я. С m р у м и н с к и й
ОТ РЕДАКЦИИ
Перепечатываемая в настоящем томе учебная книга, изданная в 1861 г. К. Д. Ушинским под заглавием
|
«Детский |
мир |
и Хрестоматия», предназначалась |
им |
||
|
для классного |
чтения на уроках родного языка в |
||||
|
первых |
классах |
Смольного |
института. |
Книга |
вос- |
|
полнила |
весьма существенный |
недочет |
в учебных |
по- |
|
|
собиях для занятий по русскому языку, дав богатый |
и систематизированный материал для наглядных бесед с учащимися из области родной природы и истории. Потребность в такой книге ощущалась давно, но нужна была творческая работа педагога, каким былУшинский, чтобы удовлетворить назревшей потребности в новой, не схоластической постановке занятий родным языком.
Книга Ушинского имела громадный успех и получила широкое распространение в школах различных типов: в первом же году она выдержала три издания,- а затем почти ежегодно переиздавалась, несмотря на то, что уже с 1866 г. министерство просвещения отказалось рекомендовать ее для своих учебных заведений.
Всоответствии с постепенно уяснявшимся опытом
ипотребностями преподавания в разных школах, первые издания книги Ушинского тщательно им перерабатывались, так что текст ее в основном установился только в пятом издании; последним же, «окончательно исправленным и дополненным», вышедшим при жизни
Ушинского изданием «Детского мира», было издание десятое (1870 г.). С этого издания и перепечатывается текст настоящего, четвертого, тома с теми рисунками, которыми была иллюстрирована книга, начиная с пятого ее издания.
Составленная Ушинским книга для чтения состоит из собственно «Детского мира», в котором основными являются отделы — «Из природы», «Из русской истории», «Из географии»,—и из литературно-художе- ственной «Хрестоматии», в которой впервые широко привлечены для чтения в классе произведений литературы первой половины XIX в.
Основную задачу своей книги Ушинский видел
втом, чтобы дать учащимся начальных классов школы
вкачестве материала для чтения тот цикл элементарных знаний о природе, географии и отечественной истории, которым должен овладеть каждый грамотный человек и который ‘должен составить основу общеобразовательного курса школы. В соответствии с этим, излагая, например, данные естествознания, Ушинский группировал их так, чтобы учащиеся систематически уясняли единство строения животного и растительного мира и единство состава органической и неорганической природы. Такой обработкой материала логически подготовлялся научный вывод о естественном происхождении человека и его полном подчинении закономерностям природы. Точно так же, излагая в доступной для детей форме данные по физической географии и астрономии, рассказывая биографии Коперника, Галилея, Ньютона, Ушинский тем самым подготовлял почву для научного представления о всем мироздании.
|
Однакоже эта научная точка зрения не |
выдержи- |
||||
|
вается |
в |
изложении |
автора |
до конца. |
Отдавая |
|
дань |
религиозному |
и идеалистическому |
мировоз- |
||
|
зрению, |
Ушинский |
пытался |
сочетать |
мысль о |
|
строгой закономерности природы |
с идеей |
бога |
|
|
как творца и законодателя |
мира. |
Многие |
статьи |
|
«Детского мира» заканчиваются |
восторженными |
лири- |
6
ческими восклицаниями о благости и премудрости творца мира, об удивительной и необъяснимой целесообразности явлений природы, хотя в большинстве случаев эти концовки звучат наивно и логически совершенно не вяжутся с основным естественно-научным содержанием статей (см. статьи: «Кленовое семечко», «Размножение растений», «Железо», «Воздух», «Гранитный валун», «Ручей» и др.). Такими же мистикоидеалистическими, религиозными статьями Ушинский завершает естественно-научные разделы книги (см. статьи: «Чудный домик», «Сотворение человека»). Даже в подборе литературно-художественных произведений для «Хрестоматии» часто обнаруживаются религиозномистические тенденции автора (см. статьи: «Капитан Боп» Жуковского, «Гостиница в степи», «Истиннохристианская жизнь», «Смерть и сон» и др.).
Эта двойственность мировоззрения Ушинского отмечена давно не только в содержании его книги для чтения, но и в его научно-педагогических произведениях. Пытались найти ей то или иное объяснение, но бесспорным нужно признать то, что, хотя Ушинский и вступил на путь естественно-научного мышления, но от^ элементов религиозного и идеалистического мировоззрения он еще не сумел освободиться. Эти пережитки не устраняют однакоже самого факта, что в основном книга для чтения построена на естественно-научном материале, развивавшем самостоятельное мышление ребенка. Вот почему реакционные современники Ушинского со дня выхода книги не переставали выступать с обвинениями, что его книга воспитывает у учащихся материалистическое мировоззрение и ведет к атеизму.
Статьи по русской истории, даваемые К. Д. Ушинским в «Детском мире», не соответствуют научным принципам советской историографии. Ушинский, понятно, пользовался теми наиболее известными историческими работами, которые существовали в его время и являются уже давно устаревшими (например, История H. М. Карамзина).
В методическом отношении книга Ушинекого обладает большими достоинствами и разработана с исключительным педагогическим уменьем. Книга построена на основе наглядное™ и систематического возбуждения самостоятельного мышления учащихся. Во всей книге с замечательной последовательностью выдержан принцип расположения материала от легкого и простого к трудному и сложному. «Каждая отдельная статья, по словам известного педагога, Д. Семенова, представляет собой одно законченное целое; вместе с тем текст ее связан с последующей, вводя в сознание детей одно или два понятия; однородные сведения нескольких статей тотчас же сводятся к определенному выводу, классификации явления или закону». С этой специально педагогической стороны книга Ушинекого является замечательным произведением русской литературы, предназначенной для начального обучения, и внимательное ее изучение может дать многое также и авторам советских учебных книг.
Методические основы своей книги Ушинский из-
|
лагал |
в предисловиях к ее первым |
изданиям |
и |
в раз- |
|||
|
ных других статьях. Выпуская пятое |
издание |
своей |
|||||
|
книги, |
он |
снял |
все методические |
указания, |
предна- |
||
|
значенные |
для |
учителя, предполагая |
разработать их |
||||
|
в виде |
отдельного методического |
руководства |
к |
пре- |
подаванию по «Детскому миру» и издать отдельной книгой. С течением времени задача эта отпала, методические же указания к «Детскому миру», разбросанные, необъединенные и вновь не перепечатываемые, постепенно забывались. Эти методические указания вместе с вариантами различных обработок книги, а равно и со справочными материалами, необходимыми для изучения и оценки книги Ушинекого в целом, составят содержание следующего, пятого тома.
|
Д |
е т с к |
и й |
ж и |
р |
|
и |
X р е c m о л г а m u |
я |
||
|
Ч а с т ь |
п е р б а я |
|||
|
— з : с — |












