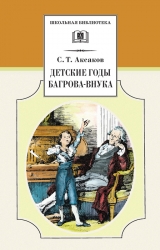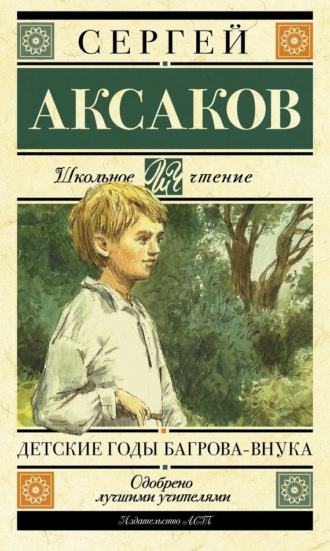Егораева Г. Т. ЕГЭ 2017. 1000 заданий с ответами по русскому языку
ЗАДАНИЕ 19
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.
1. Впереди показалась широкая река (1) и (2) когда всадники подъехали (3) и спешились (4) то увидели (5) что мост снесло наводнением.
Ответ: _______.
2. Альпинисты поняли (1) что (2) если вьюга не утихнет (3) им придётся возвращаться в базовый лагерь (4) так как сильные порывы ветра мешали продвигаться по отвесной скале.
Ответ: _______.
3. Утверждают (1) что бразильские карнавалы восхищают и завораживают (2) и (3) когда мы впервые увидели его неповторимую яркую красоту (4) то сами убедились (5) насколько правы были очевидцы.
Ответ: _______.
4. Утренняя тишина была такой (1) что (2) если на озере сонно вскрикивала птица (3) её крик гулким эхом отзывался по всему (4) ещё не проснувшемуся лесу.
Ответ: _______.
5. Поезд опаздывал почти на час (1) и (2) когда показались заветные огни родного городка (3) то Анне подумалось (4) что они ей приветливо подмигивают.
Ответ: _______.
6. Вода в круглых окнах-колодцах казалась неподвижной (1) но (2) если приглядеться (3) то можно было увидеть (4) как из глубины оконца всё время подымается тихая струя (5) и в ней вертятся сухие листики брусники.
Ответ: _______.
7. Иногда кажется (1) что (2) если разбежаться с высокой горы (3) раскинув руки (4) то можно легко взлететь.
Ответ: _______.
8. Мне нравились её глаза (1) голубые и кроткие (2) и (3) хотя около этих глаз уже виднелись морщинки (4) но взгляд их был так простодушен (5) так весел и добр (6) что как-то особенно приятно было встречаться с ними.
Ответ: _______.
9. Я думаю (1) что (2) когда заключённые увидят лестницу (3) ведущую на свободу (4) то многие захотят бежать.
Ответ: _______.
10. Слепой знал (1) что в комнату смотрит солнце (2) и (3) что (4) если он протянет руку в окно (5) то с кустов осыплется (6) сверкающая от дождя (7) роса.
Ответ: _______.
11. Блокадный Ленинград стал символом несгибаемой стойкости и мужества (1) и (2) когда Международному трибуналу были продемонстрированы фотографии (3) на которых умирающие от голода дети делали снаряды для фронта (4) то многие отказывались верить (5) что такое возможно.
Ответ: _______.
12. Командир решил вести отряд в обход (1) потому что (2) если по курсу их движения была засада (3) то следовало обойти врага (4) и ударить ему в тыл.
Ответ: _______.
13. Старый охотник резонно заметил (1) что (2) если продукты не упрятать в большую железную бочку (3) медведь-шатун (4) злой и голодный (5) преодолеет страх перед человеком и явится пообедать.
Ответ: _______.
14. На войне бойцы знали (1) что (2) если у фашистов будет отвоёван очередной город (3) то это (4) конечно (5) прибавит сил труженикам тыла.
Ответ: _______.
15. Петька очень боялся идти в воду (1) но (2) когда вошёл (3) то не хотел вылезать из неё (4) и делал вид (5) что плавает.
Ответ: _______.
16. Он работал больше других (1) но (2) когда вставал вопрос о премии (3) его всегда обходили стороной (4) предпочитая награждать других.
Ответ: _______.
17. Птенец неловко спрыгнул с ветки (1) и ударился грудью (2) и (3) когда я его поднял (4) то почувствовал (5) как сильно стучит маленькое сердечко.
Ответ: _______.
18. Из-за Эльбруса выползла чёрная туча (1) и (2) прежде чем туристы успели вернуться в базовый лагерь (3) блеснула ослепительная молния(4) оглушительно треснуло небо(5) и застучали крупные капли дождя.
Ответ: _______.
19. Мороз усиливался (1) и (2) когда Сашка проходил в светлом круге (3) который образовался от зажжённого фонаря (4) он видел медленно реявшие в воздухе маленькие сухие снежинки.
Ответ: _______.
20. Внезапно лошадь встала на дыбы (1) и (2) прежде чем всадник успел что-то сообразить (3) она резко рванулась в сторону (4) сбросив незадачливого седока.
Ответ: _______.
21. За огородом следовали крестьянские избы (1) которые (2) хотя были построены врассыпную (3) но показывали довольство своих обитателей.
Ответ: _______.
22. Мальчишка понуро побрёл к калитке (1) и (2) хотя Ирине Андреевне было до слёз жаль его (3) но она с сердитым выражением лица крикнула ему вслед (4) чтобы впредь он не появлялся в её доме.
Ответ: _______.
23. Учёные уверяют (1) что (2) когда человечество достигнет вершин научно-технического прогресса (3) то оно может стать бессмертным (4) так как изобретёт средства борьбы с любой болезнью.
Ответ: _______.
24. Микеланджело многие современники считали равным Богу (1) и (2) когда он умер (3) некоторые художники придавали святым портретное сходство с великим мастером (4) чей гений так и остался непревзойдённым.
Ответ: _______.
25. Астрономы считают (1) что (2) хотя кометы (3) астероиды (4) и метеориты стороной облетают нашу Землю (5) никак нельзя утверждать (6) что когда-нибудь столкновения не произойдёт.
Ответ: _______.
26. В аудитории стояла невыносимая жара (1) и духота (2) и(3) хотя лектор старался привлечь внимание слушателей интересными фактами (4) это ему совсем не удавалось.
Ответ: _______.
27. Всю ночь моряки тушили пожар (1) и (2) когда рассвело (3) они поняли (4) какой подвиг совершили (5) спасая корабль и самих себя.
Ответ: _______.
28. Мы плывём уже в открытом море (1) но (2) если приглядеться (3) на горизонте ещё видна земля (4) кажущаяся тонкой линией.
Ответ: _______.
29. Крепкий был человек Гуляев (1) и (2) когда он вернулся на Урал (3) за ним тянулась блестящая слава миллионера.
Ответ: _______.
30. Лиза пошла безлюдной площадью (1) и (2) когда ноги её стали тяжело срываться с круглых лысин булыжника (3) она вспомнила (4) как возвращалась этой площадью (5) солнечным днём после первой встречи с Цветухиным.
Ответ: _______.
31. Об удивительной доброте Ильи Петровича можно судить только по тому (1) что (2) когда случилось землетрясение в Спитаке (3) он взял на воспитание троих искалеченных детей (4) и всех их буквально вернул с того света своей заботой (5) и любовью.
Ответ: _______.
32. Старый колдун знал (1) что (2) когда зацветёт чертополох (3) и (4) созреют семена дурмана (5) он сможет приготовить варево (6) которое спасёт раненого зверя.
Ответ: _______.
33. Женщина достала фотографию (1) на которой (2) если приглядеться (3) можно было увидеть её (4) молодую и красивую (5) стоящую рядом с высоким военным.
Ответ: _______.
34. Было тихо (1) и (2) когда внезапно на болоте крикнула выпь (3) чем-то испуганная (4) то мы (5) невольно (6) вздрогнули.
Ответ: _______.
35. Смех в гостиной звучал всё громче и громче (1) и (2) когда Сашка заглянул в неё (3) то он увидел картину (4) совершенно его поразившую.
Ответ: _______.
36. Но в этом болоте невозможно было долго стоять (1) потому что (2) когда в первые морозы оно покрылось слоем льда (3) вода подо льдом понизилась (4) и так образовался лёд-тощак.
Ответ: _______.
37. Идти пришлось долго (1) и (2) когда он подходил к дому (3) то еле держался на ногах от усталости (4) сковавшей его тело.
Ответ: _______.
38. Прокофьев, одеваясь на ощупь в кромешной темноте, говорил (1) что писательство — самое тяжёлое и заманчивое занятие в мире (2) и (3) что (4) если бы он не был геологом (5) то наверняка бы сделался писателем.
Ответ: _______.
39. Девушки тихо пели (1) и (2) хотя слова песни трудно было понять (3) но звучала в ней такая нежность (4) и боль (5) что невольно наворачивались слёзы.
Ответ: _______.
40. Сияя в блеске солнца (1) море точно улыбалось добродушной улыбкой Гулливера (2) сознающего (3) что (4) если он захочет (5) то одно движение — и работа лилипутов исчезнет.
Ответ: _______.
41. Дня три дело валилось у него из рук (1) но (2) когда до него дошёл слух (3) что Екатерина Ивановна уехала в Москву поступать в консерваторию (4) он успокоился и зажил по-прежнему.
Ответ: _______.
42. Акбара держала Ташчайнара на расстоянии (1) и (2) сколько он ни выл (3) ни разу не откликнулась (4) будто он и не был её волком и (5) будто он для неё не существовал.
Ответ: _______.
43. Волчата уже держали стоймя уши (1) обретали каждый свой норов (2) и (3) хотя при играх между собой их уши снова по-щенячьи топырились (4) но на ногах они чувствовали себя довольно крепко.
Ответ: _______.
44. Бабушка хотела напоить нас чаем с густыми жирными сливками и сдобными кренделями (1) но мать сказала (2) что она сливок и жирного нам не даёт (3) и что мы чай пьём постный (4) вместо же сдобных кренделей просила дать обыкновенного белого хлеба.
Ответ: _______.
45. Я люблю эту бедную природу (1) наверное (2) потому (3) что (4) какова она ни есть (5) она всё-таки принадлежит мне.
Ответ: _______.
46. Чувствуется (1) что (2) когда Пушкин собирал материал к своей истории Пугачёва (3) и писал её (4) он и в этом случае оставался прежде всего поэтом.
Ответ: _______.
47. Бенджамин Франклин (1) смеясь (2) уверял (3) что (4) если бы мошенники знали все преимущества честности (5) то они ради выгоды перестали бы мошенничать.
Ответ: _______.
48. Проехать было очень трудно (1) потому что (2) хотя полая вода и пошла на убыль (3) но она всё ещё высоко стояла (4) и нам пришлось ехать кругом.
Ответ: _______.
49. Вода уже так сбыла (1) что в обыкновенных местах доставала не выше колена (2) но зато во всех ямах и канавках (3) которые в летнее время высыхали (4) и которые окружали кухню (5) глубина была ещё значительна.
Ответ: _______.
50. Обед прошёл грустно (1) и (2) как только встали из-за стола (3) и (4) батюшка благословил нас (5) отец опять ушёл.
Ответ: _______.
51. Несправедливость оскорбления я понял уже в зрелых годах (1) а тогда я поверил (2) что мать говорит совершенную истину (3) и что у моего отца мало чувств (4) что он не умеет так любить (5) как мы с маменькой любим.
Ответ: _______.
52. Когда слила полая вода (1) и река пришла в своё летнее русло (2) даже прежде (3) чем вода совершенно прояснилась (4) все дворовые начали уже удить.
Ответ: _______.
53. В прошлом лете я не брал в руки удочки (1) и (2) хотя настоящая весна так сильно подействовала на меня новыми и чудными своими явлениями (3) мне не терпелось поудить рыбу (4) которой было великое множество.
Ответ: _______.
54. Мне тоже захотелось выудить что-нибудь покрупнее (1) и (2) хотя Евсеич уверял (3) что мне хорошей рыбы не вытащить (4) но я упросил его дать мне удочку побольше и также насадить большой кусок.
Ответ: _______.
55. На тенистом острове сначала матери понравилось (1) и (2) чтобы сидеть на берегу реки (3) она приказала принести большую кожу (4) потому что никогда не садилась прямо на большую траву (5) говоря (6) что от неё сыро (7) и что в ней множество насекомых.
Ответ: _______.
56. Мне сказали (1) что (2) как только заканчивается косьба (3) галки и вороны подбирают разных букашек (4) которые прежде скрывались в густой траве.
Ответ: _______.
57. Мне так было весело на сенокосе (1) что (2) хотя отец уже звал меня (3) мне не хотелось даже ехать домой (4) так что ему пришлось взять меня на руки и усадить в телегу.
Ответ: _______.
58. Опыты научили меня (1) что мать не любит рассказов о полевых крестьянских работах (2) о которых она знала только понаслышке (3) а (4) если и видела (5) то как-нибудь мельком или издали.
Ответ: _______.
59. Дворовая девка Параша слушала неравнодушно (1) и (2) когда дело дошло до колотого сахару (3) то она вспыхнула и сказала (4) что даже столбовые дворянки его крадут.
Ответ: _______.
60. Мы с отцом хотели подойти к тётушке (1) собирающей грибы (2) но она не допустила нас близко (3) говоря (4) что это её грузди (5) и что она нашла их.
Ответ: _______.
6
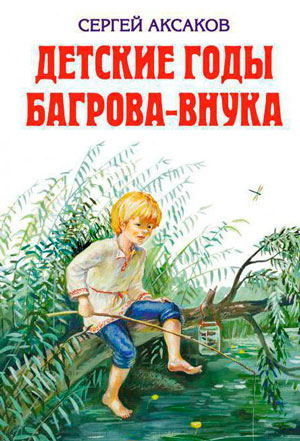
- Полный текст
- К читателям
- Вступление
- Отрывочные воспоминания
- Последовательные воспоминания
- Дорога до Парашина
- Парашино
- Дорога из Парашина в Багрово
- Багрово
- Пребывание в Багрове без отца и матери
- Зима в Уфе
- Сергеевка
- Возвращение в Уфу к городской жизни
- Зимняя дорога в Багрово
- Багрово зимой
- Уфа
- Приезд на постоянное житье в Багрово
- Чурасово
- Багрово после Чурасова
- Первая весна в деревне
- Летняя поездка в Чурасово
- Осенняя дорога в Багрово
- Жизнь в Багрове после кончины бабушки
- Примечания
Первая весна в деревне
В середине Великого поста, именно на середокрестной неделе, наступила сильная оттепель. Снег быстро начал таять, и везде показалась вода. Приближение весны в деревне производило на меня необыкновенное раздражающее впечатление. Я чувствовал никогда не испытанное мною, особого рода волнение. Много содействовали тому разговоры с отцом и Евсеичем, которые радовались весне, как охотники, как люди, выросшие в деревне и страстно любившие природу, хотя сами того хорошенько не понимали, не определяли себе и сказанных сейчас мною слов никогда не употребляли. Находя во мне живое сочувствие, они с увлеченьем предавались удовольствию рассказывать мне: как сначала обтают горы, как побегут с них ручьи, как спустят пруд, разольется полая вода, пойдет вверх по полоям рыба, как начнут ловить ее вятелями и мордами; как прилетит летняя птица, запоют жаворонки, проснутся сурки и начнут свистать, сидя на задних лапках по своим сурчинам; как зазеленеют луга, оденется лес, кусты и зальются, защелкают в них соловьи… Простые, но горячие слова западали мне глубоко в душу, потрясали какие-то неведомые струны и пробуждали какие-то неизвестные томительные и сладкие чувства. Только нам троим, отцу, мне и Евсеичу, было не грустно и не скучно смотреть на почерневшие крыши и стены строений и голые сучья дерев, на мокреть и слякоть, на грязные сугробы снега, на лужи мутной воды, на серое небо, на туман сырого воздуха, на снег и дождь, то вместе, то попеременно падавшие из потемневших низких облаков. Заключенный в доме, потому что в мокрую погоду меня и на крыльцо не выпускали, я тем не менее следил за каждым шагом весны. В каждой комнате, чуть ли не в каждом окне, были у меня замечены особенные предметы или места, по которым я производил мои наблюдения: из новой горницы, то есть из нашей спальни, с одной стороны виднелась Челяевская гора, оголявшая постепенно свой крутой и круглый взлобок, с другой — часть реки давно растаявшего Бугуруслана, с противоположным берегом; из гостиной чернелись проталины на Кудринской горе, особенно около круглого родникового озера, в котором мочили конопли; из залы стекленелась лужа воды, подтоплявшая грачовую рощу; из бабушкиной и тетушкиной горницы видно было гумно на высокой горе и множество сурчин по ней, которые с каждым днем освобождались от снега. Шире, длиннее становились грязные проталины, полнее наливалось озеро в роще, и, проходя сквозь забор, уже показывалась вода между капустных гряд в нашем огороде. Всё замечалось мною точно и внимательно, и каждый шаг весны торжествовался, как победа! С утра до вечера бегал я из комнаты в комнату, становясь на свои наблюдательные сторожевые места. Чтенье, письмо, игры с сестрой, даже разговоры с матерью — всё вылетело у меня из головы. О том, чего не мог видеть своими глазами, получал я беспрестанные известия от отца, Евсеича, из девичьей и лакейской. «Пруд посинел и надулся, ездить по нем опасно, мужик с возом провалился, подпруда подошла под водяные колеса, молоть уж нельзя, пора спускать воду; Антошкин овраг ночью прошел, да и Мордовский напружился и почернел, скоро никуда нельзя будет проехать; дорожки начали проваливаться, в кухню не пройдешь. Мазан провалился с миской щей и щи пролил, мостки снесло, вода залила людскую баню», — вот что слышал я беспрестанно, и неравнодушно принимались все такие известия. Грачи давно расхаживали по двору и начали вить гнезда в грачовой роще; скворцы и жаворонки тоже прилетели. И вот стала появляться настоящая птица, дичь, по выражению охотников. Отец с восхищением рассказывал мне, что видел лебедей, так высоко летевших, что он едва мог разглядеть их, и что гуси потянулись большими станицами. Евсеич видел нырков и кряковых уток, опустившихся на пруд, видел диких голубей по гумнам, дроздов и пигалиц около родников… Сколько волнений, сколько шумной радости! Вода сильно прибыла. Немедленно спустили пруд — и без меня. Погода была слишком дурна, и я не смел даже проситься. Рассказы отца отчасти удовлетворили моему любопытству. С каждым днем известия становились чаще, важнее, возмутительнее! Наконец Евсеич с азартом объявил, что «всякая птица валом валит, без перемежки!» Переполнилась мера моего терпенья. Невозможно стало для меня всё это слышать и не видеть, и с помощью отца, слез и горячих убеждений выпросил я позволенья у матери, одевшись тепло, потому что дул сырой и пронзительный ветер, посидеть на крылечке, выходившем в сад, прямо над Бугурусланом. Внутренняя дверь еще не была откупорена. Евсеич обнес меня кругом дома на руках, потому что везде была вода и грязь. В самом деле, то происходило в воздухе, на земле и на воде, чего представить себе нельзя, не видавши, и чего увидеть теперь уже невозможно в тех местах, о которых я говорю, потому что нет такого множества прилетной дичи. Река выступила из берегов, подняла урему на обеих сторонах и, захватив половину нашего сада, слилась с озером грачовой рощи. Все берега полоев были усыпаны всякого рода дичью; множество уток плавало по воде между верхушками затопленных кустов, а между тем беспрестанно проносились большие и малые стаи разной прилетной птицы: одни летели высоко, не останавливаясь, а другие — низко, часто опускаясь на землю; одни стаи садились, другие поднимались, третьи перелетывали с места на место: крик, писк, свист наполнял воздух. Не зная, какая это летит или ходит птица, какое ее достоинство, какая из них пищит или свистит, я был поражен, обезумлен таким зрелищем. Отец и Евсеич, которые стояли возле меня, сами находились в большом волненье. Они указывали друг другу на птицу, называли ее по имени, отгадывая часто по голосу, потому что только ближнюю можно было различить и узнать по перу. «Шилохвостя, шилохвостя-то сколько! — говорил торопливо Евсеич. — Эки стаи! А кряковны-то! батюшки, видимо-невидимо!» — «А слышишь ли, — подхватывал мой отец, — ведь это степняги, кроншнепы заливаются! Только больно высоко. А вот сивки играют над озимями, точно… туча! Веретенников-то сколько! а турухтанов-то — я уже и не видывал таких стай!» — Я слушал, смотрел и тогда ничего не понимал, что вокруг меня происходило: только сердце то замирало, то стучало, как молотком; но зато после всё представлялось, даже теперь представляется мне ясно и отчетливо, доставляло и доставляет неизъяснимое наслаждение!.. и всё это понятно вполне только одним охотникам! Я и в ребячестве был уже в душе охотник, и потому можно судить, что я чувствовал, когда воротился в дом! Я казался, я должен был казаться каким-то полоумным, помешанным; глаза у меня были дикие, я ничего не видел, ничего не слышал, что со мной говорили. Я держался за руку отца, пристально смотрел ему в глаза и с ним только мог говорить, и только о том, что мы сейчас видели. Мать сердилась и грозила, что не будет пускать меня, если я не образумлюсь и не выброшу сейчас из головы уток и куликов. Боже мой, да разве можно было это сделать!.. Вдруг грянул выстрел под самыми окнами, я бросился к окошку и увидел дымок, расходящийся в воздухе, стоящего с ружьем Филиппа (старый сокольник) и пуделя Тритона, которого все звали «Трентон», который, держа во рту за крылышко какую-то птицу, выходил из воды на берег. Скоро Филипп пришел с своей добычей: это был кряковный селезень, как мне сказали, до того красивый пером, что я долго любовался им, рассматривая его бархатную зеленую голову и шею, багряный зоб и темно-зеленые косички в хвосте.
Мало-помалу привык я к наступившей весне и к ее разнообразным явлениям, всегда новым, потрясающим и восхитительным; говорю привык, в том смысле, что уже не приходил от них в исступление. Погода становилась теплая, мать без затруднения пускала меня на крылечко и позволяла бегать по высохшим местам; даже сестрицу отпускала со мной. Всякий день кто-нибудь из охотников убивал то утку, то кулика, а Мазан застрелил даже дикого гуся и принес к отцу с большим торжеством, рассказывая подробно, как он подкрался камышами, в воде, по горло, к двум гусям, плававшим на материке пруда, как прицелился в одного из них, и заключил рассказ словами: «Как ударил, так и не ворохнулся!» Всякий день также стал приносить старый грамотей Мысеич разную крупную рыбу: щук, язей, голавлей, линей и окуней. Я любил тогда рыбу больше, чем птиц, потому что знал и любил рыбную ловлю, то есть уженье; каждого большого линя, язя или голавля воображал я на удочке, представляя себе, как бы он стал биться и метаться и как было бы весело вытащить его на берег.
Несмотря, однако же, на все предосторожности, я как-то простудился, получил насморк и кашель и, к великому моему горю, должен был оставаться заключенным в комнатах, которые казались мне самою скучною тюрьмою, о какой я только читывал в своих книжках; а как я очень волновался рассказам Евсеича, то ему запретили доносить мне о разных новостях, которые весна беспрестанно приносила с собой; к тому же мать почти не отходила от меня. Она сама была не совсем здорова. В первый день напала на меня тоска, увеличившая мое лихорадочное состояние, но потом я стал спокойнее и целые дни играл, а иногда читал книжку с сестрицей, беспрестанно подбегая, хоть на минуту, к окнам, из которых виден был весь разлив полой воды, затопившей огород и половину сада. Можно было даже разглядеть и птицу, но мне не позволяли долго стоять у окошка. Скорому выздоровлению моему мешала бессонница, которая, бог знает отчего, на меня напала. Это расстроивало сон моей матери, которая хорошо спала только с вечера. По совету тетушки, для нашего усыпления позвали один раз ключницу Пелагею, которая была великая мастерица сказывать сказки и которую даже покойный дедушка любил слушать. Мать и прежде знала об этом, но она не любила ни сказок, ни сказочниц и теперь неохотно согласилась. Пришла Пелагея, не молодая, но еще белая, румяная и дородная женщина, помолилась богу, подошла к ручке, вздохнула несколько раз, по своей привычке всякий раз приговаривая: «господи помилуй нас, грешных», села у печки, подгорюнилась одною рукой и начала говорить, немного нараспев: «В некиим царстве, в некиим государстве…» Это вышла сказка под названием «Аленький цветочек».[43] Нужно ли говорить, что я не заснул до окончания сказки, что, напротив, я не спал долее обыкновенного? Сказка до того возбудила мое любопытство и воображение, до того увлекла меня, что могла бы вылечить от сонливости, а не от бессонницы. Мать заснула сейчас; но, проснувшись через несколько часов и узнав, что я еще не засыпал, она выслала Пелагею, которая разговаривала со мной об «Аленьком цветочке», и сказыванье сказок на ночь прекратилось очень надолго. Это запрещенье могло бы сильно огорчить меня, если б мать не позволила Пелагее сказывать иногда мне сказки в продолжение дня.
На другой же день выслушал я в другой раз повесть об «Аленьком цветочке». С этих пор, до самого моего выздоровленья, то есть до середины страстной недели, Пелагея ежедневно рассказывала мне какую-нибудь из своих многочисленных сказок. Более других помню я «Царь-девицу», «Иванушку-дурачка», «Жар-птицу» и «Змея-Горыныча». Сказки так меня занимали, что я менее тосковал об вольном воздухе, не так рвался к оживающей природе, к разлившейся воде, к разнообразному царству прилетевшей птицы. В страстную субботу мы уже гуляли с сестрицей по высохшему двору. В этот день мой отец, тетушка Татьяна Степановна и тетушка Александра Степановна, которая на то время у нас гостила, уехали ночевать в Неклюдово, чтобы встретить там в храме божием светлое Христово воскресенье. Проехать было очень трудно, потому что полая вода хотя и пошла на убыль, но всё еще высоко стояла; они пробрались по плотине в крестьянских телегах и с полверсты ехали полоями; вода хватала выше колесных ступиц, и мне сказывали провожавшие их верховые, что тетушка Татьяна Степановна боялась и громко кричала, а тетушка Александра Степановна смеялась. Я слышал, как Параша тихо сказала Евсеичу: «Эта чего испугается!» — и дивился тетушкиной храбрости. С четверга на страстной начали красить яйца: в красном и синем сандале,[44] в серпухе[45] и луковых перьях; яйца выходили красные, синие, желтые и бледно-розового, рыжеватого цвета. Мы с сестрицей с большим удовольствием присутствовали при этом крашенье. Но мать умела мастерски красить яйца в мраморный цвет разными лоскутками и шемаханским шелком. Сверх того, она с необыкновенным искусством простым перочинным ножичком выскабливала на красных яйцах чудесные узоры, цветы и слова: «Христос воскрес». Она всем приготовила по такому яичку, и только я один видел, как она над этим трудилась. Мое яичко было лучше всех, и на нем было написано: «Христос воскрес, милый друг Сереженька!» Матери было очень грустно, что она не услышит заутрени светлого Христова воскресенья, и она удивлялась, что бабушка так равнодушно переносила это лишенье; но бабушке, которая бывала очень богомольна, как-то ни до чего уже не было дела.
Я заснул в обыкновенное время, но вдруг отчего-то ночью проснулся: комната была ярко освещена, кивот с образами растворен, перед каждым образом, в золоченой ризе, теплилась восковая свеча, а мать, стоя на коленях, вполголоса читала молитвенник, плакала и молилась. Я сам почувствовал непреодолимое желанье помолиться вместе с маменькой и попросил ее об этом. Мать удивилась моему голосу и даже смутилась, но позволила мне встать. Я проворно вскочил с постели, стал на коленки и начал молиться с неизвестным мне до тех пор особого рода одушевленьем; но мать уже не становилась на колени и скоро сказала: «Будет, ложись спать». Я прочел на лице ее, услышал в голосе, что помешал ей молиться. Я из всех сил старался поскорее заснуть, но не скоро утихло детское мое волненье и непостижимое для меня чувство умиленья. Наконец мать, помолясь, погасила свечки и легла на свою постель. Яркий свет потух, теплилась только тусклая лампада; не знаю, кто из нас заснул прежде. К большой моей досаде, я проснулся довольно поздно: мать была совсем одета; она обняла меня и, похристосовавшись заранее приготовленным яичком, ушла к бабушке. Вошел Евсеич, также похристосовался со мной, дал мне желтое яичко и сказал: «Эх, соколик, проспал! Ведь я говорил тебе, что надо посмотреть, как солнышко на восходе играет и радуется Христову воскресенью». Мне самому было очень досадно; я поспешил одеться, заглянул к сестрице и братцу, перецеловал их и побежал в тетушкину комнату, из которой видно было солнце, и, хотя оно уже стояло высоко, принялся смотреть на него сквозь мои кулаки. Мне показалось, что солнышко как будто прыгает, и я громко закричал: «Солнышко играет! Евсеич правду сказал». Мать вышла ко мне из бабушкиной горницы, улыбнулась моему восторгу и повела меня христосоваться к бабушке. Она сидела в шелковом платке и шушуне на дедушкиных креслах; мне показалось, что она еще более опустилась и постарела в своем праздничном платье. Бабушка не хотела разгавливаться до полученья петой пасхи и кулича, но мать сказала, что будет пить чай со сливками, и увела меня с собою.
Отец с тетушками воротился еще до полдён, когда нас с сестрицей только что выпустили погулять. Назад проехали они лучше, потому что воды в ночь много убыло; они привезли с собой петые пасхи, куличи, крутые яйца и четверговую соль. В зале был уже накрыт стол; мы все собрались туда и разговелись. Правду сказать, настоящим-то образом разгавливались бабушка, тетушки и отец: мать постничала одну страстную неделю (да она уже и пила чай со сливками), а мы с сестрицей — только последние три дня; но зато нам было голоднее всех, потому что нам не давали обыкновенной постной пищи, а питались мы ухою из окуней, медом и чаем с хлебом. Для прислуги была особая пасха и кулич. Вся дворня собралась в лакейскую и залу; мы перехристосовались со всеми; каждый получил по кусочку кулича, пасхи и по два красных яйца, каждый крестился и потом начинал кушать. Я заметил, что наш кулич был гораздо белее того, каким разгавливались дворовые люди, и громко спросил: «Отчего Евсеич и другие кушают не такой же белый кулич, как мы?» Александра Степановна с живостью и досадой отвечала мне: «Вот еще выдумал! едят и похуже». Я хотел было сделать другой вопрос, но мать сказала мне: «Это не твое дело». Через час после разгавливанья пасхою и куличом приказали подавать обед, а мне с сестрицей позволили еще побегать по двору, потому что день был очень теплый, даже жаркий. Дворовые мальчишки и девочки, несколько принаряженные, иные хоть тем, что были в белых рубашках, почище умыты и с приглаженными волосами, — все весело бегали и начали уже катать яйца, как вдруг общее внимание привлечено было двумя какими-то пешеходами, которые сойдя с Кудринской горы, шли вброд по воде, прямо через затопленную урему. В одну минуту сбежалась вся дворня, и вскоре узнали в этих пешеходах старого мельника Болтуненка и дворового молодого человека, Василья Петрова, возвращающихся от обедни из того же села Неклюдова. По безрассудному намерению пробраться полоями к летней кухне, которая соединялась высокими мостками с высоким берегом нашего двора, все угадали, что они были пьяны. Очевидно, что они хотели избежать длинного обхода на мельничную плотину. Конечно, вода уже так сбыла, что в обыкновенных местах доставала не выше колена, но зато во всех ямах, канавках и старицах, которые в летнее время высыхали и которые окружали кухню, глубина была еще значительна. Сейчас начались опасения, что эти люди могут утонуть, попав в глубокое место, что могло бы случиться и с трезвыми людьми; дали знать отцу. Он пришел, увидел опасность и приказал как можно скорее заложить лошадь в роспуски и привезть лодку с мельницы, на которой было бы не трудно перевезти на берег этих безумцев. Болтуненок и Васька Рыжий (как его обыкновенно звали), распевая громко песни, то сходясь вместе, то расходясь врозь, потому что один хотел идти налево, а другой — направо, подвигались вперед: голоса их становились явственно слышны. Вся толпа дворовых, к которым беспрестанно присоединялись крестьянские парни и девки, принимала самое живое участие: шумела, смеялась и спорила между собой. Одни говорили, что беды никакой не будет, что только выкупаются, что холодная вода выгонит хмель, что везде мелко, что только около кухни в старице будет по горло, но что они мастера плавать; а другие утверждали, что, стоя на берегу, хорошо растабарывать, что глубоких мест много, а в старице и с руками уйдешь; что одежа на них намокла, что этак и трезвый не выплывет, а пьяные пойдут как ключ ко дну. Забывая, что хотя слышны были голоса, а слов разобрать невозможно, все принялись кричать и давать советы, махая изо всей мочи руками: «Левее, правее, сюда, туда, не туда» и проч. Между тем пешеходы, попав несколько раз в воду по пояс, а иногда и глубже, в самом деле как будто отрезвились, перестали петь и кричать и молча шли прямо вперед. Вдруг почему-то они переменили направленье и стали подаваться влево, где текла скрытая под водою, так называемая новенькая, глубокая тогда канавка, которую можно только было различить по быстроте течения. Вся толпа подняла громкий крик, которого нельзя было не слышать, но на который не обратили никакого вниманья, а может быть и сочли одобрительным знаком, несчастные пешеходы. Подойдя близко к канаве, они остановились, что-то говорили, махали руками, и видно было, что Василий указывал в другую сторону. Наступила мертвая тишина: точно все старались вслушаться, что они говорят… Слава богу, они пошли вниз по канавке, но по самому ее краю. В эту минуту прискакал с лодкой молодой мельник, сын старого Болтуненка. Лодку подвезли к берегу, спустили на воду; молодой мельник замахал веслом, перебил материк Бугуруслана, вплыл в старицу, как вдруг старый Болтуненок исчез под водою… Страшный вопль раздался вокруг меня и вдруг затих. Все догадались, что старый Болтуненок оступился и попал в канаву; все ожидали, что он вынырнет, всплывет наверх, канавка была узенькая и сейчас можно было попасть на берег… но никто не показывался на воде. Ужас овладел всеми. Многие начали креститься, а другие тихо шептали: «Пропал, утонул»; женщины принялись плакать навзрыд. Нас увели в дом. Я так был испуган, поражен всем виденным мною, что ничего не мог рассказать матери и тетушкам, которые принялись меня расспрашивать: «Что такое случилось?» Евсеич же с Парашей только впустили нас в комнату, а сами опять убежали. В целом доме не было ни одной души из прислуги. Впрочем, мать, бабушка и тетушки знали, что пьяные люди идут вброд по полоям, а как я, наконец, сказал слышанные мною слова, что старый Болтуненок «пропал, утонул», то несчастное событие вполне и для них объяснилось. Тетушки сами пошли узнать подробности этого несчастия и прислать к нам кого-нибудь. Вскоре прибежала глухая бабушка Груша и сестрицына нянька Параша. Они сказали нам, что старого мельника не могут найти, что много народу с шестами и баграми переехало и перабралось кое-как через старицу, и что теперь хоть и найдут утопленника, да уж он давно захлебнулся. «Больно жалко смотреть, — прибавила Параша, — на ребят и на хворую жену старого мельника, а уж ему так на роду написано».
Все были очень огорчены, и светлый веселый праздник вдруг сделался печален. Что же происходило со мной, трудно рассказать. Хотя я много читал и еще больше слыхал, что люди то и дело умирают, знал, что все умрут, знал, что в сражениях солдаты погибают тысячами, очень живо помнил смерть дедушки, случившуюся возле меня, в другой комнате того же дома; но смерть мельника Болтуненка, который перед моими глазами шел, пел, говорил и вдруг пропал навсегда, — произвела на меня особенное, гораздо сильнейшее впечатление, и утонуть в канавке показалось мне гораздо страшнее, чем погибнуть при каком-нибудь кораблекрушении на беспредельных морях, на бездонной глубине (о кораблекрушениях я много читал). На меня напал безотчетный страх, что каждую минуту может случиться какое-нибудь подобное неожиданное несчастье с отцом, с матерью и со всеми нами. Мало-помалу возвращалась наша прислуга. У всех был один ответ: «Не нашли Болтуненка». Давно уже прошло обычное время для обеда, который бывает ранее в день разговенья. Наконец накрыли стол, подали кушать и послали за моим отцом. Он пришел огорченный и расстроенный. Он с детских лет своих знал старого мельника Болтуненка и очень его любил. Обед прошел грустно, и, как только встали из-за стола, отец опять ушел. До самого вечера искали тело несчастного мельника. Утомленные, передрогшие от мокрети и голодные люди, не успевшие даже хорошенько разговеться, возвращались уже домой, как вдруг крик молодого Болтуненка: «Нашел!» — заставил всех воротиться. Сын зацепил багром за зипун утонувшего отца и при помощи других с большим усилием вытащили его труп. Оказалось, что утонувший как-то попал под оголившийся корень старой ольхи, растущей на берегу не новой канавки, а глубокой старицы, огибавшей остров, куда снесло тело быстротою воды. Как скоро весть об этом событии дошла до нас, опять на несколько времени опустел наш дом: все сбегали посмотреть утопленника и все воротились с такими страшными и подробными рассказами, что я не спал почти всю ночь, воображая себе старого мельника, дрожа и обливаясь холодным потом. Но я имел твердость одолеть мой ужас и не будить отца и матери. Прошла мучительная ночь, стало светло, и на солнечном восходе затихло, улеглось мое воспаленное воображение — я сладко заснул.
Погода переменилась, и остальные дни святой недели были дождливы и холодны. Дождя выпало так много, что сбывавшая полая вода, подкрепленная дождями и так называемою земляною водою, вновь поднялась и, простояв на прежней высоте одни сутки, вдруг слила. В то же время также вдруг наступила и летняя теплота, что бывает часто в апреле. В конце Фоминой недели началась та чудная пора, не всегда являющаяся дружно, когда природа, пробудясь от сна, начнет жить полною, молодою, торопливою жизнью: когда всё переходит в волнение, в движенье, в звук, в цвет, в запах. Ничего тогда не понимая, не разбирая, не оценивая, никакими именами не называя, я сам почуял в себе новую жизнь, сделался частью природы, и только в зрелом возрасте сознательных воспоминаний об этом времени сознательно оценил всю его очаровательную прелесть, всю поэтическую красоту. Тогда я узнал то, о чем догадывался, о чем мечтал, встречая весну в Уфе, в городском доме, в дрянном саду или на грязной улице. В Сергеевку я приехал уже поздно и застал только конец весны, когда природа достигла полного развития и полного великолепия; беспрестанного изменения и движения вперед уже не было.
Горестное событие, смерть старого мельника, скоро было забыто мной, подавлено, вытеснено новыми, могучими впечатлениями. Ум и душа стали чем-то полны, какое-то дело легло на плечи, озабочивало меня, какое-то стремление овладело мной, хотя в действительности я ничем не занимался, никуда не стремился, не читал и не писал. Но до чтения ли, до письма ли было тут, когда душистые черемухи зацветают, когда пучок на березах лопается, когда черные кусты смородины опушаются беловатым пухом распускающихся сморщенных листочков, когда все скаты гор покрываются подснежными тюльпанами, называемыми сон, лилового, голубого, желтоватого и белого цвета, когда полезут везде из земли свернутые в трубочки травы и завернутые в них головки цветков; когда жаворонки с утра до вечера висят в воздухе над самым двором, рассыпаясь в своих журчащих, однообразных, замирающих в небе песнях, которые хватали меня за сердце, которых я заслушивался до слез; когда божьи коровки и все букашки выползают на божий свет, крапивные и желтые бабочки замелькают, шмели и пчелы зажужжат; когда в воде движенье, на земле шум, в воздухе трепет, когда и луч солнца дрожит, пробиваясь сквозь влажную атмосферу, полную жизненных начал…
А сколько было мне дела, сколько забот! Каждый день надо было раза два побывать в роще и осведомиться, как сидят на яйцах грачи; надо было послушать их докучных криков; надо было посмотреть, как развертываются листья на сиренях и как выпускают они сизые кисти будущих цветов; как поселяются зорьки и малиновки в смородинных и барбарисовых кустах; как муравьиные кучи ожили, зашевелились; как муравьи показались сначала понемногу, а потом высыпали наружу в бесчисленном множестве и принялись за свои работы; как ласточки начали мелькать и нырять под крыши строений в старые свои гнезда; как клохтала наседка, оберегая крошечных цыплят, и как коршуны кружились, плавали над ними… О, много было дела и заботы мне! Я уже не бегал по двору, не катал яиц, не качался на качелях с сестрицей, не играл с Суркой, а ходил и чаще стоял на одном месте, будто невеселый и беспокойный, ходил, глядел и молчал против своего обыкновения. Обветрил и загорел я, как цыган. Сестрица смеялась надо мной. Евсеич не мог надивиться, что я не гуляю как следует, не играю, не прошусь на мельницу, а всё хожу и стою на одних и тех же местах. «Ну, чего, соколик, ты не видал тут?» — говорил он. Мать также не понимала моего состояния и с досадою на меня смотрела; отец сочувствовал мне больше. Он ходил со мной подглядывать за птичками в садовых кустах и рассказывал, что они завивают уж гнезда. Он ходил со мной и в грачовую рощу и очень сердился на грачей, что они сушат вершины берез, ломая ветви для устройства своих уродливых гнезд, даже грозился разорить их. Как был отец доволен, увидев в первый раз медуницу! Он научил меня легонько выдергивать лиловые цветки и сосать белые, сладкие их корешочки. И как он еще более обрадовался, услыша издали, также в первый раз, пение варакушки. «Ну, Сережа, — сказал он мне, — теперь все птички начнут петь: варакушка первая запевает. А вот когда оденутся кусты, то запоют наши соловьи, и еще веселее будет в Багрове!»
Наконец пришло и это время: зазеленела трава, распустились деревья, оделись кусты, запели соловьи — и пели, не уставая, и день и ночь. Днем их пенье не производило на меня особенного впечатления; я даже говорил, что и жаворонки поют не хуже; но поздно вечером или ночью, когда всё вокруг меня утихало, при свете потухающей зари, при блеске звезд, соловьиное пение приводило меня в волнение, в восторг и сначала мешало спать. Соловьев было так много и ночью они, казалось, подлетали так близко к дому, что, при закрытых ставнями окнах, свисты, раскаты и щелканье их с двух сторон врывались с силою в нашу закупоренную спальню, потому что она углом выходила на загибавшуюся реку, прямо в кусты, полные соловьев. Мать посылала ночью пугать их. И тут только поверил я словам тетушки, что соловьи не давали ей спать. Я не знаю, исполнились ли слова отца, стало ли веселее в Багрове? Вообще я не умею сказать: было ли мне тогда весело? Знаю только, что воспоминание об этом времени во всю мою жизнь разливало тихую радость в душе моей.
Наконец я стал спокойнее, присмотрелся, попривык к окружающим меня явлениям, или, вернее сказать, чудесам природы, которая, достигнув полного своего великолепия, сама как будто успокоилась. Я стал заниматься иногда играми и книгами, стал больше сидеть и говорить с матерью и с радостью увидел, что она была тем довольна. «Ну, теперь ты, кажется, очнулся, — сказала она мне, лаская и целуя меня в голову, — а ведь ты был точно помешанный. Ты ни в чем не принимал участия, ты забыл, что у тебя есть мать». И слезы показались у ней на глазах. В самое сердце уколол меня этот упрек. Я уже смутно чувствовал какое-то беспокойство совести; вдруг точно пелена спала с моих глаз. Конечно, я не забыл, что у меня была мать, но я не часто думал о ней. Я не спрашивал и не знал, в каком положении было ее слабое здоровье. Я не делился с ней в это время, как бывало всегда, моими чувствами и помышлениями, и мной овладело угрызение совести и раскаяния, я жестоко обвинял себя, просил прощенья у матери и обещал, что этого никогда не будет. Мне казалось, что с этих пор я стану любить ее еще сильнее. Мне казалось, что я до сих пор не понимал, не знал всей цены, что я не достоин матери, которая несколько раз спасла мне жизнь, жертвуя своею. Я дошел до мысли, что я дурной, неблагодарный сын, которого все должны презирать. По несчастию, мать не всегда умела или не всегда была способна воздерживать горячность, крайность моих увлечений; она сама тем же страдала, и когда мои чувства были согласны с ее собственными чувствами, она не охлаждала, а возбуждала меня страстными порывами своей души. Так часто бывало в гораздо позднейшее время и так именно было в то время, которое я описываю. Подстрекая друг друга, мы с матерью предались пламенным излияниям взаимного раскаяния и восторженной любви; между нами исчезло расстояние лет и отношений, мы оба исступленно плакали и громко рыдали. Я раскаивался, что мало любил мать; она — что мало ценила такого сына, и оскорбила его упреком… В самую эту минуту вошел отец. Взглянув на нас, он так перепугался, что побледнел: он всегда бледнел, а не краснел от всякого внутреннего движения. «Что с вами сделалось?» — спросил он встревоженным голосом. Мать молчала; но я принялся с жаром рассказывать всё. Он смотрел на меня сначала с удивлением, а потом с сожалением. Когда я кончил, он сказал: «Охота вам мучить себя понапрасну из пустяков и расстроивать свое здоровье. Ты еще ребенок, а матери это грех». Ушатом холодной воды облил меня отец. Но мать горячо заступилась за наши чувства и сказала много оскорбительного и несправедливого моему доброму отцу! Увы! несправедливость оскорбления я понял уже в зрелых годах, а тогда я поверил, что мать говорит совершенную истину и что у моего отца мало чувств, что он не умеет так любить, как мы с маменькой любим. Разумеется, через несколько дней совсем утихло мое волнение, успокоилась совесть, исчезло убеждение, что я дурной мальчик и дурной сын. Сердце мое опять раскрылось впечатлениям природы; но я долго предавался им с некоторым опасением; горячность же к матери росла уже постоянно. Несмотря на мой детский возраст, я сделался ее другом, поверенным и узнал много такого, чего не мог понять, что понимал превратно и чего мне знать не следовало…
Между тем как только слила полая вода и река пришла в свою летнюю межень, даже прежде, чем вода совершенно прояснилась, все дворовые начали уже удить. Я сказал все, потому что тогда удил всякий, кто мог держать в руке удилище, даже некоторые старухи, ибо только в эту пору, то есть с весны, от цвета черемухи до окончания цвета калины, чудесно брала крупная рыба, язи, голавли и лини. Стоило сбегать пораньше утром на один час, чтоб принесть по крайней мере пару больших язей, упустив столько же или больше, и вот у целого семейства была уха, жареное или пирог. Евсеич уже давно удил и, рассказывая мне свои подвиги, обыкновенно говорил: «Это, соколик, еще не твое уженье. Теперь еще везде мокро и грязно, а вот недельки через две солнышко землю прогреет, земля повысохнет: к тем порам я тебе и удочки приготовлю»…
Пришла пора и моего уженья, как предсказывал Евсеич. Теплая погода, простояв несколько дней, на Фоминой неделе еще раз переменилась на сырую и холодную, что, однако ж, ничему не мешало зеленеть, расти и цвести. Потом опять наступило теплое время и сделалось уже постоянным. Солнце прогрело землю, высушило грязь и тину. Евсеич приготовил мне три удочки: маленькую, среднюю и побольше, но не такую большую, какие употреблялись для крупной рыбы; такую я и сдержать бы не мог. Отец, который ни разу еще не ходил удить, может быть потому, что матери это было неприятно, пошел со мною и повел меня на пруд, который был спущен. В спущенном пруде удить и ловить рыбу запрещалось, а на реке позволялось везде и всем. Я видел, что мой отец сбирался удить с большой охотой. «Ну, что теперь делать, Сережа, на реке? — говорил он мне дорогой на мельницу, идя так скоро, что я едва поспевал за ним. — Кивацкий пруд пронесло, и его нескоро запрудят; рыбы теперь в саду мало. А вот у нас на пруду вся рыба свалилась в материк, в трубу, и должна славно брать. Ты еще в первый раз будешь удить в Бугуруслане; пожалуй, после Сергеевки тебе покажется, что в Багрове клюет хуже». Я уверял, что в Багрове всё лучше. В прошлом лете я не брал в руки удочки, и хотя настоящая весна так сильно подействовала на меня новыми и чудными своими явлениями — прилетом птицы и возрождением к жизни всей природы, — что я почти забывал об уженье, но тогда, уже успокоенный от волнений, пресыщенный, так сказать, тревожными впечатлениями, я вспомнил и обратился с новым жаром к страстно любимой мною охоте, и чем ближе подходил я к пруду, тем нетерпеливее хотелось мне закинуть удочку. Спущенный пруд грустно изумил меня. Обширное пространство, затопляемое обыкновенно водою, представляло теперь голое, нечистое, неровное дно, состоящее из тины и грязи, истрескавшейся от солнца, но еще не высохшей внутри; везде валялись жерди, сучья и коряги или торчали колья, воткнутые прошлого года для вятелей. Прежде всё это было затоплено и представляло светлое, гладкое зеркало воды, лежащее в зеленых рамах и проросшее зеленым камышом. Молодые его побеги еще были неприметны, а старые гривы сухого камыша, не скошенного в прошедшую осень, неприятно желтели между зеленеющих краев прудового разлива и, волнуемые ветром, еще неприятнее, как-то безжизненно шумели. Надобно прибавить, что от высыхающей тины и рыбы, погибшей в камышах, пахло очень дурно. Но скоро прошло неприятное впечатление. Выбрав места посуше, неподалеку от кауза, стали мы удить — и вполне оправдались слова отца: беспрестанно брали окуни, крупная плотва, средней величины язи и большие лини. Крупная рыба попадалась всё отцу, а иногда и Евсеичу, потому что удили на большие удочки и насаживали большие куски, а я удил на маленькую удочку, и у меня беспрестанно брала плотва, если Евсеич насаживал мне крючок хлебом, или окуни, если удочка насаживалась червяком. Я никогда не видел, чтоб отец мой так горячился, и у меня мелькнула мысль, отчего он не ходит удить всякий день? Евсеич же, горячившийся всегда и прежде, сам говорил, что не помнит себя в таком азарте! Азарт этот еще увеличился, когда отец вытащил огромного окуня и еще огромнейшего линя, а у Евсеича сорвалась какая-то большая рыба и вдобавок щука оторвала удочку. Он так смешно хлопал себя по ногам ладонями и так жаловался на свое несчастье, что отец смеялся, а за ним и я. Впрочем, щука точно так же и у отца перекусила лесу. Мне тоже захотелось выудить что-нибудь покрупнее, и хотя Евсеич уверял, что мне хорошей рыбы не вытащить, но я упросил его дать мне удочку побольше и также насадить большой кусок. Он исполнил мою просьбу, но успеха не было, а вышло еще хуже, потому что перестала попадаться и мелкая рыба. Мне стало как-то скучно и захотелось домой; но отец и Евсеич и не думали возвращаться и, конечно, без меня остались бы на пруду до самого обеда. Собираясь в обратный путь и свертывая удочки, Евсеич сказал: «Что бы вам, Алексей Степаныч, забраться сюда на заре? Ведь это какой бы клев-то был!» Отец отвечал с некоторою досадой: «Ну, как мне поутру». — «Вот вы и с ружьем не поохотились ни разу, а ведь в старые годы хаживали». — Отец молчал. Я очень заметил слова Евсеича, а равно и то, что отец возвращался как-то невесел.
Пойманная рыба едва помещалась в двух ведрах. Мы принесли ее прямо к бабушке и тетушке Татьяне Степановне и только что приехавшей тетушке Аксинье Степановне (Александра же Степановна давно уехала в свою Каратаевку). Они неравнодушно приняли наш улов; они ахали, разглядывали и хвалили рыбу, которую очень любили кушать, а Татьяна Степановна — удить; но мать махнула рукой и не стала смотреть на нашу добычу, говоря, что от нее воняет сыростью и гнилью; она даже уверяла, что и от меня с отцом пахнет прудовою тиной, что, может быть, и в самом деле было так.
Оставшись наедине с матерью, я спросил ее: «Отчего отец не ходит удить, хотя очень любит уженье? Отчего он ни разу не брал ружья в руки, а стрелять он также был охотник, о чем сам рассказывал мне?» Матери моей были неприятны мои вопросы. Она отвечала, что никто не запрещает ему ни стрелять, ни удить, но в то же время презрительно отозвалась об этих охотах, особенно об уженье, называя его забаваю людей праздных и пустых, не имеющих лучшего дела, забаваю, приличною только детскому возрасту, и мне немножко стало стыдно, что я так люблю удить. Я начинал уже считать себя выходящим из ребячьего возраста: чтение книг, разговоры с матерью о предметах недетских, ее доверенность ко мне, ее слова, питавшие мое самолюбие: «Ты уже не маленький, ты всё понимаешь; как ты об этом думаешь, друг мой?» — и тому подобные выражения, которыми мать, в порывах нежности, уравнивала наши возрасты, обманывая самое себя, — эти слова возгордили меня, и я начинал свысока посматривать на окружающих меня людей. Впрочем, недолго стыдился я моей страстной охоты к уженью. На третий день мне так уже захотелось удить, что я, прикрываясь своим детским возрастом, от которого, однако, в иных случаях отказывался, выпросился у матери на пруд поудить с отцом, куда с одним Евсеичем меня бы не отпустили. Я имел весьма важную причину не откладывать уженья на пруду: отец сказал мне, что через два дня его запрудят, или, как выражались тогда, займут заимку. Евсеич с отцом взяли свои меры, чтобы щуки не отгрызали крючков: они навязали их на поводки из проволоки или струны, которых щуки не могли перекусить, несмотря на свои острые зубы. Общие наши надежды и ожидания не были обмануты. Мы наудили много рыбы, и в том числе отец поймал четырех щук, а Евсеич двух.
Заимка пруда, или, лучше сказать, последствие заимки, потому что на пруд мать меня не пустила, — также представило мне много нового, никогда мною не виданного. Как скоро завалили вешняк и течение воды мало-помалу прекратилось, река ниже плотины совсем обмелела и, кроме глубоких ям, называемых омутами, Бугуруслан побежал маленьким ручейком. По всему протяжению реки, до самого Кивацкого пруда, также спущенного, везде стоял народ, и старый и малый, с бреднями, вятелями и недотками, перегораживая ими реку. Как скоро рыба послышала, что вода пошла на убыль, она начала скатываться вниз, оставаясь иногда только в самых глубоких местах и, разумеется, попадая в расставленные снасти. Мы с Евсеичем стояли на самом высоком берегу Бугуруслана, откуда далеко было видно и вверх и вниз, и смотрели на эту торопливую и суматошную ловлю рыбы, сопровождаемую криком деревенских баб и мальчишек и девчонок, последние употребляли для ловли рыбы связанные юбки и решета, даже хватали добычу руками, вытаскивая иногда порядочных плотиц и язиков из-под коряг и из рачьих нор, куда во всякое время особенно любят забиваться некрупные налимы, которые также попадались. Раки пресмешно корячились и ползали по обмелевшему дну и очень больно щипали за голые ноги и руки бродивших по воде и грязи людей, отчего нередко раздавался пронзительный визг мальчишек и особенно девчонок.
Бугуруслан был хотя не широк, но очень быстр, глубок и омутист; вода еще была жирна, по выражению мельников, и пруд к вечеру стал наполняться, а в ночь уже пошла вода в кауз; на другой день поутру замолола мельница, и наш Бугуруслан сделался опять прежнею глубокою, многоводной рекой. Меня очень огорчало, что я не видел, как занимали заимку, а рассказы отца еще более подстрекали мою досаду и усиливали мое огорченье. Я не преминул попросить у матери объяснения, почему она меня не пустила, — и получил в ответ, что «нечего мне делать в толпе мужиков и не для чего слышать их грубые и непристойные шутки, прибаутки и брань между собою». Отец напрасно уверял, что ничего такого не было и не бывает, что никто на бранился; но что веселого крику и шуму было много… Не мог я не верить матери, но отцу хотелось больше верить.
Как только провяла земля, начались полевые работы, то есть посев ярового хлеба, и отец стал ездить всякий день на пашню. Всякий день я просился с ним, и только один раз отпустила меня мать. По моей усильной просьбе отец согласился было взять с собой ружье, потому что в полях водилось множество полевой дичи; но мать начала говорить, что она боится, как бы ружье не выстрелило и меня не убило, а потому отец, хотя уверял, что ружье лежало бы на дрогах незаряженное, оставил его дома. Я заметил, что ему самому хотелось взять ружье; я же очень горячо этого желал, а потому поехал несколько огорченный. Вид весенних полей скоро привлек мое внимание, и радостное чувство, уничтожив неприятное, овладело моей душой. Поднимаясь от гумна на гору, я увидел, что все долочки весело зеленели сочной травой, а гривы, или кулиги дикого персика, которые тянулись по скатам крутых холмов, были осыпаны розовыми цветочками, издававшими сильный ароматический запах. На горах зацветала вишня и дикая акация, или чилизник. Жаворонки так и рассыпались песнями вверху; иногда проносился крик журавлей, вдали заливался звонкими трелями кроншнеп, слышался хриплый голос кречеток, стрепета поднимались с дороги и тут же садились. Не один раз отец говорил: «Жалко, что нет с нами ружья». Это был особый птичий мир, совсем не похожий на тот, который под горою населял воды и болота, — и он показался мне еще прекраснее. Тут только, на горе, почувствовал я неизмеримую разность между атмосферами внизу и вверху! Там пахло стоячею водой, тяжелою сыростью, а здесь воздух был сух, ароматен и легок; тут только я почувствовал справедливость жалоб матери на низкое место в Багрове. Вскоре зачернелись полосы вспаханной земли, и, подъехав, я увидел, что крестьянин, уже немолодой, мерно и бодро ходит взад и вперед по десятине, рассевая вокруг себя хлебные семена, которые доставал он из лукошка, висящего у него через плечо. Издали за ним шли три крестьянина за сохами; запряженные в них лошадки казались мелки и слабы, но они, не останавливаясь и без напряженного усилия, взрывали сошниками черноземную почву, рассыпая рыхлую землю направо и налево, разумеется, не новь, а мякоть, как называлась там несколько раз паханная земля; за ними тащились три бороны с железными зубьями, запряженные такими же лошадками; ими управляли мальчики. Несмотря на утро и еще весеннюю свежесть, все люди были в одних рубашках, босиком и с непокрытыми головами. И весь этот, по-видимому, тяжелый труд производился легко, бодро и весело. Глядя на эти правильно и непрерывно движущиеся фигуры людей и лошадей, я забыл окружающую меня красоту весеннего утра. Важность и святость труда, которых я не мог тогда вполне ни понять, ни оценить, однако глубоко поразили меня.
Отец пошел на вспаханную, но еще не заборонованную десятину, стал что-то мерить своей палочкой и считать, а я, оглянувшись вокруг себя и увидя, что в разных местах много людей и лошадей двигались так же мерно и в таком же порядке взад и вперед, — я крепко задумался, сам хорошенько не зная о чем. Отец, воротясь ко мне и найдя меня в том же положении, спросил: «Что ты, Сережа?» Я отвечал множеством вопросов о работающих крестьянах и мальчиках, на которые отец отвечал мне удовлетворительно и подробно. Слова его запали мне в сердце. Я сравнивал себя с крестьянскими мальчиками, которые целый день, от восхода до заката солнечного, бродили взад и вперед, как по песку, по рыхлым десятинам, которые кушали хлеб да воду, — и мне стало совестно, стыдно, и решился я просить отца и мать, чтоб меня заставили бороновать землю. Полный таких мыслей, воротился я домой и принялся передавать матери мои впечатления и желание работать. Она смеялась, а я горячился; наконец она с важностью сказала мне: «Выкинь этот вздор из головы. Пашня и бороньба — не твое дело. Впрочем, если хочешь попробовать — я позволяю». Через несколько времени действительно мне позволили попробовать бороновать землю. Оказалось, что я никуда не годен: не умею ходить по вспаханной земле, не умею держать вожжи и править лошадью, не умею заставить ее слушаться. Крестьянский мальчик шел рядом со мной и смеялся. Мне было стыдно и досадно, и я никогда уже не поминал об этом.
Именно в эту пору житья моего в Багрове я мало проводил времени с моей милой сестрицей и как будто отдалился от нее, но это нисколько не значило, чтоб я стал меньше ее любить. Причиною этого временного отдаления были мои новые забавы, которые она, как девочка, не могла разделять со мной, и потом — мое приближение к матери. Говоря со мной, как с другом, мать всегда высылала мою сестрицу и запрещала мне рассказывать ей наши откровенные разговоры. Она не так горячо любила ее, как меня, и менее ласкала. Я был любимец, фаворит, как многие называли меня, и, следовательно, балованное дитя. Я долго оставался таким, но это никогда не мешало горячей привязанности между мной и остальными братьями и сестрами. Бабушка же и тетушка ко мне не очень благоволили, а сестрицу мою любили; они напевали ей в уши, что она нелюбимая дочь, что мать глядит мне в глаза и делает всё, что мне угодно, что «братец — всё, а она — ничего»; но все такие вредные внушения не производили никакого впечатления на любящее сердце моей сестры, и никакое чувство зависти или негодования и на одну минуту никогда не омрачали светлую доброту ее прекрасной души. Мать по-прежнему не входила в домашнее хозяйство, а всем распоряжалась бабушка или, лучше сказать, тетушка; мать заказывала только кушанья для себя и для нас; но в то же время было слышно и заметно, что она настоящая госпожа в доме и что всё делается или сделается, если она захочет, по ее воле. Несмотря на мой ребячий возраст, я понимал, что моей матери все в доме боялись, а не любили (кроме Евсеича и Параши), хотя мать никому и грубого слова не говаривала. Эту мудреную загадку тогда рано было мне разгадывать.
По просухе перебывали у нас в гостях все соседи, большею частью родные нам. Приезжали также и Чичаговы, только без старушки Мертваго; разумеется, мать была им очень рада и большую часть времени проводила в откровенных, задушевных разговорах наедине с Катериной Борисовной. Даже меня высылала. Я мельком вслушался раза два в ее слова и догадался, что она жаловалась на свое положение, что она была недовольна своей жизнью в Багрове: эта мысль постоянно смущала и огорчала меня.
Петр Иванович Чичагов, так же как моя мать, не знал и не любил домашнего и полевого хозяйства. Всем занимались его теща и жена. Он читал, писал, рисовал, чертил и охотился с ружьем. Зная, что у нас много водится дичи, он привез с собой и ружье и собаку и всякий день ходил стрелять в наших болотах, около нижнего и верхнего пруда, где жило множество бекасов, всяких куликов и куличков, болотных курочек и коростелей. Один раз и отец ходил с ним на охоту; они принесли полные ягдташи дичи. Петр Иваныч всё подсмеивался над моим отцом, говоря, что «Алексей Степаныч большой эконом на порох и дробь, что он любит птичку покрупнее да поближе, что бекасы ему не по вкусу, а вот уточки или болотные кулички — так это его дело: тут мясца побольше». Отец мой отшучивался, признаваясь, что он точно мелкую птицу не мастер стрелять — не привык и что Петр Иваныч, конечно, убил пары четыре бекасов, но зато много посеял в болотах дроби, которая на будущий год уродится… Петр Иваныч громко смеялся своим особенным звучным смехом, про который мать говорила, что Петр Иваныч и смеется умно. Он уделял иногда несколько времени на разговоры со мной. Обыкновенно это бывало после охоты, когда он, переодевшись в сухое платье и белье, садился на диван в гостиной и закуривал свою большую пенковую трубку. «Ну, Сережа, — так начинал он свой разговор, — как поживают старикашки Сумароков, Херасков и особенно Ломоносов? Что поделывает Карамзин с братией новых стихотворцев?» Это значило, чтоб я начинал читать наизусть заученные мною стихи этих писателей. Петр Иваныч над всеми подсмеивался, даже над Ломоносовым, которого, впрочем, очень уважал. Горячо хвалил Державина[46] и в то же время подшучивал над ним; одного только Дмитриева[47] хвалил, хотя не горячо, но безусловно; к сожалению, я почти не знал ни того, ни другого. Мое восторженное чтенье, или декламация, как он называл, очень его забавляли. Единственные чтецы стихов, которых я слыхал, были мои дяди Зубины. Александр Николаич особенно любил передразнивать московских трагических актеров — и, подражая такой карикатурной декламации, образовал я мое чтение! Легко понять, что оно, сопровождаемое неуместной горячностью и уродливыми жестами, было очень забавно. Тем не менее я вспоминаю с искренним удовольствием и благодарностью об этих часах моего детства, которые проводил я с Петром Иванычем Чичаговым. Этот необыкновенно умный и талантливый человек стоял неизмеримо выше окружающего его общества. Остроумные шутки его западали в мой детский ум и, вероятно, приготовили меня к более верному пониманью тогдашних писателей.
Впоследствии, когда я уже был студентом, а потом петербургским чиновником, приезжавшим в отпуск, я всегда спешил повидаться с Чичаговым: прочесть ему всё, что явилось нового в литературе, и поделиться с ним моими впечатлениями, молодыми взглядами и убеждениями. Его суд часто был верен и всегда остроумен. С особенною живостью припоминаю я, что уже незадолго до его смерти, очень больному, прочел я ему стихи на Державина и Карамзина, не знаю кем написанные, едва ли не Шатровым.[48] Первого куплета помню только половину:
.. .. .. .. ..
Перлово-сизых облаков.
Иль дав толчок в Кавказ ногами
И вихро-бурными крылами,
Рассекши воздух, прилети;
Хвостом сребро-злато-махровым
Иль радужно-гнедо-багровым
Следы пурпурны замети.
Но вдруг картина пременилась,
Услышал стон я голубка;
У Лизы слезка покатилась
Из левого ее глазка.
Катилась по щеке, катилась,
На щечке в ямке поселилась,
Как будто в лужице вода.
Не так-то были в стары веки
На слезы скупы человеки,
Но люди были ли тогда?
Когда… девушке случалось
В разлуке с милым другом быть,
То должно ей о нем, казалось,
Ручьями слезы горьки лить.
Но нынче слезы дорогие
.. .. .. .. ..
Сравняться ль древние, простые
С алмазной нынешней слезой?
Забыв свою болезнь и часто возвращающиеся мучительные ее припадки, Чичагов, слушая мое чтение, смеялся самым веселым смехом, повторяя некоторые стихи или выражения. «Ну, друг мой, — сказал он мне потом с живым и ясным взглядом, — ты меня так утешил, что теперь мне не надо и приема опиума». Во время страданий, превышающих силы человеческие, он употреблял опиум в маленьких приемах.
Наступило жаркое лето. Клев крупной рыбы прекратился. Уженье мое ограничилось ловлею на булавочные крючки лошков, пескарей и маленьких плотичек, по мелким безопасным местам, начиная от дома, вверх по реке Бугуруслану, до так называемых Антошкиных мостков, построенных крестьянином Антоном против своего двора; далее река была поглубже, и мы туда без отца не ходили. Меня отпускали с Евсеичем всякий день или поутру или вечером часа на два. Около самого дома древесной тени не было, и потому мы вместе с сестрицей ходили гулять, сидеть и читать книжки в грачовую рощу или на остров, который я любил с каждым днем более. В самом деле, там было очень хорошо: берега были обсажены березами, которые разрослись, широко раскинулись и давали густую тень; липовая аллея пересекала остров посередине; она была тесно насажена, и под нею вечно был сумрак и прохлада; она служила денным убежищем для ночных бабочек, собиранием которых, через несколько лет, я стал очень горячо заниматься. На остров нередко с нами хаживала тетушка Татьяна Степановна. Сидя под освежительной тенью на берегу широко и резво текущей реки, иногда с удочкой в руке, охотно слушала она мое чтение; приносила иногда свой «Песенник», читала сама или заставляла меня читать, и как ни были нелепы и уродливы эти песни, принадлежавшие Сумарокову с братией, но читались и слушались они с искренним сочувствием и удовольствием. До сих пор помню наизусть охотничью песню Сумарокова.[49]
Мы так нахвалили матери моей прохладу тенистого острова в полдневный зной, что она решилась один раз пойти с нами. Сначала ей понравилось, и она приказала принести большую кожу, чтобы сидеть на ней на берегу реки, потому что никогда не садилась прямо на большую траву, говоря, что от нее сыро, что в ней множество насекомых, которые сейчас наползут на человека. Принесли кожу и даже кожаные подушки. Мы все уселись на них, но, я не знаю почему, только такое осторожное, искусственное обращение с природой расхолодило меня и мне совсем не было так весело, как всегда бывало одному с сестрицей или тетушкой. Мать равнодушно смотрела на зеленые липы и березы, на текущую вокруг нас воду; стук толчей, шум мельницы, долетавший иногда явственно до нас, когда поднимался ветерок, по временам затихавший, казался ей однообразным и скучным; сырой запах от пруда, которого никто из нас не замечал, находила она противным, и, посидев с час, она ушла домой, в свою душную спальню, раскаленную солнечными лучами. Мы остались одни; унесли кожу и подушки, и остров получил для меня свою прежнюю очаровательную прелесть. Тетушка любила делать надписи на белой и гладкой коже берез и даже вырезывала иногда ножичком или накалывала толстой булавкой разные стишки из своего песенника. Я, разумеется, охотно подражал ей. На этот раз она вырезала, что такого-то года, месяца и числа «Софья Николавна посетила остров».
Изредка езжал я с отцом в поле на разные работы, видел, как полют яровые хлеба: овсы, полбы и пшеницы; видел, как крестьянские бабы и девки, беспрестанно нагибаясь, выдергивают сорные травы и, набрав их на левую руку целую охапку, бережно ступая, выносят на межи, бросают и снова идут полоть. Работа довольно тяжелая и скучная, потому что успех труда не заметен. Наконец пришло время сенокоса. Его начали за неделю до Петрова дня. Эта работа, одна из всех крестьянских полевых работ, которой я до тех пор еще не видывал, понравилась мне больше всех. В прекрасный летний день, когда солнечные лучи давно уже поглотили ночную свежесть, подъезжали мы с отцом к так называемому «Потаенному колку», состоящему по большей части из молодых и уже довольно толстых, как сосна прямых, лип, — колку, давно заповеданному и сберегаемому с особенною строгостью. Лишь только поднялись мы к лесу из оврага, стал долетать до моего слуха глухой, необыкновенный шум: то какой-то отрывистый и мерный шорох, на мгновенье перемежающийся и вновь возникающий, то какое-то звонкое металлическое шарканье. Я сейчас спросил: «Что это такое?» — «А вот увидишь!» — отвечал отец улыбаясь. Но за порослью молодого и частого осинника ничего не было видно; когда же мы обогнули его — чудное зрелище поразило мои глаза. Человек сорок крестьян косили, выстроясь в одну линию, как по нитке: ярко блестя на солнце, взлетали косы, и стройными рядами ложилась срезанная густая трава. Пройдя длинный ряд, вдруг косцы остановились и принялись чем-то точить свои косы, весело перебрасываясь между собою шутливыми речами, как можно было догадываться по громкому смеху: расслышать слов было еще невозможно. Металлические звуки происходили от точенья кос деревянными лопаточками, обмазанными глиною с песком, о чем я узнал после. Когда мы подъехали близко и отец мой сказал обыкновенное приветствие: «Бог помощь» или «Бог на помощь!», громкое: «Благодарствуйте, батюшка Алексей Степаныч!» — огласило поляну, отозвалось в овраге, — и снова крестьяне продолжали широко, ловко, легко и свободно размахивать косами! В этой работе было что-то доброе, веселое, так что я не вдруг поверил, когда мне сказали, что она тоже очень тяжела. Какой легкий воздух, какой чудесный запах разносился от близкого леса и скошенной еще рано утром травы, изобиловавшей множеством душистых цветов, которые от знойного солнца уже начали вянуть и издавать особенный приятный ароматический запах! Нетронутая трава стояла стеной, в пояс вышиною, и крестьяне говорили: «Что за трава! медведь медведем!»[50] По зеленым высоким рядам скошенной травы уже ходили галки и вороны, налетевшие из леса, где находились их гнезда. Мне сказали, что они подбирают разных букашек, козявок и червячков, которые прежде скрывались в густой траве, а теперь бегали на виду по опрокинутым стеблям растений и по обнаженной земле. Подойдя поближе, я своими глазами удостоверился, что это совершенная правда. Сверх того я заметил, что птица клевала и ягоды. В траве клубника была еще зелена, зато необыкновенно крупна; на открытых же местах она уже поспевала. Из скошенных рядов мы с отцом набрали по большой кисти таких ягод, из которых иные попадались крупнее обыкновенного ореха; многие из них хотя еще не покраснели, но были уже мягки и вкусны.
Мне так было весело на сенокосе, что не хотелось даже ехать домой, хотя отец уже звал меня. Из лесного оврага, на дне которого, тихо журча, бежал маленький родничок, неслось воркованье диких голубей или горлинок, слышался также кошачий крик и заунывный стон иволги; звуки эти были так различны, противоположны, что я долго не хотел верить, что это кричит одна и та же миловидная, желтенькая птичка. Изредка раздавался пронзительный трубный голос желны… Вдруг копчик вылетел на поляну, высоко взвился и, кружась над косцами, которые выпугивали иногда из травы маленьких птичек, сторожил их появленье и падал на них, как молния из облаков. Его быстрота и ловкость были так увлекательны, а участие к бедной птичке так живо, что крестьяне приветствовали громкими криками и удальство ловца и проворство птички всякий раз, когда она успевала упасть в траву или скрыться в лесу. Евсеич особенно горячился, также сопровождая одобрительными восклицаниями чудную быстроту этой красивой и резвой хищной птицы. Долго копчик потешал всех проворным, хотя безуспешным преследованьем своей добычи; но, наконец, поймал птичку и, держа ее в когтях, полетел в лес. «А, попалась бедняга! Подцепил, понес в гнездо детей кормить!» — раздавались голоса косцов, перерываемые и заглушаемые иногда шарканьем кос и шорохом рядами падающей травы. Отец в другой раз сказал, что пора ехать, и мы поехали. Веселая картина сенокоса не выходила из моей головы во всю дорогу; но, воротясь домой, я уже не бросился к матери, чтоб рассказать ей о новых моих впечатлениях. Опыты научили меня, что мать не любит рассказов о полевых крестьянских работах, о которых она знала только понаслышке; а если и видела, то как-нибудь мельком или издали. Я поспешил рассказать всё милой моей сестрице, потом Параше, а потом и, тетушке с бабушкой. Тетушка и бабушка много раз видали косьбу и всю уборку сена и, разумеется, знали это дело гораздо короче и лучше меня. Они не могли надивиться только, чему я так рад. Тетушка, однако, прибавила: «Да, оно смотреть точно приятно, да косить-то больно тяжело в такую жару». Эти слова заставили меня задуматься.
Милая моя сестрица, не разделявшая со мной некоторых моих летних удовольствий, была зато верною моей подругой и помощницей в собирании трав и цветов, в наблюдениях за гнездами маленьких птичек, которых много водилось в старых смородинных и барбарисовых кустах, в собиранье червячков, бабочек и разных букашек. Врожденную охоту к этому роду занятий и наблюдений и вообще к натуральной истории возродили во мне книжки «Детского чтения». Заметив гнездо какой-нибудь птички, всего чаще зорьки или горихвостки, мы всякий день ходили смотреть, как мать сидит на яйцах; иногда, по неосторожности, мы спугивали ее с гнезда и тогда, бережно раздвинув колючие ветви барбариса или крыжовника, разглядывали, как лежат в гнезде маленькие, миленькие, пестренькие яички. Случалось иногда, что мать, наскучив нашим любопытством, бросала гнездо; тогда мы, увидя, что уже несколько дней птички в гнезде нет и что она не покрикивает и не вертится около нас, как то всегда бывало, доставали яички или даже всё гнездо и уносили к себе в комнату, считая, что мы законные владельцы жилища, оставленного матерью. Когда же птичка благополучно, несмотря на наши помехи, высиживала свои яички и мы вдруг находили вместо них голеньких детенышей с жалобным, тихим писком, беспрестанно разевающих огромные рты, видели, как мать прилетала и кормила их мушками и червячками… Боже мой, какая была у нас радость! Мы не переставали следить, как маленькие птички росли, перились и, наконец, покидали свое гнездо. Сорванные травы и цветы мы раскладывали и сушили в книгах, на что преимущественно употреблялись «Римская история Роллена» и «Домашний лечебник Бухана»; а чтоб листы в книгах не портились от сырости и не раскрашивались разными красками, мы клали цветы между листочками писчей бумаги. Светящиеся червячки прельщали нас своим фосфорическим блеском (о фосфорическом блеске я знал также из «Детского чтения»), мы ловили их и держали в ящиках или бумажных коробочках, положив туда разных трав и цветов; то же делали мы со всякими червяками, у которых было шестнадцать ножек. Светляки недолго жили и почти всегда на другой же день теряли способность разливать по временам свой пленительный блеск, которым мы любовались в темной комнате. Другие червячки жили долго и превращались иногда, к великой нашей радости, в хризалиды или куколки. Это происходило следующим порядком: червячки голые посредством клейкой слизи привешивали, точно приклеивали себя хвостиком к крышке или стенке ящика, а червячки мохнатые, завернувшись в листья и замотавшись в тонкие, белые и прозрачные ниточки или шелковинки, ложились в них, как в кроватку. По прошествии известного, но весьма неравного времени сваливалась, как сухая шелуха, наружная кожа с гладкого или мохнатого червя — и висела или лежала куколка: висела угловатая, с рожками, узорчато-серая, бланжевая, даже золотистая хризалида; а лежала всегда темного цвета, настоящая крошечная, точно спеленанная куколка. Я знал, что из первых, висячих, хризалид должны были вывестись денные бабочки, а из вторых, лежачих, — ночные; но как в то время я еще не умел ходить за этим делом, то превращения хризалид в бабочки у нас не было, да и быть не могло, потому что мы их беспрестанно смотрели, даже трогали, чтоб узнать, живы ли они. У нас вывелась только одна, найденная мною где-то под застрехой, вся золотистая куколка; из нее вышла самая обыкновенная крапивная бабочка — но радость была необыкновенная!
Наконец поспела полевая клубника, и ее начали приносить уже не чашками и бураками, но ведрами. Бабушка, бывало, сидит на крыльце и принимает клубнику от дворовых и крестьянских женщин. Редко она хвалила ягоды, а всё ворчала и бранилась. Мать очень любила и дорожила полевой клубникой. Она считала ее полезною для своего здоровья и употребляла как лекарство по нескольку раз в день, так что в это время мало ела обыкновенной пищи. Нам с сестрой тоже позволяли кушать клубники сколько угодно. Кроме всех других хозяйственных потребностей из клубники приготовляли клубничную воду, вкусом с которой ничто сравниться не может.
В летние знойные дни протягивали по всему двору, от кладовых амбаров до погребов и от конюшен до столярной, длинные веревки, поддерживаемые в разных местах рогульками из лутошек. На эти веревки вывешивали для просушки и сбереженья от моли разные платья, мужские и женские, шубы, шерстяные платки, теплые одеяла, сукна и проч. Я очень любил всё это рассматривать. И тогда уже висело там много такого платья, которого более не носили, сшитого из такого сукна или материи, каких более не продавали, как мне сказывали. Один раз, бродя между этими разноцветными, иногда золотом и серебром вышитыми, качающимися от ветра, висячими стенами или ширмами, забрел я нечаянно к тетушкину амбару, выстроенному почти середи двора, перед ее окнами; ее девушка, толстая, белая и румяная Матрена, посаженная на крылечке для караула, крепко спала, несмотря на то что солнце пекло ей прямо в лицо; около нее висело на сошках и лежало по крыльцу множество широких и тонких полотен и холстов, столового белья, мехов, шелковых материй, платьев и т. п. Рассмотрев всё внимательно, я заметил, что некоторые полотна были желты. Любопытство заставило меня войти в амбар. Кроме отворенных пустых сундуков и привешенных к потолку мешков, на полках, которые тянулись по стенам в два ряда, стояло великое множество всякой всячины, фаянсовой и стеклянной посуды, чайников, молочников, чайных чашек, лаковых подносов, ларчиков, ящичков, даже бутылок с новыми пробками; в одном углу лежал громадный пуховик, или, лучше сказать, мешок с пухом; в другом — стояла большая новая кадушка, покрытая белым холстом; из любопытства я поднял холст и с удивлением увидел, что кадушка почти полна колотым сахаром. В самое это время я услышал близко голоса Параши и сестрицы, которые ходили между развешанными платьями, искали и кликали меня. Я поспешил к ним навстречу и, сбегая с крылечка, разбудил Матрену, которая ужасно испугалась, увидя меня, выбегающего из амбара. «Что это, сударь, вы там делали? — сказала она с сердцем. — Там совсем не ваше место. Теперь тетушка на меня будет гневаться. Они никому не позволяют ходить в свой амбар». Я отвечал, что не знал этого и сейчас же скажу тетеньке и попрошу у ней позволение всё хорошенько разглядеть. Но Матрена перепугалась еще больше, бросилась ко мне, начала целовать мои руки и просить, чтоб я не сказывал тетушке, что был в ее амбаре. Побежденный ее ласками и просьбами, я обещал молчать; но передо мной стояла уже Параша, держа сестрицу за руку, и лукаво улыбалась. Она слышала всё, и когда мы отошли подальше от амбара, она принялась меня расспрашивать, что я там видел. Разумеется, я рассказал с большою точностью и подробностью. Параша слушала неравнодушно, и когда дело дошло до колотого сахару, то она вспыхнула и заговорила: «Вот не диви, мы, рабы, припрячем какой-нибудь лоскуток или утащим кусочек сахарку; а вот благородные-то барышни что делают, столбовые-то дворянки? Да ведь всё что вы ни видели в амбаре, всё это тетушка натаскала у покойного дедушки, а бабушка-то ей потакала. Вишь, какой себе муравейник в приданое сгоношила! Сахар-то лет двадцать крадет да копит. Поди, чай, у нее и чаю и кофею мешки висят?.. » Вдруг Параша опомнилась и точно так же, как недавно Матрена, принялась целовать меня и мои руки, просить, молить, чтоб я ничего не сказывал маменьке, что она говорила про тетушку. Она напомнила мне, какой перенесла гнев от моей матери за подобные слова об тетушках, она принялась плакать и говорила, что теперь, наверное, сошлют ее в Старое Багрово, да и с мужем, пожалуй, разлучат, если Софья Николавна узнает об ее глупых речах. «Лукавый меня попутал, — продолжала она, утирая слезы; — за сердце взяло: жалко вас стало! Я давно слышала об этих делах, да не верила, а теперь сами видели… Ну, пропала я совсем!» — вскрикнула она, вновь заливаясь слезами. Я уверял ее, что ничего не стану говорить маменьке, но Параша тогда только успокоилась, когда заставила меня побожиться, что не скажу ни одного слова. «Вот моя умница, — сказала она, обнимая и целуя мою сестрицу, — она уж ничего не скажет на свою няню». Сестрица молча обнимала ее. Я побожился, то есть сказал: «ей-богу» в первый раз в моей жизни, хотя часто слыхал, как другие легко произносят эти слова. Удивляюсь, как могла уговорить меня Параша и довесть до божбы, которую мать моя строго осуждала!
Намерение мое не подводить под гнев Парашу осталось твердым. Я очень хорошо помнил, в какую беду ввел было ее прошлого года и как я потом раскаивался, но утаить всего я не мог. Я немедленно рассказал матери обо всем, что видел в тетушкином амбаре, об испуге Матрены и об ее просьбе ничего не сказывать тетушке. Я скрыл только слова Параши. Мать сначала улыбнулась, но потом строго сказала мне: «Ты виноват, что зашел туда, куда без позволения ты ходить не должен, и в наказание за свою вину ты должен теперь солгать, то есть утаить от своей тетушки, что был в ее амбаре, а не то она прибьет Матрешу». Слово «прибьет» меня смутило; я не мог себе представить, чтоб тетушка, которой жалко было комара раздавить, могла бить Матрешу. Я, конечно, попросил бы объяснения, если бы не был взволнован угрызением совести, что я уже солгал, утаил от матери всё, в чем просветила меня Параша. Целый день я чувствовал себя как-то неловко; к тетушке даже и не подходил, да и с матерью оставался мало, а все гулял с сестрицей или читал книжку. К вечеру, однако, я придумал себе вот какое оправдание: если маменька сама сказала мне, что я должен утаить от тетушки, что входил в ее амбар, для того, чтоб она не побила Матрешу, то я должен утаить от матери слова Параши, для того, чтоб она не услала ее в Старое Багрово. Я совершенно успокоился и весело лег спать.
Лето стояло жаркое и грозное. Чуть не всякий день шли дожди, сопровождаемые молнией и такими громовыми ударами, что весь дом дрожал. Бабушка затепливала свечки перед образами и молилась, а тетушка, боявшаяся грома, зарывалась в свою огромную перину и пуховые подушки. Я порядочно трусил, хотя много читал, что не должно бояться грома; но как же не бояться того, что убивает до смерти? Слухи о разных несчастных случаях беспрестанно до меня доходили. После грозы, быстро пролетавшей, так было хорошо и свежо, так легко на сердце, что я приходил в восторженное состояние, чувствовал какую-то безумную радость, какое-то шумное веселье: все удивлялись и спрашивали меня о причине, — я сам не понимал ее, а потому и объяснить не мог. Вследствие таких частых, хотя непродолжительных, перемок, необыкновенно много появилось грибов. Слух о груздях, которых уродилось в Потаенном колке мост-мостом, как выражался старый пчеляк, живший в лесу со своими пчелами, — взволновал тетушку и моего отца, которые очень любили брать грибы и особенно ломать грузди.
В тот же день, сейчас после обеда, они решились отправиться в лес, в сопровождении целой девичьей и многих дворовых женщин. Мне очень было неприятно, что в продолжение всего обеда мать насмехалась над охотой брать грибы и особенно над моим отцом, который для этой поездки отложил до завтра какое-то нужное по хозяйству дело. Я подумал, что мать ни за что меня не отпустит, и так, только для пробы, спросил весьма нетвердым голосом: «Не позволите ли, маменька, и мне поехать за груздями?» К удивлению моему, мать сейчас согласилась и выразительным голосом сказала мне: «Только с тем, чтоб ты в лесу ни на шаг не отставал от отца, а то, пожалуй, как займутся груздями, то тебя потеряют». Обрадованный неожиданным позволением, я отвечал, что ни на одну минуточку не отлучусь от отца. Отец несколько смутился, и как мне показалось, даже покраснел. Сейчас после обеда начались торопливые сборы. У крыльца уже стояли двое длинных дрог и телега. Все запаслись кузовьями, лукошками и плетеными корзинками из ивовых прутьев. На длинные роспуски и телегу насело столько народу, сколько могло поместиться, а некоторые пошли пешком вперед. Мать с бабушкой сидели на крыльце, и мы поехали в совершенной тишине; все молчали, но только съехали со двора, как на всех экипажах начался веселый говор, превратившийся потом в громкую болтавню и хохот; когда же отъехали от дому с версту, девушки и женщины запели песни, и сама тетушка им подтягивала. Все были необыкновенно шутливы и веселы, и мне самому стало очень весело. Я мало слыхал песен, и они привели меня в восхищение, которое до сих пор свежо в моей памяти. Румяная Матреша имела чудесный голос и была запевалой. После известного приключения в тетушкином амбаре, удостоверившись в моей скромности, она при всяком удобном случае осыпала меня ласками, называла «умницей» и «милым барином». Когда мы подъехали к лесу, я подбежал к Матреше и, похвалив ее прекрасный голос, спросил: «Отчего она никогда не поет в девичьей?» Она наклонилась и шепнула мне на ухо: «Матушка ваша не любит слушать наших деревенских песен». Она поцеловала меня и убежала в лес. Я очень пожалел о том, потому что песни и голос Матреши заронились мне в душу. Скоро все разбрелись по лесу в разные стороны и скрылись из виду. Лес точно ожил: везде начали раздаваться разные веселые восклицания, ауканье, звонкий смех и одиночные голоса многих песен; песни Матреши были громче и лучше всех, и я долго различал ее удаляющийся голос. Евсеич, тетушка и мой отец, от которого я не отставал ни на пядь, ходили по молодому лесу, неподалеку друг от друга. Тетушка первая нашла слой груздей. Она вышла на маленькую полянку, остановилась и сказала: «Здесь непременно должны быть грузди, так и пахнет груздями, — и вдруг закричала: — Ах, я наступила на них!» Мы с отцом хотели подойти к ней, но она не допустила нас близко, говоря, что это ее грузди, что она нашла их и что пусть мы ищем другой слой. Я видел, как она стала на колени и, щупая руками землю под листьями папоротника, вынимала оттуда грузди и клала в свою корзинку. Скоро и мы с отцом нашли гнездо груздей; мы также принялись ощупывать их руками и бережно вынимать из-под пелены прошлогодних полусгнивших листьев, проросших всякими лесными травами и цветами. Отец мой с жаром охотника занимался этим делом и особенно любовался молодыми груздями, говоря мне: «Посмотри, Сережа, какие маленькие груздочки! Осторожно снимай их, — они хрупки и ломки. Посмотри: точно пухом снизу-то обросли и как пахнут!» В самом деле, молоденькие груздочки были как-то очень миловидны и издавали острый запах. — Наконец, побродив по лесу часа два, мы наполнили свои корзинки одними молодыми груздями. Мы пошли назад, к тому месту, где оставили лошадей, а Евсеич принялся громко кричать: «Пора домой! Собирайтесь все к лошадям!» Некоторые голоса ему откликались. Мы не вдруг нашли свои дроги, или роспуски, и еще долее бы их проискали, если б не заслышали издали фырканья и храпенья лошадей. Крепко привязанные к молодым дубкам, добрые кони наши терпели страшную пытку от нападения овода, то есть мух, слепней и строки; последняя особенно кусается очень больно, потому что выбирает для своего кусанья места на животном, не защищенные волосами. Бедные лошади, искусанные в кровь, беспрестанно трясли головами и гривами, обмахивались хвостами и били копытами в землю, приводя в сотрясенье всё свое тело, чтобы сколько-нибудь отогнать своих мучителей. Форейтор, ехавший кучером на телеге, нарочно оставленный обмахивать коней, для чего ему была срезана длинная зеленая ветка, спал преспокойно под тенью дерева. Отец побранил его, а Евсеич погрозил, что скажет старому кучеру Трофиму, и что тот ему даром не спустит. Многие горничные девки, с лукошками, полными груздей, скоро к нам присоединились, а некоторые, видно, зашли далеко. Мы не стали их дожидаться и поехали домой. Матреша была в числе воротившихся, и потому я упросил посадить ее на наши дроги. Она поместилась на запятках с своим кузовом, а дорогой спела нам еще несколько песен, которые слушал я с большим удовольствием. — Мы воротились к самому чаю. Бабушка сидела на крыльце, и мы поставили перед ней наши корзины и кузовья Евсеича и Матрены, полные груздей. Бабушка вообще очень любила грибы, а грузди в особенности; она любила кушать их жаренные в сметане, отварные в рассоле, а всего более соленые. Она долго, с детской радостью, разбирала грузди, откладывала маленькие к маленьким, средние к средним, а большие к большим. Бабушка имела странный вкус: она охотница была кушать всмятку несвежие яйца, а грибы любила старые и червивые и, найдя в кузове Матреши пожелтелые трухлявые грузди, она сейчас же послала их изжарить на сковороде.
Я побежал к матери в спальню, где она сидела с сестрицей и братцем, занимаясь кройкою какого-то белья для нас. Я рассказал ей подробно о нашем путешествии, о том, что я не отходил от отца, о том, как понравились мне песни и голос Матреши и как всем было весело; но я не сказал ни слова о том, что Матреша говорила мне на ухо. Я сделал это без всяких предварительных соображений, точно кто шепнул мне, чтоб я не говорил; но после я задумался и долго думал о своем поступке, сначала с грустью и раскаяньем, а потом успокоился и даже уверял себя, что маменька огорчилась бы словами Матреши и что мне так и должно было поступить. Я очень хорошо заметил, что мать и без того была недовольна моими рассказами. Странно, что по какому-то инстинкту, я это предчувствовал. Весь этот вечер и на другой день мать была печальнее обыкновенного, и я, сам не зная почему, считал себя как будто в чем-то виноватым. Я грустил и чувствовал внутреннее беспокойство. Забывая, или, лучше сказать, жертвуя своими удовольствиями и охотами, я проводил с матерью более времени, был нежнее обыкновенного. Мать замечала эту перемену и, не входя в объяснения, сама была со мною еще ласковее и нежнее. Когда же мне казалось, что мать становилась спокойнее и даже веселее, — я с жадностью бросался к своим удочкам, ястребам и голубям. Так шло время до самого нашего отъезда.
Я давно знал, что мы в начале августа поедем в Чурасово к Прасковье Ивановне, которая непременно хотела, чтоб мать увидела в полном блеске великолепный, семидесятинный чурасовский сад, заключавший в себе необъятное количество яблонь самых редких сортов, вишен, груш и даже бергамот. Отцу моему очень не хотелось уехать из Багрова в самую деловую пору. Только с неделю как начали жать рожь, а между тем уже подоспел ржаной сев, который там всегда начинался около 25 июля. Он сам видел, что после дедушки полевые работы пошли хуже, и хотел поправить их собственным надзором. Бабушка тоже роптала на наш отъезд и говорила: «Проказница, право, Прасковья Ивановна! Приезжай смотреть ее сады, а свое хозяйство брось! На меня, Алеша, не надейся; я больно плоха становлюсь, да и не смыслю. Я с новым твоим старостой и говорить не стану: больно речист». Всё это мой отец понимал очень хорошо, но ослушаться Прасковьи Ивановны и не исполнить обещания — было невозможно. Отец хотел только оттянуть подалее время отъезда, вместо 1‑го августа ехать 10-го, основываясь на том, что всё лето были дожди и что яблоки поспеют только к успеньеву дню. Вдруг получил он письмо от Михайлушки, известного поверенного и любимца Прасковьи Ивановны, который писал, что, по тяжебному делу с Богдановыми, отцу моему надобно приехать немедленно в Симбирск и что Прасковья Ивановна приказывает ему поскорее собраться и Софью Николавну просит поторопиться. Все хозяйственные расчеты были оставлены, и мы стали поспешно собираться в путь. Бабушка очень неохотно, хотя уже беспрекословно, отпускала нас и взяла с отца слово, что мы к покрову воротимся домой. Мне также жалко было расставаться с Багровым и со всеми его удовольствиями, с удочкой, с ястребами, которыми только что начинали травить, а всего более — с мохноногими и двухохлыми голубями, которых две пары недавно подарил мне Иван Петрович Куроедов, богатый сосед тетушки Аксиньи Степановны, сватавшийся к ее дочери, очень красивой девушке, но еще слишком молодой. Тетушка Аксинья Степановна была радехонька такому зятю, но по молодости невесты (ей было ровно пятнадцать лет) отложили совершение этого дела на год. Жених был большой охотник до голубей и, желая приласкаться к тетушкиным родным, неожиданно сделал мне этот драгоценный подарок. Все говорили, и отец, и Евсеич, что таких голубей сродясь не видывали. Отец приказал сделать мне голубятню или огромную клетку, приставленную к задней стене конюшни, и обтянуть ее старой сетью; клетка находилась близехонько от переднего крыльца, и я беспрестанно к ней бегал, чтоб посмотреть — довольно ли корму у моих голубей и есть ли вода в корытце, чтобы взглянуть на них и послушать их воркованье. Одна пара уже сидела на яйцах. Каково же было мне со всем этим расставаться? Милой моей сестрице также не хотелось ехать в Чурасово. Но я видел, что мать собиралась очень охотно. Чтобы не так было скучно бабушке без нас, пригласили к ней Елизавету Степановну с обеими дочерьми, которая обещала приехать и прожить до нашего возвращенья, чему отец очень обрадовался. В несколько дней сборы были кончены, и 2‑го августа, после утреннего чаю, распростившись с бабушкой и тетушкой и оставив на их попечении маленького братца, которого Прасковья Ивановна не велела привозить, мы отправились в дорогу в той же, знакомой читателям, аглицкой мурзахановской карете и, разумеется, на своих лошадях.
Присылай нам свои работы, получай litr`ы и обменивай их на майки, тетради и ручки от Litra.ru!
/ Полные произведения / Аксаков С.Т. / Детские годы Багрова-внука
громко спросил: «Отчего Евсеич и другие кушают не такой же белый кулич, как
мы?» Александра Степановна с живостью и досадой отвечала мне: «Вот еще
выдумал! едят и похуже». Я хотел было сделать другой вопрос, но мать
сказала мне: «Это не твое дело». Через час после разгавливанья пасхою и
куличом приказали подавать обед, а мне с сестрицей позволили еще побегать
по двору, потому что день был очень теплый, даже жаркий. Дворовые мальчишки
и девочки, несколько принаряженные, иные хоть тем, что были в белых
рубашках, почище умыты и с приглаженными волосами, — все весело бегали и
начали уже катать яйца, как вдруг общее внимание привлечено было двумя
какими-то пешеходами, которые сойдя с Кудринской горы, шли вброд по воде,
прямо через затопленную урему. В одну минуту сбежалась вся дворня, и вскоре
узнали в этих пешеходах старого мельника Болтуненка и дворового молодого
человека, Василья Петрова, возвращающихся от обедни из того же села
Неклюдова. По безрассудному намерению пробраться полоями к летней кухне,
которая соединялась высокими мостками с высоким берегом нашего двора, все
угадали, что они были пьяны. Очевидно, что они хотели избежать длинного
обхода на мельничную плотину. Конечно, вода уже так сбыла, что в
обыкновенных местах доставала не выше колена, но зато во всех ямах,
канавках и старицах, которые в летнее время высыхали и которые окружали
кухню, глубина была еще значительна. Сейчас начались опасения, что эти люди
могут утонуть, попав в глубокое место, что могло бы случиться и с трезвыми
людьми; дали знать отцу. Он пришел, увидел опасность и приказал как можно
скорее заложить лошадь в роспуски и привезть лодку с мельницы, на которой
было бы не трудно перевезти на берег этих безумцев. Болтуненок и Васька
Рыжий (как его обыкновенно звали), распевая громко песни, то сходясь
вместе, то расходясь врозь, потому что один хотел идти налево, а другой —
направо, подвигались вперед: голоса их становились явственно слышны. Вся
толпа дворовых, к которым беспрестанно присоединялись крестьянские парни и
девки, принимала самое живое участие: шумела, смеялась и спорила между
собой. Одни говорили, что беды никакой не будет, что только выкупаются, что
холодная вода выгонит хмель, что везде мелко, что только около кухни в
старице будет по горло, но что они мастера плавать; а другие утверждали,
что, стоя на берегу, хорошо растабарывать, что глубоких мест много, а в
старице и с руками уйдешь; что одежа на них намокла, что этак и трезвый не
выплывет, а пьяные пойдут как ключ ко дну. Забывая, что хотя слышны были
голоса, а слов разобрать невозможно, все принялись кричать и давать советы,
махая изо всей мочи руками: «Левее, правее, сюда, туда, не туда» и проч.
Между тем пешеходы, попав несколько раз в воду по пояс, а иногда и глубже,
в самом деле как будто отрезвились, перестали петь и кричать и молча шли
прямо вперед. Вдруг почему-то они переменили направленье и стали подаваться
влево, где текла скрытая под водою, так называемая новенькая, глубокая
тогда канавка, которую можно только было различить по быстроте течения. Вся
толпа подняла громкий крик, которого нельзя было не слышать, но на который
не обратили никакого вниманья, а может быть и сочли одобрительным знаком,
несчастные пешеходы. Подойдя близко к канаве, они остановились, что-то
говорили, махали руками, и видно было, что Василий указывал в другую
сторону. Наступила мертвая тишина: точно все старались вслушаться, что они
говорят… Слава богу, они пошли вниз по канавке, но по самому ее краю. В
эту минуту прискакал с лодкой молодой мельник, сын старого Болтуненка.
Лодку подвезли к берегу, спустили на воду; молодой мельник замахал веслом,
перебил материк Бугуруслана, вплыл в старицу, как вдруг старый Болтуненок
исчез под водою… Страшный вопль раздался вокруг меня и вдруг затих. Все
догадались, что старый Болтуненок оступился и попал в канаву; все ожидали,
что он вынырнет, всплывет наверх, канавка была узенькая и сейчас можно было
попасть на берег… но никто не показывался на воде. Ужас овладел всеми.
Многие начали креститься, а другие тихо шептали: «Пропал, утонул»; женщины
принялись плакать навзрыд. Нас увели в дом. Я так был испуган, поражен всем
виденным мною, что ничего не мог рассказать матери и тетушкам, которые
принялись меня расспрашивать: «Что такое случилось?» Евсеич же с Парашей
только впустили нас в комнату, а сами опять убежали. В целом доме не было
ни одной души из прислуги. Впрочем, мать, бабушка и тетушки знали, что
пьяные люди идут вброд по полоям, а как я, наконец, сказал слышанные мною
слова, что старый Болтуненок «пропал, утонул», то несчастное событие вполне
и для них объяснилось. Тетушки сами пошли узнать подробности этого
несчастия и прислать к нам кого-нибудь. Вскоре прибежала глухая бабушка
Груша и сестрицына нянька Параша. Они сказали нам, что старого мельника не
могут найти, что много народу с шестами и баграми переехало и перабралось
кое-как через старицу, и что теперь хоть и найдут утопленника, да уж он
давно захлебнулся. «Больно жалко смотреть, — прибавила Параша, — на ребят и
на хворую жену старого мельника, а уж ему так на роду написано».
Все были очень огорчены, и светлый веселый праздник вдруг сделался
печален. Что же происходило со мной, трудно рассказать. Хотя я много читал
и еще больше слыхал, что люди то и дело умирают, знал, что все умрут, знал,
что в сражениях солдаты погибают тысячами, очень живо помнил смерть
дедушки, случившуюся возле меня, в другой комнате того же дома; но смерть
мельника Болтуненка, который перед моими глазами шел, пел, говорил и вдруг
пропал навсегда, — произвела на меня особенное, гораздо сильнейшее
впечатление, и утонуть в канавке показалось мне гораздо страшнее, чем
погибнуть при каком-нибудь кораблекрушении на беспредельных морях, на
бездонной глубине (о кораблекрушениях я много читал). На меня напал
безотчетный страх, что каждую минуту может случиться какое-нибудь подобное
неожиданное несчастье с отцом, с матерью и со всеми нами. Мало-помалу
возвращалась наша прислуга. У всех был один ответ: «Не нашли Болтуненка».
Давно уже прошло обычное время для обеда, который бывает ранее в день
разговенья. Наконец накрыли стол, подали кушать и послали за моим отцом. Он
пришел огорченный и расстроенный. Он с детских лет своих знал старого
мельника Болтуненка и очень его любил. Обед прошел грустно, и, как только
встали из-за стола, отец опять ушел. До самого вечера искали тело
несчастного мельника. Утомленные, передрогшие от мокрети и голодные люди,
не успевшие даже хорошенько разговеться, возвращались уже домой, как вдруг
крик молодого Болтуненка: «Нашел!» — заставил всех воротиться. Сын зацепил
багром за зипун утонувшего отца и при помощи других с большим усилием
вытащили его труп. Оказалось, что утонувший как-то попал под оголившийся
корень старой ольхи, растущей на берегу не новой канавки, а глубокой
старицы, огибавшей остров, куда снесло тело быстротою воды. Как скоро весть
об этом событии дошла до нас, опять на несколько времени опустел наш дом:
все сбегали посмотреть утопленника и все воротились с такими страшными и
подробными рассказами, что я не спал почти всю ночь, воображая себе старого
мельника, дрожа и обливаясь холодным потом. Но я имел твердость одолеть мой
ужас и не будить отца и матери. Прошла мучительная ночь, стало светло, и на
солнечном восходе затихло, улеглось мое воспаленное воображение — я сладко
заснул.
Погода переменилась, и остальные дни святой недели были дождливы и
холодны. Дождя выпало так много, что сбывавшая полая вода, подкрепленная
дождями и так называемою земляною водою, вновь поднялась и, простояв на
прежней высоте одни сутки, вдруг слила. В то же время также вдруг наступила
и летняя теплота, что бывает часто в апреле. В конце Фоминой недели
началась та чудная пора, не всегда являющаяся дружно, когда природа,
пробудясь от сна, начнет жить полною, молодою, торопливою жизнью: когда все
переходит в волнение, в движенье, в звук, в цвет, в запах. Ничего тогда не
понимая, не разбирая, не оценивая, никакими именами не называя, я сам
почуял в себе новую жизнь, сделался частью природы, и только в зрелом
возрасте сознательных воспоминаний об этом времени сознательно оценил всю
его очаровательную прелесть, всю поэтическую красоту. Тогда я узнал то, о
чем догадывался, о чем мечтал, встречая весну в Уфе, в городском доме, в
дрянном саду или на грязной улице. В Сергеевку я приехал уже поздно и
застал только конец весны, когда природа достигла полного развития и
полного великолепия; беспрестанного изменения и движения вперед уже не
было.
Горестное событие, смерть старого мельника, скоро было забыто мной,
подавлено, вытеснено новыми, могучими впечатлениями. Ум и душа стали чем-то
полны, какое-то дело легло на плечи, озабочивало меня, какое-то стремление
овладело мной, хотя в действительности я ничем не занимался, никуда не
стремился, не читал и не писал. Но до чтения ли, до письма ли было тут,
когда душистые черемухи зацветают, когда пучок на березах лопается, когда
черные кусты смородины опушаются беловатым пухом распускающихся сморщенных
листочков, когда все скаты гор покрываются подснежными тюльпанами,
называемыми сон, лилового, голубого, желтоватого и белого цвета, когда
полезут везде из земли свернутые в трубочки травы и завернутые в них
головки цветков; когда жаворонки с утра до вечера висят в воздухе над самым
двором, рассыпаясь в своих журчащих, однообразных, замирающих в небе
песнях, которые хватали меня за сердце, которых я заслушивался до слез;
когда божьи коровки и все букашки выползают на божий свет, крапивные и
желтые бабочки замелькают, шмели и пчелы зажужжат; когда в воде движенье,
на земле шум, в воздухе трепет, когда и луч солнца дрожит, пробиваясь
сквозь влажную атмосферу, полную жизненных начал…
А сколько было мне дела, сколько забот! Каждый день надо было раза два
побывать в роще и осведомиться, как сидят на яйцах грачи; надо было
послушать их докучных криков; надо было посмотреть, как развертываются
листья на сиренях и как выпускают они сизые кисти будущих цветов; как
поселяются зорьки и малиновки в смородинных и барбарисовых кустах; как
муравьиные кучи ожили, зашевелились; как муравьи показались сначала
понемногу, а потом высыпали наружу в бесчисленном множестве и принялись за
свои работы; как ласточки начали мелькать и нырять под крыши строений в
старые свои гнезда; как клохтала наседка, оберегая крошечных цыплят, и как
коршуны кружились, плавали над ними… О, много было дела и заботы мне! Я
уже не бегал по двору, не катал яиц, не качался на качелях с сестрицей, не
играл с Суркой, а ходил и чаще стоял на одном месте, будто невеселый и
беспокойный, ходил, глядел и молчал против своего обыкновения. Обветрил и
загорел я, как цыган. Сестрица смеялась надо мной. Евсеич не мог
надивиться, что я не гуляю как следует, не играю, не прошусь на мельницу, а
все хожу и стою на одних и тех же местах. «Ну, чего, соколик, ты не видал
тут?» — говорил он. Мать также не понимала моего состояния и с досадою на
меня смотрела; отец сочувствовал мне больше. Он ходил со мной подглядывать
за птичками в садовых кустах и рассказывал, что они завивают уж гнезда. Он
ходил со мной и в грачовую рощу и очень сердился на грачей, что они сушат
вершины берез, ломая ветви для устройства своих уродливых гнезд, даже
грозился разорить их. Как был отец доволен, увидев в первый раз медуницу!
Он научил меня легонько выдергивать лиловые цветки и сосать белые, сладкие
их корешочки. И как он еще более обрадовался, услыша издали, также в первый
раз, пение варакушки. «Ну, Сережа, — сказал он мне, — теперь все птички
начнут петь: варакушка первая запевает. А вот когда оденутся кусты, то
запоют наши соловьи, и еще веселее будет в Багрове!»
Наконец пришло и это время: зазеленела трава, распустились деревья,
оделись кусты, запели соловьи — и пели, не уставая, и день и ночь. Днем их
пенье не производило на меня особенного впечатления; я даже говорил, что и
жаворонки поют не хуже; но поздно вечером или ночью, когда все вокруг меня
утихало, при свете потухающей зари, при блеске звезд, соловьиное пение
приводило меня в волнение, в восторг и сначала мешало спать. Соловьев было
так много и ночью они, казалось, подлетали так близко к дому, что, при
закрытых ставнями окнах, свисты, раскаты и щелканье их с двух сторон
врывались с силою в нашу закупоренную спальню, потому что она углом
выходила на загибавшуюся реку, прямо в кусты, полные соловьев. Мать
посылала ночью пугать их. И тут только поверил я словам тетушки, что
соловьи не давали ей спать. Я не знаю, исполнились ли слова отца, стало ли
веселее в Багрове? Вообще я не умею сказать: было ли мне тогда весело? Знаю
только, что воспоминание об этом времени во всю мою жизнь разливало тихую
радость в душе моей.
Наконец я стал спокойнее, присмотрелся, попривык к окружающим меня
явлениям, или, вернее сказать, чудесам природы, которая, достигнув полного
своего великолепия, сама как будто успокоилась. Я стал заниматься иногда
играми и книгами, стал больше сидеть и говорить с матерью и с радостью
увидел, что она была тем довольна. «Ну, теперь ты, кажется, очнулся, —
сказала она мне, лаская и целуя меня в голову, — а ведь ты был точно
помешанный. Ты ни в чем не принимал участия, ты забыл, что у тебя есть
мать». И слезы показались у ней на глазах. В самое сердце уколол меня этот
упрек. Я уже смутно чувствовал какое-то беспокойство совести; вдруг точно
пелена спала с моих глаз. Конечно, я не забыл, что у меня была мать, но я
не часто думал о ней. Я не спрашивал и не знал, в каком положении было ее
слабое здоровье. Я не делился с ней в это время, как бывало всегда, моими
чувствами и помышлениями, и мной овладело угрызение совести и раскаяния, я
жестоко обвинял себя, просил прощенья у матери и обещал, что этого никогда
не будет. Мне казалось, что с этих пор я стану любить ее еще сильнее. Мне
казалось, что я до сих пор не понимал, не знал всей цены, что я не достоин
матери, которая несколько раз спасла мне жизнь, жертвуя своею. Я дошел до
мысли, что я дурной, неблагодарный сын, которого все должны презирать. По
несчастию, мать не всегда умела или не всегда была способна воздерживать
горячность, крайность моих увлечений; она сама тем же страдала, и когда мои
чувства были согласны с ее собственными чувствами, она не охлаждала, а
возбуждала меня страстными порывами своей души. Так часто бывало в гораздо
позднейшее время и так именно было в то время, которое я описываю.
Подстрекая друг друга, мы с матерью предались пламенным излияниям взаимного
раскаяния и восторженной любви; между нами исчезло расстояние лет и
отношений, мы оба исступленно плакали и громко рыдали. Я раскаивался, что
мало любил мать; она — что мало ценила такого сына, и оскорбила его
упреком… В самую эту минуту вошел отец. Взглянув на нас, он так
перепугался, что побледнел: он всегда бледнел, а не краснел от всякого
внутреннего движения. «Что с вами сделалось?» — спросил он встревоженным
голосом. Мать молчала; но я принялся с жаром рассказывать все. Он смотрел
на меня сначала с удивлением, а потом с сожалением. Когда я кончил, он
сказал: «Охота вам мучить себя понапрасну из пустяков и расстроивать свое
здоровье. Ты еще ребенок, а матери это грех». Ушатом холодной воды облил
меня отец. Но мать горячо заступилась за наши чувства и сказала много
оскорбительного и несправедливого моему доброму отцу! Увы! несправедливость
оскорбления я понял уже в зрелых годах, а тогда я поверил, что мать говорит
совершенную истину и что у моего отца мало чувств, что он не умеет так
любить, как мы с маменькой любим. Разумеется, через несколько дней совсем
утихло мое волнение, успокоилась совесть, исчезло убеждение, что я дурной
мальчик и дурной сын. Сердце мое опять раскрылось впечатлениям природы; но
я долго предавался им с некоторым опасением; горячность же к матери росла
уже постоянно. Несмотря на мой детский возраст, я сделался ее другом,
поверенным и узнал много такого, чего не мог понять, что понимал превратно
и чего мне знать не следовало…
Между тем как только слила полая вода и река пришла в свою летнюю
межень, даже прежде, чем вода совершенно прояснилась, все дворовые начали
уже удить. Я сказал все, потому что тогда удил всякий, кто мог держать в
руке удилище, даже некоторые старухи, ибо только в эту пору, то есть с
весны, от цвета черемухи до окончания цвета калины, чудесно брала крупная
рыба, язи, голавли и лини. Стоило сбегать пораньше утром на один час, чтоб
принесть по крайней мере пару больших язей, упустив столько же или больше,
и вот у целого семейства была уха, жареное или пирог. Евсеич уже давно удил
и, рассказывая мне свои подвиги, обыкновенно говорил: «Это, соколик, еще не
твое уженье. Теперь еще везде мокро и грязно, а вот недельки через две
солнышко землю прогреет, земля повысохнет: к тем порам я тебе и удочки
приготовлю»…
Пришла пора и моего уженья, как предсказывал Евсеич. Теплая погода,
простояв несколько дней, на Фоминой неделе еще раз переменилась на сырую и
холодную, что, однако ж, ничему не мешало зеленеть, расти и цвести. Потом
опять наступило теплое время и сделалось уже постоянным. Солнце прогрело
землю, высушило грязь и тину. Евсеич приготовил мне три удочки: маленькую,
среднюю и побольше, но не такую большую, какие употреблялись для крупной
рыбы; такую я и сдержать бы не мог. Отец, который ни разу еще не ходил
удить, может быть потому, что матери это было неприятно, пошел со мною и
повел меня на пруд, который был спущен. В спущенном пруде удить и ловить
рыбу запрещалось, а на реке позволялось везде и всем. Я видел, что мой отец
сбирался удить с большой охотой. «Ну, что теперь делать, Сережа, на реке? —
говорил он мне дорогой на мельницу, идя так скоро, что я едва поспевал за
ним. — Кивацкий пруд пронесло, и его нескоро запрудят; рыбы теперь в саду
мало. А вот у нас на пруду вся рыба свалилась в материк, в трубу, и должна
славно брать. Ты еще в первый раз будешь удить в Бугуруслане; пожалуй,
после Сергеевки тебе покажется, что в Багрове клюет хуже». Я уверял, что в
Багрове все лучше. В прошлом лете я не брал в руки удочки, и хотя настоящая
весна так сильно подействовала на меня новыми и чудными своими явлениями —
прилетом птицы и возрождением к жизни всей природы, — что я почти забывал
об уженье, но тогда, уже успокоенный от волнений, пресыщенный, так сказать,
тревожными впечатлениями, я вспомнил и обратился с новым жаром к страстно
любимой мною охоте, и чем ближе подходил я к пруду, тем нетерпеливее
хотелось мне закинуть удочку. Спущенный пруд грустно изумил меня. Обширное
пространство, затопляемое обыкновенно водою, представляло теперь голое,
нечистое, неровное дно, состоящее из тины и грязи, истрескавшейся от
солнца, но еще не высохшей внутри; везде валялись жерди, сучья и коряги или
торчали колья, воткнутые прошлого года для вятелей. Прежде все это было
затоплено и представляло светлое, гладкое зеркало воды, лежащее в зеленых
рамах и проросшее зеленым камышом. Молодые его побеги еще были неприметны,
а старые гривы сухого камыша, не скошенного в прошедшую осень, неприятно
желтели между зеленеющих краев прудового разлива и, волнуемые ветром, еще
неприятнее, как-то безжизненно шумели. Надобно прибавить, что от высыхающей
тины и рыбы, погибшей в камышах, пахло очень дурно. Но скоро прошло
неприятное впечатление. Выбрав места посуше, неподалеку от кауза, стали мы
удить — и вполне оправдались слова отца: беспрестанно брали окуни, крупная
плотва, средней величины язи и большие лини. Крупная рыба попадалась все
отцу, а иногда и Евсеичу, потому что удили на большие удочки и насаживали
большие куски, а я удил на маленькую удочку, и у меня беспрестанно брала
плотва, если Евсеич насаживал мне крючок хлебом, или окуни, если удочка
насаживалась червяком. Я никогда не видел, чтоб отец мой так горячился, и у
меня мелькнула мысль, отчего он не ходит удить всякий день? Евсеич же,
горячившийся всегда и прежде, сам говорил, что не помнит себя в таком
азарте! Азарт этот еще увеличился, когда отец вытащил огромного окуня и еще
огромнейшего линя, а у Евсеича сорвалась какая-то большая рыба и вдобавок
щука оторвала удочку. Он так смешно хлопал себя по ногам ладонями и так
жаловался на свое несчастье, что отец смеялся, а за ним и я. Впрочем, щука
точно так же и у отца перекусила лесу. Мне тоже захотелось выудить
что-нибудь покрупнее, и хотя Евсеич уверял, что мне хорошей рыбы не
вытащить, но я упросил его дать мне удочку побольше и также насадить
большой кусок. Он исполнил мою просьбу, но успеха не было, а вышло еще
хуже, потому что перестала попадаться и мелкая рыба. Мне стало как-то
скучно и захотелось домой; но отец и Евсеич и не думали возвращаться и,
конечно, без меня остались бы на пруду до самого обеда. Собираясь в
обратный путь и свертывая удочки, Евсеич сказал: «Что бы вам, Алексей
Степаныч, забраться сюда на заре? Ведь это какой бы клев-то был!» Отец
отвечал с некоторою досадой: «Ну, как мне поутру». — «Вот вы и с ружьем не
поохотились ни разу, а ведь в старые годы хаживали». — Отец молчал. Я очень
заметил слова Евсеича, а равно и то, что отец возвращался как-то невесел.
Пойманная рыба едва помещалась в двух ведрах. Мы принесли ее прямо к
бабушке и тетушке Татьяне Степановне и только что приехавшей тетушке
Аксинье Степановне (Александра же Степановна давно уехала в свою
Каратаевку). Они неравнодушно приняли наш улов; они ахали, разглядывали и
хвалили рыбу, которую очень любили кушать, а Татьяна Степановна — удить; но
мать махнула рукой и не стала смотреть на нашу добычу, говоря, что от нее
воняет сыростью и гнилью; она даже уверяла, что и от меня с отцом пахнет
прудовою тиной, что, может быть, и в самом деле было так.
Оставшись наедине с матерью, я спросил ее: «Отчего отец не ходит
удить, хотя очень любит уженье? Отчего он ни разу не брал ружья в руки, а
стрелять он также был охотник, о чем сам рассказывал мне?» Матери моей были
неприятны мои вопросы. Она отвечала, что никто не запрещает ему ни
стрелять, ни удить, но в то же время презрительно отозвалась об этих
охотах, особенно об уженье, называя его забаваю людей праздных и пустых, не
имеющих лучшего дела, забаваю, приличною только детскому возрасту, и мне
немножко стало стыдно, что я так люблю удить. Я начинал уже считать себя
выходящим из ребячьего возраста: чтение книг, разговоры с матерью о
предметах недетских, ее доверенность ко мне, ее слова, питавшие мое
самолюбие: «Ты уже не маленький, ты все понимаешь; как ты об этом думаешь,
друг мой?» — и тому подобные выражения, которыми мать, в порывах нежности,
уравнивала наши возрасты, обманывая самое себя, — эти слова возгордили
меня, и я начинал свысока посматривать на окружающих меня людей. Впрочем,
недолго стыдился я моей страстной охоты к уженью. На третий день мне так
уже захотелось удить, что я, прикрываясь своим детским возрастом, от
которого, однако, в иных случаях отказывался, выпросился у матери на пруд
поудить с отцом, куда с одним Евсеичем меня бы не отпустили. Я имел весьма
важную причину не откладывать уженья на пруду: отец сказал мне, что через
два дня его запрудят, или, как выражались тогда, займут заимку. Евсеич с
отцом взяли свои меры, чтобы щуки не отгрызали крючков: они навязали их на
поводки из проволоки или струны, которых щуки не могли перекусить, несмотря
на свои острые зубы. Общие наши надежды и ожидания не были обмануты. Мы
наудили много рыбы, и в том числе отец поймал четырех щук, а Евсеич двух.
Заимка пруда, или, лучше сказать, последствие заимки, потому что на
пруд мать меня не пустила, — также представило мне много нового, никогда
мною не виданного. Как скоро завалили вешняк и течение воды мало-помалу
прекратилось, река ниже плотины совсем обмелела и, кроме глубоких ям,
называемых омутами, Бугуруслан побежал маленьким ручейком. По всему
протяжению реки, до самого Кивацкого пруда, также спущенного, везде стоял
народ, и старый и малый, с бреднями, вятелями и недотками, перегораживая
ими реку. Как скоро рыба послышала, что вода пошла на убыль, она начала
скатываться вниз, оставаясь иногда только в самых глубоких местах и,
разумеется, попадая в расставленные снасти. Мы с Евсеичем стояли на самом
высоком берегу Бугуруслана, откуда далеко было видно и вверх и вниз, и
смотрели на эту торопливую и суматошную ловлю рыбы, сопровождаемую криком
деревенских баб и мальчишек и девчонок, последние употребляли для ловли
рыбы связанные юбки и решета, даже хватали добычу руками, вытаскивая иногда
порядочных плотиц и язиков из-под коряг и из рачьих нор, куда во всякое
время особенно любят забиваться некрупные налимы, которые также попадались.
Раки пресмешно корячились и ползали по обмелевшему дну и очень больно
щипали за голые ноги и руки бродивших по воде и грязи людей, отчего нередко
раздавался пронзительный визг мальчишек и особенно девчонок.
Бугуруслан был хотя не широк, но очень быстр, глубок и омутист; вода
еще была жирна, по выражению мельников, и пруд к вечеру стал наполняться, а
в ночь уже пошла вода в кауз; на другой день поутру замолола мельница, и
наш Бугуруслан сделался опять прежнею глубокою, многоводной рекой. Меня
очень огорчало, что я не видел, как занимали заимку, а рассказы отца еще
более подстрекали мою досаду и усиливали мое огорченье. Я не преминул
попросить у матери объяснения, почему она меня не пустила, — и получил в
ответ, что «нечего мне делать в толпе мужиков и не для чего слышать их
грубые и непристойные шутки, прибаутки и брань между собою». Отец напрасно
уверял, что ничего такого не было и не бывает, что никто на бранился; но
что веселого крику и шуму было много… Не мог я не верить матери, но отцу
хотелось больше верить.
Как только провяла земля, начались полевые работы, то есть посев
ярового хлеба, и отец стал ездить всякий день на пашню. Всякий день я
просился с ним, и только один раз отпустила меня мать. По моей усильной
просьбе отец согласился было взять с собой ружье, потому что в полях
водилось множество полевой дичи; но мать начала говорить, что она боится,
как бы ружье не выстрелило и меня не убило, а потому отец, хотя уверял, что
ружье лежало бы на дрогах незаряженное, оставил его дома. Я заметил, что
ему самому хотелось взять ружье; я же очень горячо этого желал, а потому
поехал несколько огорченный. Вид весенних полей скоро привлек мое внимание,
и радостное чувство, уничтожив неприятное, овладело моей душой. Поднимаясь
от гумна на гору, я увидел, что все долочки весело зеленели сочной травой,
а гривы, или кулиги дикого персика, которые тянулись по скатам крутых
холмов, были осыпаны розовыми цветочками, издававшими сильный ароматический
запах. На горах зацветала вишня и дикая акация, или чилизник. Жаворонки так
и рассыпались песнями вверху; иногда проносился крик журавлей, вдали
заливался звонкими трелями кроншнеп, слышался хриплый голос кречеток,
стрепета поднимались с дороги и тут же садились. Не один раз отец говорил:
«Жалко, что нет с нами ружья». Это был особый птичий мир, совсем не похожий
на тот, который под горою населял воды и болота, — и он показался мне еще
прекраснее. Тут только, на горе, почувствовал я неизмеримую разность между
атмосферами внизу и вверху! Там пахло стоячею водой, тяжелою сыростью, а
здесь воздух был сух, ароматен и легок; тут только я почувствовал
справедливость жалоб матери на низкое место в Багрове. Вскоре зачернелись
полосы вспаханной земли, и, подъехав, я увидел, что крестьянин, уже
немолодой, мерно и бодро ходит взад и вперед по десятине, рассевая вокруг
себя хлебные семена, которые доставал он из лукошка, висящего у него через
плечо. Издали за ним шли три крестьянина за сохами; запряженные в них
лошадки казались мелки и слабы, но они, не останавливаясь и без
напряженного усилия, взрывали сошниками черноземную почву, рассыпая рыхлую
землю направо и налево, разумеется, не новь, а мякоть, как называлась там
несколько раз паханная земля; за ними тащились три бороны с железными
зубьями, запряженные такими же лошадками; ими управляли мальчики. Несмотря
на утро и еще весеннюю свежесть, все люди были в одних рубашках, босиком и
с непокрытыми головами. И весь этот, по-видимому, тяжелый труд производился
легко, бодро и весело. Глядя на эти правильно и непрерывно движущиеся
[ 1 ]
[ 2 ]
[ 3 ]
[ 4 ]
[ 5 ]
[ 6 ]
[ 7 ]
[ 8 ]
[ 9 ]
[ 10 ]
[ 11 ]
[ 12 ]
[ 13 ]
[ 14 ]
[ 15 ]
[ 16 ]
[ 17 ]
[ 18 ]
[ 19 ]
[ 20 ]
[ 21 ]
[ 22 ]
[ 23 ]
[ 24 ]
/ Полные произведения / Аксаков С.Т. / Детские годы Багрова-внука
Смотрите также по
произведению «Детские годы Багрова-внука»:
- Краткое содержание
Вода уже так сбыла что в обыкновенных местах доставала не выше колена
Сергей Тимофеевич Аксаков
Собрание сочинений в пяти томах
Том 1. Семейная хроника. Детские годы Багрова-внука
С. Машинский. Сергей Тимофеевич Аксаков
Чародей слова, проникновенный поэт природы, тонкий психолог – таким вошел в сердце русского читателя автор «Семейной хроники» и «Детских годов Багрова-внука».
В истории нашей отечественной литературы Аксаков занимает видное место. Прочитав однажды в журнале отрывок из «Семейной хроники», Чернышевский заметил, что в ней «много правды», что «правда эта чувствуется на каждой странице». Можно было бы добавить – и на многих страницах других произведений писателя.
С. Т. Аксаков – трудный для осмысления художник. Да и творческий путь его – одно из самых сложных явлений в истории русской литературы. Нет другого примера, когда бы начало и завершение пути писателя были столь различны. И, однако же, нет большей ошибки, чем та, которую допускали исследователи, безоговорочно противопоставлявшие позднего Аксакова – раннему, не желавшие видеть мучительно долгий, трудный, но неуклонный процесс вызревания реалистического таланта писателя.
Сколь бы существенно поздний Аксаков ни отличался от Аксакова 20-х – начала 30-х годов, когда родом его литературных занятий была преимущественно критика, все же есть несомненная внутренняя связь между этими двумя этапами литературной биографии писателя. Юность Аксакова протекала в первое десятилетие XIX века. Он восторгался Шишковым и вместе с тем, как это ни странно, сочинял стихи в духе сентиментальных идиллий Карамзина. Пока еще ничто не предсказывало будущего Аксакова, не предвещало в нем даже возможности крупного дарования. Но к 20-м годам в статьях Аксакова начинает пробиваться пытливая, острая мысль, знаменовавшая начало пути, который много лет спустя привел писателя к вершинам реалистического искусства.
Имя Аксакова стало известно всей читающей России в конце 40-х годов, то есть когда жизнь писателя приближалась к шестому десятку. Периодом расцвета его реалистического таланта стало последнее десятилетие жизни. В условиях глубокого кризиса, переживаемого в середине прошлого века феодально-крепостническим строем, художественные произведения Аксакова давали превосходный материал для обличения различных сторон помещичьего быта, крепостнической действительности в целом. Именно в этом направлении широко использовал аксаковские произведения Добролюбов.
Усвоив многое от реалистических традиций Пушкина и Гоголя, Аксаков обогатил эти традиции своим собственным художественным опытом и в немалой степени содействовал дальнейшему развитию русской классической литературы.
Сергей Тимофеевич Аксаков родился 20 сентября (1 октября н. с.) 1791 года в Уфе. Отец его – чиновник уфимского земского суда – принадлежал к небогатой, но старинной дворянской семье, мать – дочь товарища наместника Уфимского края. В «Семейной хронике» и «Детских годах Багрова-внука» Аксаков подробно воссоздает сложную и не лишенную внутреннего драматизма историю отношений своего отца – влюбленного в природу, слабовольного, тихого, застенчивого, малообразованного человека – и матери – губернской красавицы, выросшей в чиновничье-аристократической среде, властной, умной, начитанной женщины. Этот внутрисемейный контраст немало отразился на условиях воспитания будущего писателя.
Девяти лет от роду Аксакова привозят в Казань и отдают в гимназию казеннокоштным пансионером. Оторванный от привычной обстановки родительского дома, от привольного деревенского житья, тяжело переживая разлуку с матерью, мальчик заболел острым нервным расстройством. Родные вынуждены были его забрать из гимназии, и лишь год спустя снова возникла мысль о ней. На этот раз Аксаков был зачислен уже в качестве вольноприходящего.
Казанская гимназия отличалась сравнительно неплохой постановкой обучения, хорошим, хотя и пестрым, составом преподавателей. Здесь царила атмосфера, в общем вполне благоприятствовавшая развитию духовных интересов учащихся. Вспоминая свои гимназические годы, Аксаков тепло и благодарно отзывался о преподавателе русской словесности Н. М. Ибрагимове, об И. И. Запольском, преподававшем физику, и особенно восторженно о математике Г. И. Карташевском, своем непосредственном наставнике и воспитателе, впоследствии породнившемся с Аксаковыми.
Осенью 1804 года был окончательно решен вопрос об открытии в Казани университета и утвержден его устав. Четыре десятка гимназистов старшего отделения произвели в студенты, а несколько преподавателей – в профессоры. В студенты был произведен и Аксаков, которому шел четырнадцатый год.
Еще в гимназические годы Аксаков оказался в центре кружка молодых людей, проявлявших живой интерес к искусству – театру и литературе. Гордостью Казани в то время был публичный театр, на сцене которого временами гастролировали известные столичные актеры. В бытность Аксакова студентом здесь с огромным успехом выступал знаменитый Плавильщиков, открывший Аксакову, по его словам, «новый мир в театральном искусстве». В стенах университета была создана своя любительская труппа, успешно ставившая комедии Сумарокова; Коцебу, Веревкина, чтимого здесь не только как драматического писателя, но и как одного из основателей и «первого командира» казанской гимназии.
Не меньшим было увлечение гимназистов и студентов литературным творчеством. С энтузиазмом издавались здесь рукописные журналы. Один из таких журналов – «Аркадские пастушки» – выпускал близкий приятель Аксакова Александр Панаев. Несколько позднее пристрастился к сочинительству и Аксаков, совместно с Панаевым организовавший «Журнал наших занятий».
В воспоминаниях о годах своей юности Аксаков настаивает на том, что издававшийся им «Журнал наших занятий» был предприятием «более серьезным», чем «Аркадские пастушки». Он рассказывает, с каким ожесточением стремился изгонять из журнала «идиллическое направление» своего друга Александра Панаева и «слепое подражание Карамзину». Это направление представлялось Аксакову слишком неестественным, слащаво-приторным, а кроме того, и – самое главное – противоречащим его «русскому направлению». Именно потому «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка» Шишкова было воспринято Аксаковым как нечто гораздо более соответствующее его собственным настроениям, и он оказался увлеченным в «противоположную крайность». По собственному признанию Аксакова, он уверовал в каждое слово книги Шишкова, «как в святыню». Борьба между «карамзинистами» и «шишковистами» своеобразно отразилась в стенах Казанского университета. Подавляющее большинство студентов стояло за Карамзина. Аксаков же, поддерживаемый, или, точнее, даже вдохновляемый профессором русской словесности литературным старовером Городчаниновым, держал сторону Шишкова. Между приверженцами того и другого направления происходили ожесточенные споры. Впрочем, впоследствии в своих воспоминаниях о Шишкове Аксаков признавал, что он, «браня прозу Карамзина, был в восторге от его плохих стихов» и что вообще «понятия» его в те времена еще «путались». Знакомство с сохранившимися экземплярами «Журнала наших занятий» да и с собственными ранними сочинениями Аксакова подтверждает справедливость этого позднего самокритического признания.
Тем временем в жизни Аксакова произошли некоторые важные перемены. Его воспитатель и наставник Г. И. Карташевский, рассорившись с университетским начальством, оказался вынужденным покинуть Казань и уехал служить в Петербург. Он стал убеждать родных Аксакова, что и для его воспитанника более целесообразно сейчас избрать поприще государственной службы в столице.
В начале 1807 года Аксаков уволился из университета и после короткого путешествия с родными в Оренбургскую губернию, полугодичного пребывания в Москве обосновался, наконец, в Петербурге.
Источник
Вода уже так сбыла что в обыкновенных местах доставала не выше колена
Сверх того, она с необыкновенным искусством простым перочинным ножичком выскабливала на красных яйцах чудесные узоры, цветы и слова: «Христос воскрес». Она всем приготовила по такому яичку, и только я один видел, как она над этим трудилась. Мое яичко было лучше всех, и на нем было написано: «Христос воскрес, милый друг Сереженька!» Матери было очень грустно, что она не услышит заутрени светлого Христова воскресенья, и она удивлялась, что бабушка так равнодушно переносила это лишенье; но бабушке, которая бывала очень богомольна, как-то ни до чего уже не было дела.
Я заснул в обыкновенное время, но вдруг отчего-то ночью проснулся: комната была ярко освещена, кивот с образами растворен, перед каждым образом, в золоченой ризе, теплилась восковая свеча, а мать, стоя на коленях, вполголоса читала молитвенник, плакала и молилась. Я сам почувствовал непреодолимое желанье помолиться вместе с маменькой и попросил ее об этом. Мать удивилась моему голосу и даже смутилась, но позволила мне встать. Я проворно вскочил с постели, стал на коленки и начал молиться с неизвестным мне до тех пор особого рода одушевленьем; но мать уже не становилась на колени и скоро сказала: «Будет, ложись спать». Я прочел на лице ее, услышал в голосе, что помешал ей молиться. Я из всех сил старался поскорее заснуть, но не скоро утихло детское мое волненье и непостижимое для меня чувство умиленья. Наконец мать, помолясь, погасила свечки и легла на свою постель. Яркий свет потух, теплилась только тусклая лампада; не знаю, кто из нас заснул прежде. К большой моей досаде, я проснулся довольно поздно: мать была совсем одета; она обняла меня и, похристосовавшись заранее приготовленным яичком, ушла к бабушке. Вошел Евсеич, также похристосовался со мной, дал мне желтое яичко и сказал: «Эх, соколик, проспал! Ведь я говорил тебе, что надо посмотреть, как солнышко на восходе играет и радуется Христову воскресенью». Мне самому было очень досадно; я поспешил одеться, заглянул к сестрице и братцу, перецеловал их и побежал в тетушкину комнату, из которой видно было солнце, и, хотя оно уже стояло высоко, принялся смотреть на него сквозь мои кулаки. Мне показалось, что солнышко как будто прыгает, и я громко закричал: «Солнышко играет! Евсеич правду сказал». Мать вышла ко мне из бабушкиной горницы, улыбнулась моему восторгу и повела меня христосоваться к бабушке. Она сидела в шелковом платке и шушуне на дедушкиных креслах; мне показалось, что она еще более опустилась и постарела в своем праздничном платье. Бабушка не хотела разгавливаться до полученья петой пасхи и кулича, но мать сказала, что будет пить чай со сливками, и увела меня с собою.
Отец с тетушками воротился еще до полден, когда нас с сестрицей только что выпустили погулять. Назад проехали они лучше, потому что воды в ночь много убыло; они привезли с собой петые пасхи, куличи, крутые яйца и четверговую соль. В зале был уже накрыт стол; мы все собрались туда и разговелись. Правду сказать, настоящим-то образом разгавливались бабушка, тетушки и отец: мать постничала одну страстную неделю (да она уже и пила чай со сливками), а мы с сестрицей – только последние три дня; но зато нам было голоднее всех, потому что нам не давали обыкновенной постной пищи, а питались мы ухою из окуней, медом и чаем с хлебом. Для прислуги была особая пасха и кулич. Вся дворня собралась в лакейскую и залу; мы перехристосовались со всеми; каждый получил по кусочку кулича, пасхи и по два красных яйца, каждый крестился и потом начинал кушать. Я заметил, что наш кулич был гораздо белее того, каким разгавливались дворовые люди, и громко спросил: «Отчего Евсеич и другие кушают не такой же белый кулич, как мы?» Александра Степановна с живостью и досадой отвечала мне: «Вот еще выдумал! едят и похуже». Я хотел было сделать другой вопрос, но мать сказала мне: «Это не твое дело». Через час после разгавливанья пасхою и куличом приказали подавать обед, а мне с сестрицей позволили еще побегать по двору, потому что день был очень теплый, даже жаркий. Дворовые мальчишки и девочки, несколько принаряженные, иные хоть тем, что были в белых рубашках, почище умыты и с приглаженными волосами, – все весело бегали и начали уже катать яйца, как вдруг общее внимание привлечено было двумя какими-то пешеходами, которые сойдя с Кудринской горы, шли вброд по воде, прямо через затопленную урему. В одну минуту сбежалась вся дворня, и вскоре узнали в этих пешеходах старого мельника Болтуненка и дворового молодого человека, Василья Петрова, возвращающихся от обедни из того же села Неклюдова. По безрассудному намерению пробраться полоями к летней кухне, которая соединялась высокими мостками с высоким берегом нашего двора, все угадали, что они были пьяны. Очевидно, что они хотели избежать длинного обхода на мельничную плотину. Конечно, вода уже так сбыла, что в обыкновенных местах доставала не выше колена, но зато во всех ямах, канавках и старицах, которые в летнее время высыхали и которые окружали кухню, глубина была еще значительна. Сейчас начались опасения, что эти люди могут утонуть, попав в глубокое место, что могло бы случиться и с трезвыми людьми; дали знать отцу. Он пришел, увидел опасность и приказал как скорее заложить лошадь в роспуски и привезть лодку с мельницы, на которой было бы не трудно перевезти на берег этих безумцев. Болтуненок и Васька Рыжий (как его обыкновенно звали), распевая громко песни, то сходясь вместе, то расходясь врозь, потому что один хотел идти налево, а другой – направо, подвигались вперед: голоса их становились явственно слышны. Вся толпа
Источник
Сергей Тимофеевич Аксаков
Сергей Аксаков «Детские годы Багрова-внука»
У отца не было кабинета и никакой отдельной комнаты; в одном углу залы стояло домашнее, Акимовой работы, ольховое бюро; отец всё сидел за ним и что-то писал. Нередко стоял перед отцом слепой старик, поверенный Пантелей Григорьич (по прозвищу, никогда не употребляемому, Мягков), знаменитый ходок по тяжебным делам и знаток в законах, о чем, разумеется, я узнал после. Это был человек гениальный в своем деле; но как мог образоваться такой человек у моего покойного дедушки, плохо знавшего грамоте и ненавидевшего всякие тяжбы? А вот как: Михайла Максимыч Куролесов, через год после своей женитьбы на двоюродной сестре моего дедушки, заметил у него во дворне круглого сироту Пантюшку, который показался ему необыкновенно сметливым и умным; он предложил взять его к себе для обучения грамоте и для образования из него делового человека, которого мог бы мой дедушка употреблять, как поверенного, во всех соприкосновениях с земскими и уездными судами; дедушка согласился. Пантюшка скоро сделался Пантелеем и выказал такие необыкновенные способности, что Куролесов, выпросив согласие у дедушки, послал Пантелея в Москву для полного образованья к одному своему приятелю, обер-секретарю, великому законоведцу и знаменитому взяточнику. Через несколько лет Пантелея уже звали Пантелеем Григорьичем, и он получил известность в касте деловых людей. В Москве он женился на мещанке, красавице и с хорошим приданым, Наталье Сергеевой, которая, по любви или по уважению к талантам Пантелея Григорьева, не побоялась выйти за крепостного человека. В самых зрелых летах, кончив с полным торжеством какое-то «судоговоренье» против известного тоже доки по тяжебным делам и сбив с поля своего старого и опытного противника, Пантелей Григорьич, обедая в этот самый день у своего доверителя, — вдруг, сидя за столом, ослеп. Паралич поразил глазные нервы, вероятно, от усиленного чтенья рукописных бумаг, письма и бессонницы, и ничто уже не могло возвратить ему зрения.
Сергей Аксаков «Детские годы Багрова-внука»
Дворовые мальчишки и девочки, несколько принаряженные, иные хоть тем, что были в белых рубашках, почище умыты и с приглаженными волосами, — все весело бегали и начали уже катать яйца, как вдруг общее внимание привлечено было двумя какими-то пешеходами, которые сойдя с Кудринской горы, шли вброд по воде, прямо через затопленную урему. В одну минуту сбежалась вся дворня, и вскоре узнали в этих пешеходах старого мельника Болтуненка и дворового молодого человека, Василья Петрова, возвращающихся от обедни из того же села Неклюдова. По безрассудному намерению пробраться полоями к летней кухне, которая соединялась высокими мостками с высоким берегом нашего двора, все угадали, что они были пьяны. Очевидно, что они хотели избежать длинного обхода на мельничную плотину. Конечно, вода уже так сбыла, что в обыкновенных местах доставала не выше колена, но зато во всех ямах, канавках и старицах, которые в летнее время высыхали и которые окружали кухню, глубина была еще значительна. Сейчас начались опасения, что эти люди могут утонуть, попав в глубокое место, что могло бы случиться и с трезвыми людьми; дали знать отцу. Он пришел, увидел опасность и приказал как можно скорее заложить лошадь в роспуски и привезть лодку с мельницы, на которой было бы не трудно перевезти на берег этих безумцев. Болтуненок и Васька Рыжий (как его обыкновенно звали), распевая громко песни, то сходясь вместе, то расходясь врозь, потому что один хотел идти налево, а другой направо, подвигались вперед: голоса их становились явственно слышны. Вся толпа дворовых, к которым беспрестанно присоединялись крестьянские парни и девки, принимала самое живое участие: шумела, смеялась и спорила между собой. Одни говорили, что беды никакой не будет, что только выкупаются, что холодная вода выгонит хмель, что везде мелко, что только около кухни в старице будет по горло, но что они мастера плавать; а другие утверждали, что, стоя на берегу, хорошо растабарывать, что глубоких мест много, а в старице и с руками уйдешь; что одежа на них намокла, что этак и трезвый не выплывет, а пьяные пойдут как ключ ко дну. Забывая, что хотя слышны были голоса, а слов разобрать невозможно, все принялись кричать и давать советы, махая изо всей мочи руками: «Левее, правее, сюда, туда, не туда» и проч. Между тем пешеходы, попав несколько раз в воду по пояс, а иногда и глубже, в самом деле как будто отрезвились, перестали петь и кричать и молча шли прямо вперед.
Сергей Аксаков «Детские годы Багрова-внука»
Мы остановились у одного зажиточного крестьянина. Отец мой любил всегда разговаривать с хозяевами домов, в которых мы кормили или ночевали, а я любил слушать их разговоры. Мать иногда скучала ими; но в этот раз попался нам хозяин необыкновенно умный мужик, который своими рассказами о барине всех нас очень занял и очень смешил мою мать. Он как будто хвалил своего господина и в то же время выставлял его в самом смешном виде. Речь зашла о великолепных свиньях, из которых одна умерла. «То-то горе-то у нас было, — говорил хозяин, — чушка-то что ни лучшая сдохла. Барин у нас, дай ему бог много лет здравствовать, добрый, милосливый, до всякого скота жалосливый, так печаловался, что уехал из Никольского; уж и мы ему не взмилились. Оно и точно так: нас-то у него много, а чушек-то всего было две, и те из-за моря, а мы доморощина. А добрый барин; уж сказать нельзя, какой добрый, да и затейник! У нас на выезде из села было два колодца, вода преотменная, родниковая, холодная. Мужики, выезжая в поле, завсегда ею пользовались. Так он приказал над каждым колодцем по деревянной девке поставить, как есть одетые в кумашные сарафаны, подпоясаны золотым позументом, только босые; одной ногой стоит на колодце, а другую подняла, ровно прыгнуть хочет. Ну, всяк, кто ни едет, и конный и пеший, остановится и заглядится. Только крестьяне-то воду из колодцев брать перестали: говорят, что непригоже».
Сергей Аксаков «Детские годы Багрова-внука»
Григорий Иваныч был сын малороссийского дворянина, священника, имевшего около ста душ крепостных крестьян; прадед его, турок, не знаю, по каким причинам, выехал из Турции, принял христианскую веру, женился и поселился в Малороссии. Григорий Иваныч не был любимым сыном у матери, но зато отец любил его с материнскою нежностью. Видя, что мальчику в доме житье плохое, отец отвез его по девятому году в Москву и поместил в университетскую гимназию на казенное содержание. Сын был горячо, страстно к нему привязан и очень тосковал, оставшись в Москве; старик через год приехал навестить его, и мальчик так обрадовался, что получил от волнения горячку; бедный отец не мог долго мешкать в Москве и должен был оставить своего любимца еще больного. Через год старик умер. В продолжение восемнадцати лет, со времени своего определения в московскую гимназию, Григорий Иваныч один только раз ездил на побывку в Малороссию, перед поступлением в звание учителя, и вывез из родительского дома неприятное и тягостное ощущение. Все это рассказал мне его слуга, хохол Яшка, которого он привез с собою. В выговоре моего воспитателя, в складе его ума и в наружности не было ни малейшего признака малоросса. Кажется, родина не привлекала его, и я часто слышал, как он, высоко ставя великорусский толк, подсмеивался над хохлацкой ленью и тупостью, за что очень сердились его земляки – Иван Ипатыч и Маркевич, служивший в гимназии экономом, человек необыкновенно добрый, с порядочным брюхом, природный юморист и презабавный шутник, который очень ласкал меня и которого я очень любил.
Источник
Вода уже так сбыла что в обыкновенных местах доставала не выше колена
БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Сергей Тимофеевич Аксаков
ДЕТСКИЕ ГОДЫ БАГРОВА-ВНУКА
Николай Георгиевич Гарин-Михайловский
Константин Михайлович Станюкович
Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк
«Жизнь человека в дитяти» — так С. Т. Аксаков, завершая работу над книгой «Детские годы Багрова-внука», сформулировал ее тему. А издавая книгу в 1858 году, он предпослал ей более развернутое определение темы и проблемы. Рассказы Багрова-внука, писал Аксаков, «представляют довольно полную историю дитяти, жизнь человека в детстве, детский мир, созидающийся под влиянием ежедневных новых впечатлений». Эти слова удивительно емко и точно передают своеобразие и других произведений, собранных в этом томе. И Аксаков, и Гарин-Михайловский, и Станюкович, и Мамин-Сибиряк уделяют преимущественное внимание внутреннему миру своих героев, они пристально следят за возникновением и развитием душевных движений, воспроизводя даже самые незначительные из них.
Все эти произведения роднит и та плодоносная художественная нива, на которой они взошли, — гуманистические и реалистические устремления великой русской литературы. Вот почему, передавая историю роста и организации человеческого характера, писатели не замыкают своего героя в его возрастных границах. Он живет в сложных, иногда очень драматичных для него соприкосновениях с миром взрослых. Сопряжение, взаимовлияние этих двух миров — детского и взрослого — таит в себе возможность невосполнимых потерь: свершается подлинная драма, когда взрослые не хотят или не умеют увидеть восходящей рядом с ними новой человеческой жизни во всей ее уникальности и самоценности. Поступки и отношения старших под детским взглядом — чистым, непосредственным, естественно-человеческим — начинают выглядеть странными, зачастую достойными осуждения. С другой стороны, стремление проникнуть в эти поступки и отношения, жажда осмыслить и как-то согласовать их со своими представлениями о должном, о добром изменяют, обогащают детские переживания. Чувства, мысли юного человека наполняются социальным смыслом, что и подготавливает его к равноправному участию в большой, настоящей жизни.
Даже аксаковский Сережа Багров, окруженный заботой самоотверженной матери, не может оставаться только созерцателем мира взрослых. Герои же Гарина-Михайловского и особенно Станюковича и Мамина-Сибиряка только в нем и живут, вынужденные самостоятельно принимать важные, совсем недетские решения. А Прошка, герой рассказа Мамина-Сибиряка «Вертел» (1897), уже в свои двенадцать лет выполняет работу, непосильную и для мужчины. Более того, среди произведений Станюковича и Мамина-Сибиряка (в основном 1880—90-х годов), помещенных в этом томе, есть и такие, где рассказывается только о взрослых людях. Станюкович знакомит в них читателя с нелегкой морской службой, а Мамин-Сибиряк и затерянное в снежных просторах зимовье изображает социальным «материком», где царит несправедливость и бесправие.
В своей совокупности произведения, собранные в этой книге, повествуют о становлении человека, о тех главных, важнейших испытаниях, которые предлагает ему жизнь. Взрослеющий, мужающий человек со своим особым событийным и духовным миром, беспрестанно и качественно меняющимся, — главный герой этой книги.
Замысел книги о детстве возник у Сергея Тимофеевича Аксакова в 1854 году. В шуточном стихотворении, написанном на день рождения внучки, он обещает ей прислать через год свою книжку «про весну младую, про цветы полей, про малюток пташек… про лесного Мишку». Но проходит время, и Сергей Тимофеевич сообщает Оле: «…дай бог, чтобы к будущему дню твоего рождения она была готова. Да и книжка выходит совсем не такая, какую я обещал тебе». Она явно перерастала первоначальный замысел: существенно изменились и содержание ее, и цель, и объем. «Я дописываю большую книгу, — читаем в письме Аксакова от 3 мая 1857 года. — Это должно быть (хорошо, если будет) художественным воспроизведением моих детских лет, начиная с третьего до девятого года моей жизни». Так появились «Детские годы Багрова-внука», вначале на страницах журнала, в отрывках, а через год, в 1858 году, отдельной книгой.
А за два года до этого Аксаков выпустил «Воспоминания», в которых он рассказал о своем отрочестве и юности, прошедших в Казани: там он учился в гимназии, откуда поступил в Казанский университет. «Воспоминания» были изданы совместно с «Семейной хроникой» из жизни старшего поколения Багровых. И теперь, когда появилась история детства Аксакова, биография главного героя всех трех книг обрела недостающее хронологическое звено, образовалась художественно-автобиографическая трилогия. В истории русской литературы она заняла место непосредственно рядом с «Детством», «Отрочеством» и «Юностью» Льва Николаевича Толстого.
Внутреннее единство всех трех книг Аксакова сразу почувствовали их первые критики и читатели, хотя от своего лица автор ведет рассказ только в «Воспоминаниях», а в двух других — от имени Багрова. Но внимательный читатель, писал Добролюбов, очень легко убедится «в тождестве Аксакова и Багрова» и найдет много примеров «сходства всего багровского с аксаковским». Добролюбов поэтому считал себя вправе назвать и «Детские годы» воспоминаниями Аксакова, несмотря на специальное «предуведомление» писателя своим читателям, в котором он категорически отрицал тождество между собой, автором, и Багровым- внуком, этим вымышленным рассказчиком.
Но почему же С. Т. Аксаков, повествуя о своем детстве, о жизни своих родных и близких, прибегнул к псевдониму?
Одна из причин, как считает сын писателя Иван Аксаков, — это желание прекратить неприятные для рода Аксаковых и Куроедовых «толки и пересуды», какие могли вызвать книги, прежде всего «Семейная хроника»: на многих ее страницах старшие представители этих семейств выглядят типичными крепостниками. Была еще и причина художественная. И осмысление ее приближает к пониманию широкого смысла сугубо, казалось бы, автобиографического повествования.
Автор, «прикрывшись» именем Багрова, стремился «удержать журнальную критику в пределах чистой литературной оценки выставленных им характеров и типов» (И. С. Аксаков). Он пошел по тому же пути, что и Лев Толстой, озаглавивший свою первую повесть «Детство» и очень недовольный тем, что редакция журнала произвольно изменила заглавие: «История моего детства» противоречит с мыслью сочинения. Кому какое дело до истории моего детства? Ту же цель: придать с самого начала, уже в заглавии, обобщающий смысл своему сочинению — преследовал и Сергей Тимофеевич Аксаков.
К выявлению общезначимого, общеинтересного целеустремлено все повествование. Так, автора в детстве увлекали сказки, надолго овладевая его горячим воображением: «С какою жадностью, с каким ненасытным любопытством читал я эти сказки, и в то же время я знал, что все это выдумка, настоящая сказка, что этого нет на свете и быть не может. Где же скрывается тайна такого очарования?» Эту тайну он видит «в страсти к чудесному, которая, более или менее, врождена всем детям» (подчеркнуто нами. — В.Б.). Так, Сереже понравилось, что купленную его отцом деревушку назвали «Сергеевкой». Это так рано появившееся в нем чувство собственности автор объясняет, а заодно и извиняет также общими свойствами детской психологии.
Но при всей своей целеустремленности к реалистическому обобщению сферой изображения для Аксакова остаются его личные переживания и чувства, «истории» и события из его собственной жизни, из жизни родных, близкого окружения. Один из исследователей (советский литературовед С. Машинский) назвал даже его «едва ли не самым автобиографическим писателем в истории мировой литературы». Это своеобразие Аксакова-писателя определялось особенностями его природного дарования. Сравнивая себя с теми писателями, которые обладают талантом «чистого» творчества, создают вымышленные персонажи, Аксаков считал: «Заменить… действительность вымыслом я не в состоянии. Я пробовал несколько раз писать вымышленные происшествия и вымышленных людей. Выходила совершенная дрянь, и мне самому становилось смешно… Я только передатчик и простой рассказчик: изобретения у меня на волос нет… Я ничего не могу выдумать: к выдуманному у меня не лежит душа, я не могу принимать в нем живого участия».
Источник
Первая весна в деревне…
В середине Великого поста, именно на середокрестной неделе, наступила сильная оттепель. Снег быстро начал таять, и везде показалась вода. Приближение весны в деревне производило на меня необыкновенное раздражающее впечатление. Я чувствовал никогда не испытанное мною, особого рода волнение. Много содействовали тому разговоры с отцом и Евсеичем, которые радовались весне, как охотники, как люди, выросшие в деревне и страстно любившие природу, хотя сами того хорошенько не понимали, не определяли себе и сказанных сейчас мною слов никогда не употребляли. Находя во мне живое сочувствие, они с увлеченьем предавались удовольствию рассказывать мне: как сначала обтают горы, как побегут с них ручьи, как спустят пруд, разольется полая вода, пойдет вверх по полоям рыба, как начнут ловить ее вятелями и мордами; как прилетит летняя птица, запоют жаворонки, проснутся сурки и начнут свистать, сидя на задних лапках по своим сурчинам; как зазеленеют луга, оденется лес, кусты и зальются, защелкают в них соловьи… Простые, но горячие слова западали мне глубоко в душу, потрясали какие-то неведомые струны и пробуждали какие-то неизвестные томительные и сладкие чувства. Только нам троим, отцу, мне и Евсеичу, было не грустно и не скучно смотреть на почерневшие крыши и стены строений и голые сучья дерев, на мокреть и слякоть, на грязные сугробы снега, на лужи мутной воды, на серое небо, на туман сырого воздуха, на снег и дождь, то вместе, то попеременно падавшие из потемневших низких облаков. Заключенный в доме, потому что в мокрую погоду меня и на крыльцо не выпускали, я тем не менее следил за каждым шагом весны. В каждой комнате, чуть ли не в каждом окне, были у меня замечены особенные предметы или места, по которым я производил мои наблюдения: из новой горницы, то есть из нашей спальни, с одной стороны виднелась Челявская гора, оголявшая постепенно свой крутой и круглый взлобок, с другой – часть реки давно растаявшего Бугуруслана, с противоположным берегом; из гостиной чернелись проталины на Кудринской горе, особенно около круглого родникового озера, в котором мочили конопли; из залы стекленелась лужа воды, подтоплявшая грачевую рощу; из бабушкиной и тетушкиной горницы видно было гумно на высокой горе и множество сурчин по ней, которые с каждым днем освобождались от снега. Шире, длиннее становились грязные проталины, полнее наливалось озеро в роще, и, проходя сквозь забор, уже показывалась вода между капустных гряд в нашем огороде. Все замечалось мною точно и внимательно, и каждый шаг весны торжествовался, как победа! С утра до вечера бегал я из комнаты в комнату, становясь на свои наблюдательные сторожевые места. Чтенье, письмо, игры с сестрой, даже разговоры с матерью – все вылетело у меня из головы. О том, чего не мог видеть своими глазами, получал я беспрестанные известия от отца, Евсеича, из девичьей и лакейской: «пруд посинел и надулся, ездить по нем опасно, мужик с возом провалился, подпруда подошла под водяные колеса, молоть уж нельзя, пора спускать воду; Антошкин овраг ночью прошел, да и Мордовский напружился и почернел, скоро никуда нельзя будет проехать; дорожки начали проваливаться, в кухню не пройдешь. Мазан провалился с миской щей и щи пролил, мостки снесло, вода залила людскую баню», – вот что слышал я беспрестанно, и неравнодушно принимались все такие известия. Грачи давно расхаживали по двору и начали вить гнезда в грачевой роще; скворцы и жаворонки тоже прилетели. И вот стала появляться настоящая птица, дичь, по выражению охотников. Отец с восхищением рассказывал мне, что видел лебедей, так высоко летевших, что он едва мог разглядеть их, и что гуси потянулись большими станицами. Евсеич видел нырков и кряковых уток, опустившихся на пруд, видел диких голубей по гумнам, дроздов и пигалиц около родников… Сколько волнений, сколько шумной радости! Вода сильно прибыла. Немедленно спустили пруд – и без меня. Погода была слишком дурна, и я не смел даже проситься. Рассказы отца отчасти удовлетворили моему любопытству. С каждым днем известия становились чаще, важнее, возмутительнее! Наконец Евсеич с азартом объявил, что «всякая птица валом валит, без перемежки!». Переполнилась мера моего терпения. Невозможно стало для меня все это слышать и не видеть, и с помощью отца, слез и горячих убеждений выпросил я позволение у матери, – одевшись тепло, потому что дул сырой и пронзительный ветер, посидеть на крылечке, выходившем в сад, прямо над Бугурусланом. Внутренняя дверь еще не была откупорена. Евсеич обнес меня кругом дома на руках, потому что везде была вода и грязь. В самом деле, то происходило в воздухе, на земле и на воде, чего представить себе нельзя, не видавши, и чего увидеть теперь уже невозможно в тех местах, о которых я говорю, потому что нет такого множества прилетной дичи. Река выступила из берегов, подняла урему на обеих сторонах и, захватив половину нашего сада, слилась с озером грачевой рощи. Все берега полоев были усыпаны всякого рода дичью; множество уток плавало по воде между верхушками затопленных кустов, а между тем беспрестанно проносились большие и малые стаи разной прилетной птицы: одни летели высоко, не останавливаясь, а другие – низко, часто опускаясь на землю; одни стаи садились, другие поднимались, третьи перелетывали с места на место: крик, писк, свист наполнял воздух. Не зная, какая это летит или ходит птица, какое ее достоинство, какая из них пищит или свистит, я был поражен, обезумлен таким зрелищем. Отец и Евсеич, которые стояли возле меня, сами находились в большом волнении. Они указывали друг другу на птицу, называли ее по имени, отгадывая часто по голосу, потому что только ближнюю можно было различить и узнать по перу. «Шилохвостя, шилохвостя-то сколько! – говорил торопливо Евсеич. – Эки стаи! А кряковны-то! батюшки, видимо-невидимо!» – «А слышишь ли, – подхватывал мой отец, – ведь это степняги, кроншнепы заливаются! Только больно высоко. А вот сивки играют над озимями, точно туча! Веретенников-то сколько! а турухтанов-то – я уже и не видывал таких стай!» Я слушал, смотрел и тогда ничего не понимал, что вокруг меня происходило; только сердце то замирало, то стучало, как молотком; но зато после все представлялось, даже теперь представляется, мне ясно и отчетливо, доставляло и доставляет неизъяснимое наслаждение!.. И все это понятно вполне только одним охотникам! Я и в ребячестве был уже в душе охотник, и потому можно судить, что я чувствовал, когда воротился в дом! Я казался, я должен был казаться каким-то полоумным, помешанным; глаза у меня были дикие, я ничего не видел, ничего не слышал, что со мной говорили. Я держался за руку отца, пристально смотрел ему в глаза и с ним только мог говорить, и только о том, что мы сейчас видели. Мать сердилась и грозила, что не будет пускать меня, если я не образумлюсь и не выброшу сейчас из головы уток и куликов. Боже мой, да разве можно было это сделать!.. Вдруг грянул выстрел под самыми окнами, я бросился к окошку и увидел дымок, расходящийся в воздухе, стоящего с ружьем Филиппа (старый сокольник) и пуделя Тритона, которого все звали «Трентон», который, держа во рту за крылышко какую-то птицу, выходил из воды на берег. Скоро Филипп пришел с своей добычей: это был кряковый селезень, как мне сказали, до того красивый пером, что я долго любовался им, рассматривая его бархатную зеленую голову и шею, багряный зоб и темно-зеленые косички в хвосте.
Мало-помалу привык я к наступившей весне и к ее разнообразным явлениям, всегда новым, потрясающим и восхитительным; говорю – привык, в том смысле, что уже не приходил в исступление. Погода становилась теплая, мать без затруднения пускала меня на крылечко и позволяла бегать по высохшим местам; даже сестрицу отпускала со мной. Всякий день кто-нибудь из охотников убивал то утку, то кулика, и Мазан застрелил даже дикого гуся и принес к отцу с большим торжеством, рассказывая подробно, как он подкрался камышами, в воде по горло, к двум гусям, плававшим на материке пруда, как прицелился в одного из них, и заключил рассказ словами: «Как ударил, так и не ворохнулся!» Всякий день также стал приносить старый грамотей Мысеич разную крупную рыбу: щук, язей, головлей, линей и окуней. Я любил тогда рыбу больше, чем птиц, потому что знал и любил рыбную ловлю, то есть уженье; каждого большого линя, язя или головля воображал я на удочке, представляя себе, как бы он стал биться и метаться и как было бы весело вытащить его на берег.
Несмотря, однако же, на все предосторожности, я как-то простудился, получил насморк и кашель и, к великому моему горю, должен был оставаться заключенным в комнатах, которые казались мне самою скучною тюрьмою, о какой я только читывал в своих книжках; а как я очень волновался рассказам Евсеича, то ему запретили доносить мне о разных новостях, которые весна беспрестанно приносила с собой; к тому же мать почти не отходила от меня. Она сама была не совсем здорова. В первый день напала на меня тоска, увеличившая мое лихорадочное состояние, но потом я стал спокойнее и целые дни играл, а иногда читал книжку с сестрицей, беспрестанно подбегая, хоть на минуту, к окнам, из которых виден был весь разлив полой воды, затопившей огород и половину сада. Можно было даже разглядеть и птицу, но мне не позволяли долго стоять у окошка. Скорому выздоровлению моему мешала бессонница, которая, бог знает отчего, на меня напала. Это расстраивало сон моей матери, которая хорошо спала только с вечера. По совету тетушки, для нашего усыпления позвали один раз ключницу Пелагею, которая была великая мастерица сказывать сказки и которую даже покойный дедушка любил слушать. Мать и прежде знала об этом, но она не любила ни сказок, ни сказочниц и теперь неохотно согласилась. Пришла Пелагея, не молодая, но еще белая, румяная и дородная женщина, помолилась богу, подошла к ручке, вздохнула несколько раз, по своей привычке всякий раз приговаривая: «Господи, помилуй нас, грешных», села у печки, подгорюнилась одною рукой и начала говорить, немного нараспев: «В некиим царстве, в некиим государстве…» Это вышла сказка под названием «Аленький цветочек»{Эту сказку, которую слыхал я в продолжение нескольких годов не один десяток раз, потому что она мне очень нравилась, впоследствии выучил я наизусть и сам сказывал ее, со всеми прибаутками, ужимками, оханьем и вздыханьем Пелагеи. Я так хорошо ее передразнивал, что все домашние хохотали, слушая меня. Разумеется, потом я забыл свой рассказ; но теперь, восстановляя давно прошедшее в моей памяти, я неожиданно наткнулся на груду обломков этой сказки; много слов и выражений ожило для меня, и я попытался вспомнить ее. Странное сочетание восточного вымысла, восточной постройки и многих, очевидно переводных, выражений с приемами, образами и народною нашею речью, следы прикосновенья разных сказочников и сказочниц, – показались мне стоящими вниманья. (Примеч. молодого Багрова.)}. Нужно ли говорить, что я не заснул до окончания сказки, что, напротив, я не спал долее обыкновенного? Сказка до того возбудила мое любопытство и воображение, до того увлекла меня, что могла бы вылечить от сонливости, а не от бессонницы. Мать заснула сейчас; но, проснувшись через несколько часов и узнав, что я еще не засыпал, она выслала Пелагею, которая разговаривала со мной об «Аленьком цветочке», и сказыванье сказок на ночь прекратилось очень надолго. Это запрещение могло бы сильно огорчить меня, если б мать не позволила Пелагее сказывать иногда мне сказки в продолжение дня.
На другой же день выслушал я в другой раз повесть об «Аленьком цветочке». С этих пор, до самого моего выздоровления, то есть до середины Страстной недели, Пелагея ежедневно рассказывала мне какую-нибудь из своих многочисленных сказок. Более других помню я «Царь-девицу», «Иванушку-дурачка», «Жар-птицу» и «Змея-Горыныча». Сказки так меня занимали, что я менее тосковал о вольном воздухе, не так рвался к оживающей природе, к разлившейся воде, к разнообразному царству прилетевшей птицы. В Страстную субботу мы уже гуляли с сестрицей по высохшему двору. В этот день мой отец, тетушка Татьяна Степановна и тетушка Александра Степановна, которая на то время у нас гостила, уехали ночевать в Неклюдово, чтобы встретить там в храме божием Светлое христово воскресенье. Проехать было очень трудно, потому что полая вода хотя и пошла на убыль, но все еще высоко стояла; они пробрались по плотине в крестьянских телегах и с полверсты ехали полями; вода хватала выше колесных ступиц, и мне сказывали провожавшие их верховые, что тетушка Татьяна Степановна боялась и громко кричала, а тетушка Александра Степановна смеялась. Я слышал, как Параша тихо сказала Евсеичу: «Эта чего испугается!» – и дивился тетушкиной храбрости. С четверга на страстной начали красить яйца: в красном и синем сандале{Сандал – краска, извлекаемая из древесины различных деревьев при помощи спирта или эфира.}, в серпухе{Серпуха – желтая растительная краска для тканей.} и луковых перьях; яйца выходили красные, синие, желтые и бледно-розового, рыжеватого цвета. Мы с сестрицей с большим удовольствием присутствовали при этом крашенье. Но мать умела мастерски красить яйца в мраморный цвет разными лоскутками и шемаханским шелком. Сверх того, она с необыкновенным искусством простым перочинным ножичком выскабливала на красных яйцах чудесные узоры, цветы и слова: «Христос воскрес». Она всем приготовила по такому яичку, и только я один видел, как она над этим трудилась. Мое яичко было лучше всех, и на нем было написано: «Христос воскрес, милый друг Сереженька!» Матери было очень грустно, что она не услышит заутрени светлого христова воскресенья, и она удивлялась, что бабушка так равнодушно переносила это лишение; но бабушке, которая бывала очень богомольна, как-то ни до чего уже не было дела.
Я заснул в обыкновенное время, но вдруг отчего-то ночью проснулся: комната была ярко освещена, кивот с образами растворен, перед каждым образом, в золоченой ризе, теплилась восковая свеча, а мать, стоя на коленях, вполголоса читала молитвенник, плакала и молилась. Я сам почувствовал непреодолимое желание помолиться вместе с маменькой и попросил ее об этом. Мать удивилась моему голосу и даже смутилась, но позволила мне встать. Я проворно вскочил с постели, стал на коленки и начал молиться с неизвестным мне до тех пор особого рода одушевлением; но мать уже не становилась на колени и скоро сказала: «Будет, ложись спать». Я прочел на лице ее, услышал в голосе, что помешал ей молиться. Я из всех сил старался поскорее заснуть, но не скоро утихло детское мое волнение и непостижимое для меня чувство умиления. Наконец мать, помолясь, погасила свечки и легла на свою постель. Яркий свет потух, теплилась только тусклая лампада; не знаю, кто из нас заснул прежде. К большой моей досаде, я проснулся довольно поздно: мать была совсем одета; она обняла меня и, похристосовавшись заранее приготовленным яичком, ушла к бабушке. Вошел Евсеич, также похристосовался со мной, дал мне желтое яичко и сказал: «Эх, соколик, проспал! Ведь я говорил тебе, что надо посмотреть, как солнышко на восходе играет и радуется христову воскресенью». Мне самому было очень досадно; я поспешил одеться, заглянул к сестрице и братцу, перецеловал их и побежал в тетушкину комнату, из которой видно было солнце, и, хотя оно уже стояло высоко, принялся смотреть на него сквозь мои кулаки. Мне показалось, что солнышко как будто прыгает, и я громко закричал: «Солнышко играет! Евсеич правду сказал». Мать вышла ко мне из бабушкиной горницы, улыбнулась моему восторгу и повела меня христосоваться к бабушке. Она сидела в шелковом платке и шушуне, на дедушкиных креслах; мне показалось, что она еще более опустилась и постарела в своем праздничном платье. Бабушка не хотела разгавливаться до получения петой пасхи и кулича, но мать сказала, что будет пить чай со сливками, и увела меня с собою.
Отец с тетушками воротился еще до полден, когда нас с сестрицей только что выпустили погулять. Назад проехали они лучше, потому что воды в ночь много убыло; они привезли с собой петые пасхи, куличи, крутые яйца и четверговую соль. В зале был уже накрыт стол; мы все собрались туда и разговелись. Правду сказать, настоящим-то образом разгавливались бабушка, тетушки и отец: мать постничала одну Страстную неделю (да она уже и пила чай со сливками), а мы с сестрицей – только последние три дня; но зато нам было голоднее всех, потому что нам не давали обыкновенной постной пищи, а питались мы ухою из окуней, медом и чаем с хлебом. Для прислуги была особая пасха и кулич. Вся дворня собралась в лакейскую и залу; мы перехристосовались со всеми; каждый получил по кусочку кулича, пасхи и по два красных яйца, каждый крестился и потом начинал кушать. Я заметил, что наш кулич был гораздо белее того, каким разгавливались дворовые люди, и громко спросил: «Отчего Евсеич и другие кушают не такой же белый кулич, как мы?» Александра Степановна с живостью и досадой отвечала мне: «Вот еще выдумал! Едят и похуже». Я хотел было сделать другой вопрос, но мать сказала мне: «Это не твое дело». Через час после разгавливанья пасхою и куличом приказали подавать обед, а мне с сестрицей позволили еще побегать по двору, потому что день был очень теплый, даже жаркий. Дворовые мальчишки и девочки, несколько принаряженные, – иные хоть тем, что были в белых рубашках, почище умыты и с приглаженными волосами, – все весело бегали и начали уже катать яйца, как вдруг общее внимание привлечено было двумя какими-то пешеходами, которые, сойдя с Кудринской горы, шли вброд по воде, прямо через затопленную урему. В одну минуту сбежалась вся дворня, и вскоре узнали в этих пешеходах старого мельника Болтуненка и дворового молодого человека, Василия Петрова, возвращающихся от обедни из того же села Неклюдова. По безрассудному намерению пробраться полоями к летней кухне, которая соединялась высокими мостками с высоким берегом нашего двора, все угадали, что они были пьяны. Очевидно, что они хотели избежать длинного обхода на мельничную плотину. Конечно, вода уже так сбыла, что в обыкновенных местах доставала не выше колена, но зато во всех ямах, канавках и старицах, которые в летнее время высыхали и которые окружали кухню, глубина была еще значительна. Сейчас начались опасения, что эти люди могут утонуть, попав в глубокое место, что могло бы случиться и с трезвыми людьми; дали знать отцу. Он пришел, увидел опасность и приказал как можно скорее заложить лошадь в роспуски и привезть лодку с мельницы, на которой было бы нетрудно перевезти на берег этих безумцев. Болтуненок и Васька Рыжий (как его обыкновенно звали), распевая громко песни, то сходясь вместе, то расходясь врозь, потому что один хотел идти налево, а другой – направо, подвигались вперед: голоса их становились явственно слышны. Вся толпа дворовых, к которым беспрестанно присоединялись крестьянские парни и девки, принимала самое живое участие: шумела, смеялась и спорила между собой. Одни говорили, что беды никакой не будет, что только выкупаются, что холодная вода выгонит хмель, что везде мелко, что только около кухни в старице будет по горло, но что они мастера плавать; а другие утверждали, что, стоя на берегу, хорошо растабаривать, что глубоких мест много, а в старице и с руками уйдешь; что одежда на них намокла, что этак и трезвый не выплывет, а пьяные пойдут как ключ ко дну. Забывая, что хотя слышны были голоса, а слов разобрать невозможно, все принялись кричать и давать советы, махая изо всей мочи руками: «Левее, правее, сюда, туда, не туда» и проч. Между тем пешеходы, попав несколько раз в воду по пояс, а иногда и глубже, в самом деле как будто отрезвились, перестали петь и кричать и молча шли прямо вперед. Вдруг почему-то они переменили направление и стали подаваться влево, где текла скрытая под водою, так называемая новенькая, глубокая тогда канавка, которую можно было только различить по быстроте течения. Вся толпа подняла громкий крик, которого нельзя было не слышать, но на который не обратили никакого внимания, а может быть, и сочли одобрительным знаком, несчастные пешеходы. Подойдя близко к канаве, они остановились, что-то говорили, махали руками, и видно было, что Василий указывал в другую сторону. Наступила мертвая тишина: точно все старались вслушаться, что они говорят… Слава богу, они пошли вниз по канавке, но по самому ее краю. В эту минуту прискакал с лодкой молодой мельник, сын старого Болтуненка. Лодку подвезли к берегу, спустили на воду; молодой мельник замахал веслом, перебил материк Бугуруслана, вплыл в старицу, как вдруг старый Болтуненок исчез под водою… Страшный вопль раздался вокруг меня и вдруг затих. Все догадались, что старый Болтуненок оступился и попал в канаву; все ожидали, что он вынырнет, всплывет наверх, канавка была узенькая и сейчас можно было попасть на берег… но никто не показывался на воде. Ужас овладел всеми. Многие начали креститься, а другие тихо шептали: «Пропал, утонул»; женщины принялись плакать навзрыд. Нас увели в дом. Я так был испуган, поражен всем виденным мною, что ничего не мог рассказать матери и тетушкам, которые принялись меня расспрашивать: «Что такое случилось?» Евсеич же с Парашей только впустили нас в комнату, а сами опять убежали. В целом доме не было ни одной души из прислуги. Впрочем, мать, бабушка и тетушки знали, что пьяные люди идут вброд по полям, а как я, наконец, сказал слышанные мною слова, что старый Болтуненок «пропал, утонул», то несчастное событие вполне и для них объяснилось. Тетушки сами пошли узнать подробности этого несчастия и прислать к нам кого-нибудь. Вскоре прибежала бабушкина Груша и сестрицына нянька Параша. Они сказали нам, что старого мельника не могут найти, что много народу с шестами и баграми переехало и перебралось кое-как через старицу, и что теперь хоть и найдут утопленника, да уж он давно захлебнулся. «Больно жалко смотреть, – прибавила Параша, – на ребят и на хворую жену старого мельника, а уж ему так на роду написано».
Все были очень огорчены, и светлый веселый праздник вдруг сделался печален. Что же происходило со мной, трудно рассказать. Хотя я много читал и еще больше слыхал, что люди то и дело умирают, знал, что все умрут, знал, что в сражениях солдаты погибают тысячами, очень живо помнил смерть дедушки, случившуюся возле меня, в другой комнате того же дома, – но смерть мельника Болтуненка, который перед моими глазами шел, пел, говорил и вдруг пропал навсегда, произвела на меня особенное, гораздо сильнейшее впечатление, и утонуть в канавке показалось мне гораздо страшнее, чем погибнуть при каком-нибудь кораблекрушении на беспредельных морях, на бездонной глубине (о кораблекрушениях я много читал). На меня напал безотчетный страх, что каждую минуту может случиться какое-нибудь подобное неожиданное несчастье с отцом, с матерью и со всеми нами. Мало-помалу возвращалась наша прислуга. У всех был один ответ: «Не нашли Болтуненка». Давно уже прошло обычное время для обеда, который бывает ранее в день разговенья. Наконец накрыли стол, подали кушать и послали за моим отцом. Он пришел огорченный и расстроенный. Он с детских лет своих знал старого мельника Болтуненка и очень его любил. Обед прошел грустно, и как только встали из-за стола, отец опять ушел. До самого вечера искали тело несчастного мельника. Утомленные, передрогшие от мокрети и голодные люди, не успевшие даже хорошенько разговеться, возвращались уже домой, как вдруг крик молодого Болтуненка: «Нашел!» – заставил всех воротиться. Сын зацепил багром за зипун утонувшего отца и при помощи других с большим усилием вытащили его труп. Оказалось, что утонувший как-то попал под оголившийся корень старой ольхи, растущей на берегу не новой канавки, а глубокой старицы, огибавшей остров, куда снесло тело быстротою воды. Как скоро весть об этом событии дошла до нас, опять на несколько времени опустел наш дом: все сбегали посмотреть утопленника и все воротились с такими страшными и подробными рассказами, что я не спал почти всю ночь, воображая себе старого мельника, дрожа и обливаясь холодным потом. Но я имел твердость одолеть мой ужас и не будить отца и матери. Прошла мучительная ночь, стало светло, и на солнечном восходе затихло, улеглось мое воспаленное воображение – я сладко заснул.
Погода переменилась, и остальные дни святой недели были дождливы и холодны. Дождя выпало так много, что сбывавшая полая вода, подкрепленная дождями и так называемою земляною водою, вновь поднялась и, простояв на прежней высоте одни сутки, вдруг слила. В то же время также вдруг наступила и летняя теплота, что бывает часто в апреле. В конце Фоминой недели началась та чудная пора, не всегда являющаяся дружно, когда природа, пробудясь от сна, начнет жить полною, молодою, торопливою жизнью: когда все переходит в волнение, в движенье, в звук, в цвет, в запах. Ничего тогда не понимая, не разбирая, не оценивая, никакими именами не называя, я сам почуял в себе новую жизнь, сделался частью природы, и только в зрелом возрасте сознательных воспоминаний об этом времени сознательно оценил всю его очаровательную прелесть, всю поэтическую красоту. Тогда я узнал то, о чем догадывался, о чем мечтал, встречая весну в Уфе, в городском доме, в дрянном саду или на грязной улице. В Сергеевку я приехал уже поздно и застал только конец весны, когда природа достигла полного развития и полного великолепия; беспрестанного изменения и движения вперед уже не было.
Горестное событие, смерть старого мельника, скоро было забыто мной, подавлено, вытеснено новыми, могучими впечатлениями. Ум и душа стали чем-то полны, какое-то дело легло на плечи, озабочивало меня, какое-то стремление овладело мной, хотя в действительности я ничем не занимался, никуда не стремился, не читал и не писал. Но до чтения ли, до письма ли было тут, когда душистые черемухи зацветают, когда пучок на березах лопается, когда черные кусты смородины опушаются беловатым пухом распускающихся сморщенных листочков, когда все скаты гор покрываются подснежными тюльпанами, называемыми сон, лилового, голубого, желтоватого и белого цвета, когда полезут везде из земли свернутые в трубочки травы и завернутые в них головки цветков; когда жаворонки с утра до вечера висят в воздухе над самым двором, рассыпаясь в своих журчащих, однообразных, замирающих в небе песнях, которые хватали меня за сердце, которых я заслушивался до слез; когда божьи коровки и все букашки выползают на божий свет, крапивные и желтые бабочки замелькают, шмели и пчелы зажужжат; когда в воде движение, на земле шум, в воздухе трепет, когда и луч солнца дрожит, пробиваясь сквозь влажную атмосферу, полную жизненных начал.
А сколько было мне дела, сколько забот! Каждый день надо было раза два побывать в роще и осведомиться, как сидят на яйцах грачи; надо было послушать их докучных криков; надо было посмотреть, как развертываются листья на сиренях и как выпускают они сизые кисти будущих цветов; как поселяются зорьки и малиновки в смородинных и барбарисовых кустах; как муравьиные кучи ожили, зашевелились; как муравьи показались сначала понемногу, а потом высыпали наружу в бесчисленном множестве и принялись за свои работы; как ласточки начали мелькать и нырять под крыши строений в старые свои гнезда; как клохтала наседка, оберегая крошечных цыплят, и как коршуны кружились, плавали над ними… О, много было дела и заботы мне! Я уже не бегал по двору, не катал яиц, не качался на качелях с сестрицей, не играл с Суркой, а ходил и чаще стоял на одном месте, будто невеселый и беспокойный, ходил, глядел и молчал против моего обыкновения. Обветрил и загорел я, как цыган. Сестрица смеялась надо мной. Евсеич не мог надивиться, что я не гуляю как следует, не играю, не прошусь на мельницу, а все хожу и стою на одних и тех же местах. «Ну, чего, соколик, ты не видал тут?» – говорил он. Мать также не понимала моего состояния и с досадою на меня смотрела; отец сочувствовал мне больше. Он ходил со мной подглядывать за птичками в садовых кустах и рассказывал, что они завивают уже гнезда. Он ходил со мной и в грачевую рощу и очень сердился на грачей, что они сушат вершины берез, ломая ветви для устройства своих уродливых гнезд, даже грозился разорить их. Как был отец доволен, увидев в первый раз медуницу! Он научил меня легонько выдергивать лиловые цветки и сосать белые, сладкие их корешки. И как он еще более обрадовался, услыша издали, также в первый раз, пение варакушки. «Ну, Сережа, – сказал он мне, – теперь все птички начнут петь: варакушка первая запевает. А вот когда оденутся кусты, то запоют наши соловьи, и еще веселее будет в Багрове!»
Наконец пришло и это время: зазеленела трава, распустились деревья, оделись кусты, запели соловьи – и пели, не уставая, и день и ночь. Днем их пение не производило на меня особенного впечатления; я даже говорил, что и жаворонки поют не хуже; но поздно вечером или ночью, когда все вокруг меня утихало, при свете потухающей зари, при блеске звезд соловьиное пение приводило меня в волнение, в восторг и сначала мешало спать. Соловьев было так много, и ночью они, казалось, подлетали так близко к дому, что, при закрытых ставнями окнах, свисты, раскаты и щелканье их с двух сторон врывались с силою в нашу закупоренную спальню, потому что она углом выходила на загибавшуюся реку, прямо в кусты, полные соловьев. Мать посылала ночью пугать их. И тут только поверил я словам тетушки, что соловьи не давали ей спать. Я не знаю, исполнились ли слова отца, стало ли веселее в Багрове? Вообще я не умею сказать: было ли мне тогда весело? Знаю только, что воспоминание об этом времени во всю мою жизнь разливало тихую радость в душе моей.
Текст книги «Детские годы Багрова-внука»
Автор книги: Сергей Аксаков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
В этом роде жизнь, с мелкими изменениями, продолжалась с лишком два месяца, и, несмотря на великолепный дом, каким он мне казался тогда, на разрисованные стены, которые нравились мне больше картин и на которые я не переставал любоваться; несмотря на старые и новые песни, которые часто и очень хорошо певала вместе с другими Прасковья Ивановна и которые я слушал всегда с наслаждением; несмотря на множество новых книг, читанных мною с увлечением, – эта жизнь мне очень надоела. Я нетерпеливо желал воротиться из шумного Чурасова в тихое Багрово, в бедный наш дом; я даже соскучился по бабушке и тетушке. Но главною причиною скуки, ясно и тогда мною понимаемою, было то, что я мало проводил времени наедине с матерью. Я уже привык к чистосердечному излиянию всех моих мыслей и чувств в ее горячее материнское сердце, привык поверять свои впечатления ее разумным судом, привык слышать ее живые речи и находить в них необъяснимое удовольствие. В Чурасове беспрестанно нам мешали Миницкие, и особенно Александра Ивановна; они даже отвлекали от меня внимание матери, – и много новых вопросов, сомнений и предположений, беспрестанно возникавших во мне от новых людей и предметов, оставались без окончательного решения, разъяснения, опровержения или утверждения: это постоянно беспокоило меня. Сестрицу я любил час от часу горячее; ее дружба очень утешала меня, но я был старше, более развит и мог только сообщать ей свои мысли, а не советоваться с ней. Несознаваемою мною тогда причиною скуки, вероятно, было лишение полной свободы. Я знал только один кабинет; мне не позволяли оставаться долго в детской у братца, которого я начинал очень любить, потому что у него были прекрасные черные глазки, и которого, бог знает за что, называла Прасковья Ивановна чернушкой. Кроме же кабинета и детской, только на короткое время, непременно с Евсеичем, позволяли мне побегать в столовой. Прасковьи Ивановны я не понимал; верил на слово, что она добрая, но постоянно был недоволен ее обращением со мной, с моей сестрой и братцем, которого она один раз приказала было высечь за то, что он громко плакал; хорошо, что маменька не послушалась. Итак, весьма естественно, что я очень обрадовался, когда стали поговаривать об отъезде. Видно, Прасковья Ивановна очень полюбила мою мать, потому что несколько раз откладывала наш отъезд. «Ну, что тебе там делать, в этой мурье? – говорила она. – Свекровь по тебе не стоскуется, а золовки и подавно. Я тебя ничем не стесняю, а на людях веселее». Мать и не спорила; но отец мой тихо, но в то же время настоятельно докладывал своей тетушке, что долее оставаться нельзя, что уже три почты нет писем из Багрова от сестрицы Татьяны Степановны, что матушка слаба здоровьем, хозяйством заниматься не может, что она после покойника-батюшки стала совсем другая и очень скучает. Он прибавлял, что молотьба и поставка хлеба идет очень плохо и что ему нечем будет жить.
Прасковья Ивановна отвечала, что все это «враки» – и не пособляла моему отцу ни одной копейкой. Наконец мы собрались совсем, и хозяйка согласилась отпустить нас, взяв честное слово с моего отца и матери, что мы непременно приедем в исходе лета и проживем всю осень. «Да, Софья Николавна, – говорила она, – ты еще не видала моего Чурасова; его надо видеть летом, когда все деревья будут покрыты плодами и когда заиграют все мои двадцать родников. Приезжай же непременно. Если муж не поедет, приезжай одна с ребятишками, хоть я до них и не охотница; а всего бы лучше чернушку, меньшего сынка, оставить у бабушки, пусть он ревет там вволю. Если не приедете – осержусь». Отец и мать обещали непременно приехать. Сверх всякого ожидания, бабушка Прасковья Ивановна подарила мне несколько книг, а именно: «Кадм и Гармония». «Полидор, сын Кадма и Гармонии», «Нума, или Процветающий Рим», «Мои безделки» и «Аониды» и этим подарком много примирила меня с собой. Мы уехали на другой день рождения моего отца, то есть 22 февраля. Мы возвращались опять тою же дорогой, через Старое Багрово и Вишенки. Кроме нескольких дней простоя в этих деревнях, мы ехали с лишком восемь дней. Такой тягостной, мучительной дороги я до сих пор и не испытывал. Снега были страшные и – ежедневный буран; дороги иногда и следочка не было, и в некоторых местах не могли мы обойтись без проводников. В восьмой день мы приехали ночевать в Неклюдово к Кальпинским, где узнали, что бабушка и тетушка здоровы. На другой день поутру, напившись чаю, мы пустились в путь, и часа через два я увидел с горы уже милое мне Багрово.
БАГРОВО ПОСЛЕ ЧУРАСОВА
Багрово было очень печально зимою, а после Чурасова должно было показаться матери моей еще печальнее. Расположенное в лощине между горами, с трех сторон окруженное тощей, голой уремой, а с четвертой – голою горою, заваленной сугробами снега, из которых торчали соломенные крыши крестьянских изб, – Багрово произвело ужасно тяжелое впечатление на мою мать. Но отец и даже я с радостью его увидели. Отец провел в нем свое детство, я начинал проводить. В самом деле, в сравнении с богатым Чурасовым, похожим на город, это были какие-то зимние юрты кочующего народа. В Чурасове крестьянские избы, крытые дранью, с большими окнами, стояли как-то высоко и весело; вокруг них и на улице снег казался мелок: так все было уезжено и укатано; господский двор вычищен, выметен, и дорога у подъезда усыпана песком; около двух каменных церквей также все было прибрано. В Багрове же крестьянские дворы так занесло, что к каждому надо было выкопать проезд; господский двор, по своей обширности, еще более смотрел какой-то пустыней; сугробы казались еще выше, и по верхушкам их, как по горам, проложены были уединенные тропинки в кухню и людские избы.
Все было тихо, глухо, пусто. Строения, утонув в снегу, представлялись низенькими, не похожими на прежних себя. Я сам не могу надивиться, как все это не казалось мне мрачным и грустным… Сурка с товарищами встретил нас на дворе веселым, приветным лаем; две девчонки выскочили посмотреть, на кого лают собаки, и опрометью бросились назад в девичью; тетушка выбежала на крыльцо и очень нам обрадовалась, а бабушка – еще больше: из мутных, бесцветных и как будто потухших глаз ее катились крупные слезы. Она благодарила отца и особенно мать, целовала у ней руки и сказала, что «не ждала нас, зная по письмам, как Прасковья Ивановна полюбила Софью Николавну и как будет уговаривать остаться, и зная, что Прасковье Ивановне нельзя не уважить». Тут я почувствовал всю цену твердости добродушного моего отца, с которою не могла сладить богатая тетка, отдававшая ему все свое миллионное имение и привыкшая, чтоб каждое ее желание исполнялось. К большому огорчению матери, мы нашли целую половину дома холодною. Бог знает из какой экономии, бабушка, не ожидавшая нашего возвращения ранее последнего пути, не приказала топить именно наши комнаты. Делать было нечего: мы все поместились в тетушкиной комнате, а тетушка перешла к бабушке. Через три дня порядок восстановился, и мы поселились на прежних наших местах.
Обогащенный новыми книгами и новыми впечатлениями, которые сделались явственнее в тишине уединения и ненарушимой свободы, только после чурасовской жизни вполне оцененной мною, я беспрестанно разговаривал и о том, и о другом со своей матерью и с удовольствием замечал, что я стал старше и умнее, потому что мать и другие говорили, рассуждали со мной уже о том, о чем прежде и говорить не хотели. Жизнь наша потекла правильно и однообразно. Морозы стояли еще сильные, и меня долго не пускали гулять, даже не пускали, сбегать к Пантелею Григорьичу и Сергеевне; но отец мой немедленно повидался с своим слепым поверенным, и я с любопытством слушал их разговоры. Отец рассказывал подробно о своей поездке в Лукоянов, о сделках с уездным судом, о подаче просьбы и обещаниях судьи решить дело непременно в нашу пользу; но Пантелей Григорьич усмехался и, положа обе руки на свою высокую трость, говорил, что верить судье не следует, что он будет мирволить тутошнему помещику и что без правительствующего сената не обойдется; что, когда придет время, он сочинит просьбу, и тогда понадобится ехать кому-нибудь в Москву и хлопотать там у секретаря и обер-секретаря, которых он знал еще протоколистами. «Но будьте благонадежны, государь мой Алексей Степаныч, – сказал в заключение Пантелей Григорьевич. – Дело наше законное, проиграть его нельзя, а могут только затянуть решение». Отец не мог вдруг поверить, что лукояновский судья его обманет, и сам, улыбаясь, говорил: «Хорошо, Пантелей Григорьич, посмотрим, как решится дело в уездном суде». Предсказания слепого поверенного оправдались впоследствии с буквальною точностью.
Погода становилась мягче. Пришла масленица. Мы с сестрицей катались в санях и в первый раз в жизни видели, как крестьянские и дворовые мальчики и девочки смело катались с высокой горы от гумна на подмороженных коньках и ледянках. Я чувствовал, что у меня не хватило бы храбрости на такую потеху; но мне весело было смотреть на шумное веселье катающихся; многие опрокидывались вверх ногами, другие налетали на них и сами кувыркались: громкий хохот оглашал окрестные снежные поля и горы, слегка пригреваемые солнечными лучами. У нас с сестрицей была своя, Федором и Евсеичем сделанная горка перед окнами спальной; с нее я не боялся кататься вместе с моей подругой, но вдвоем не так было весело, как в шумном множестве детей, собравшихся с целой деревни, – куда нас не пускали.
Эта масленица памятна для меня тем, что к нам приезжали в гости соседи, никогда у нас не бывавшие. Палагея Ардалионовна Рожнова с сыном Митенькой; она сама была претолстая и не очень старая женщина, сын же ее – урод по своей толщине, а потому особенно было смешно, что мать называла его Митенькой. Впрочем, гости эти возбудили мое и общее любопытство не одной своей толщиной, а причиною своего посещенья. Палагея Ардалионовна хотела женить своего сына, и они приезжали смотреть невесту, то есть тетушку мою Татьяну Степановну. Для такого важного события вызвали заранее другую тетушку, Александру Степановну. Мать моя принимала в этом деле живое участие и очень желала, чтобы Татьяна Степановна вышла замуж. Прежде горячее всех желала этого бабушка; но в настоящую минуту она так опустилась, что уже не было у нее горячих желаний. Вот как происходило это посещение: в назначенный день, часов в десять утра, все в доме было готово для приема гостей: комнаты выметены, вымыты и особенно прибраны; деревенские лакеи, ходившие кое в чем, приодеты и приглажены, а также и вся девичья; тетушка разряжена в лучшее свое платье; даже бабушку одели в шелковый шушун и юбку и повязали шелковым платком вместо белой и грязной какой-то тряпицы, которою она повязывалась сверх волосника и которую едва ли переменяла со смерти дедушки. Одним словом, дом принял по возможности нарядный вид, как будто в большой праздник. Только мать и мы остались в обыкновенном своем платье. Наконец раздался крик: «Едут, едут!» Бабушку поспешно перевели под руки в гостиную, потому что она уже плохо ходила, отец, мать и тетка также отправились туда, а мы с сестрицей и даже с братцем, разумеется, с дядькой, нянькой, кормилицей и со всею девичьей, заняли окна в тетушкиной и бабушкиной горницах, чтоб видеть, как подъедут гости и как станут вылезать из повозок. Тут в самом деле было чего посмотреть! Сначала подъехала кожаная кибитка, из которой не без труда вытащили двое дюжих рожновских лакеев свою толстую барыню и взвели на крыльцо, где она и остановилась; потом подъехали необыкновенной величины розвальни, в которых глубоко сидело что-то похожее на небольшую калмыцкую кибитку или копну сена. Тут уже двух лакеев было недостаточно. К ним присоединился наш Федор, тетушкин приданый Николай, а также Мазан и Танайченок. Соединенными силами выгрузили они жениха и втащили на крыльцо; когда же гости вошли в лакейскую раздеваться, то вся девичья бросилась опрометью в коридор и буфет, чтоб видеть, как жених с матерью станут проходить через залу в гостиную. Параша отперла дверь из бабушкиной горницы в лакейскую, обыкновенно запертую на крючок, растворила ее немного, и мы видели, как маменька и сынок освобождались от зимнего платья и теплых платков. Надо сказать правду, что это была диковинная пара! Я не мог вытерпеть и громко сказал Евсеичу: «Ах, это Мавлютка!» Но Евсеич зажал мне рот, едва удерживаясь от смеха. В дверях залы встретил гостей мой отец; после многих взаимных поклонов, рекомендаций и обниманий он повел их в гостиную. Все окружающие нас удивлялись дородству жениха, а Евсеич, сказал: «Эк буря! Посытее будет Мавлютки», повел нас в наши комнаты.
Слова: жених, невеста, сватанье и свадьба были мне давно известны и давно объяснены матерью настолько, насколько я мог и должен был понимать их, так сказать, внешний смысл. Прилагая тогда мои понятия к настоящему случаю, я говорил Параше и Евсеичу: «Как же тетеньке выйти замуж за Рожнова? Жена должна помогать мужу; она такая сухонькая, а он такой толстый; она его не поднимет, если он упадет». Параша, смеясь, отвечала мне вопросом: «Да зачем же ему падать?» Но у меня было готово неопровержимое доказательство: я возразил, что «сам видел, как один раз отец упал, а маменька его подняла и ему помогла встать». Впоследствии, когда мои слова сделались известны всем тетушкам, они заставляли меня повторять их (всегда без матери) и так хохотали, что приводили меня в совершенное изумление.
Когда нас с сестрицей позвали обедать, все сидели уже за столом. Слава богу, мы только поклонились гостям, а то я боялся, что они будут нас обнимать и как-нибудь задушат. Целый обед я не спускал глаз с жениха: он так ел, что страшно было смотреть. Я заметил, что у всех невольно обращались глаза на его тарелку. Маменька его тоже кушала исправно, но успевала говорить и хвалить своего сынка. По ее словам, он был самый смирный и добрый человек, который и мухи не обидит; в то же время прекрасный хозяин, сам ездит в поле, все разумеет и за всем смотрит, и что одна у него есть утеха – борзые собачки. Она жаловалась только на его слабое здоровье и говорила, что так бережет его, что спать кладет у себя в опочивальне; она прибавила, с какими-то гримасами на лице, что Митенька будет совсем здоров, когда женится, и что если бог даст ему судьбу, то не бессчастна будет его половина. Произнося последние слова, она бросала выразительные взгляды на тетушку Татьяну Степановну, которая краснела и потупляла глаза и лицо в тарелку. После обеда, за которым жених, видно, чересчур покушал, он тотчас начал дремать. Мать извиняла его привычкой отдыхать после обеда; но, видя, что он того и гляди повалится и захрапит, велела заложить лошадей и, рассыпаясь в разных извинениях, намеках и любезностях, увезла своего слабого здоровьем Митеньку. Когда уехали гости, много было шуток и смеху, и тетушка объявила, что ни за что на свете не пойдет за такого урода и увальня, чему я был рад. Жениху дали знать стороною о нерасположении невесты – и дальнейшего формального сватовства не было.
ПЕРВАЯ ВЕСНА В ДЕРЕВНЕ
В середине великого поста, именно на середокрестной неделе, наступила сильная оттепель. Снег быстро начал таять, и везде показалась вода.
Приближение весны в деревне производило на меня необыкновенное раздражающее впечатление. Я чувствовал никогда не испытанное мною, особого рода волнение. Много содействовали тому разговоры с отцом и Евсеичем, которые радовались весне, как охотники, как люди, выросшие в деревне и страстно любившие природу, хотя сами того хорошенько не понимали, не определяли себе и сказанных сейчас мною слов никогда не употребляли. Находя во мне живое сочувствие, они с увлеченьем предавались удовольствию рассказывать мне: как сначала обтают горы, как побегут с них ручьи, как спустят пруд, разольется полая вода, пойдет вверх по полоям рыба, как начнут ловить ее вятелями и мордами; как прилетит летняя птица, запоют жаворонки, проснутся сурки и начнут свистать, сидя на задних лапках по своим сурчинам; как зазеленеют луга, оденется лес, кусты и зальются, защелкают в них соловьи… Простые, но горячие слова западали мне глубоко в душу, потрясали какие-то неведомые струны и пробуждали какие-то неизвестные томительные и сладкие чувства.
Только нам троим, отцу, мне и Евсеичу, было не грустно и не скучно смотреть на почерневшие крыши и стены строений и голые сучья дерев, на мокреть и слякоть, на грязные сугробы снега, на лужи мутной воды, на серое небо, на туман сырого воздуха, на снег и дождь, то вместе, то попеременно падавшие из потемневших низких облаков. Заключенный в доме, потому что в мокрую погоду меня и на крыльцо не выпускали, я тем не менее следил за каждым шагом весны. В каждой комнате, чуть ли не в каждом окне, были у меня замечены особенные предметы или места, по которым я производил мои наблюдения: из новой горницы, то есть из нашей спальни, с одной стороны виднелась Челяевская гора, оголявшая постепенно свой крутой и круглый взлобок, с другой – часть реки давно растаявшего Бугуруслана, с противоположным берегом; из гостиной чернелись проталины на Кудринской горе, особенно около круглого родникового озера, в котором мочили конопли; из залы стекленелась лужа воды, подтоплявшая грачовую рощу; из бабушкиной и тетушкиной горницы видно было гумно на высокой горе и множество сурчин по ней, которые с каждым днем освобождались от снега. Шире, длиннее становились грязные проталины, полнее наливалось озеро в роще, и, проходя сквозь забор, уже показывалась вода между капустных гряд в нашем огороде.
Все замечалось мною точно и внимательно, и каждый шаг весны торжествовался, как победа! С утра до вечера бегал я из комнаты в комнату, становясь на свои наблюдательные сторожевые места. Чтенье, письмо, игры с сестрой, даже разговоры с матерью – все вылетело у меня из головы. О том, чего не мог видеть своими глазами, получал я беспрестанные известия от отца, Евсеича, из девичьей и лакейской. «Пруд посинел и надулся, ездить по нем опасно, мужик с возом провалился, подпруда подошла под водяные колеса, молоть уж нельзя, пора спускать воду; Антошкин овраг ночью прошел, да и Мордовский напружился и почернел, скоро никуда нельзя будет проехать; дорожки начали проваливаться, в кухню не пройдешь. Мазан провалился с миской щей и щи пролил, мостки снесло, вода залила людскую баню», – вот что слышал я беспрестанно, и неравнодушно принимались все такие известия. Грачи давно расхаживали по двору и начали вить гнезда в грачовой роще; скворцы и жаворонки тоже прилетели. И вот стала появляться настоящая птица, дичь, по выражению охотников. Отец с восхищением рассказывал мне, что видел лебедей, так высоко летевших, что он едва мог разглядеть их, и что гуси потянулись большими станицами. Евсеич видел нырков и кряковых уток, опустившихся на пруд, видел диких голубей по гумнам, дроздов и пигалиц около родников…
Сколько волнений, сколько шумной радости! Вода сильно прибыла. Немедленно спустили пруд – и без меня. Погода была слишком дурна, и я не смел даже проситься. Рассказы отца отчасти удовлетворили моему любопытству. С каждым днем известия становились чаще, важнее, возмутительнее! Наконец Евсеич с азартом объявил, что «всякая птица валом валит, без перемежки!»
Переполнилась мера моего терпенья. Невозможно стало для меня все это слышать и не видеть, и с помощью отца, слез и горячих убеждений выпросил я позволенья у матери, одевшись тепло, потому что дул сырой и пронзительный ветер, посидеть на крылечке, выходившем в сад, прямо над Бугурусланом.
Внутренняя дверь еще не была откупорена. Евсеич обнес меня кругом дома на руках, потому что везде была вода и грязь. В самом деле, то происходило в воздухе, на земле и на воде, чего представить себе нельзя, не видавши, и чего увидеть теперь уже невозможно в тех местах, о которых я говорю, потому что нет такого множества прилетной дичи. Река выступила из берегов, подняла урему на обеих сторонах и, захватив половину нашего сада, слилась с озером грачовой рощи. Все берега полоев были усыпаны всякого рода дичью; множество уток плавало по воде между верхушками затопленных кустов, а между тем беспрестанно проносились большие и малые стаи разной прилетной птицы: одни летели высоко, не останавливаясь, а другие – низко, часто опускаясь на землю; одни стаи садились, другие поднимались, третьи перелетывали с места на место: крик, писк, свист наполнял воздух. Не зная, какая это летит или ходит птица, какое ее достоинство, какая из них пищит или свистит, я был поражен, обезумлен таким зрелищем. Отец и Евсеич, которые стояли возле меня, сами находились в большом волненье. Они указывали друг другу на птицу, называли ее по имени, отгадывая часто по голосу, потому что только ближнюю было различить и узнать по перу. «Шилохвостя, шилохвостя-то сколько! – говорил торопливо Евсеич. – Эки стаи! А кряковны-то! батюшки, видимо-невидимо!» – «А слышишь ли, – подхватывал мой отец, – ведь это степняги, кроншнепы заливаются! Только больно высоко. А вот сивки играют над озимями, точно… туча! Веретенников-то сколько! а турухтанов-то – я уже и не видывал таких стай!» – Я слушал, смотрел и тогда ничего не понимал, что вокруг меня происходило: только сердце то замирало, то стучало, как молотком; но зато после все представлялось, даже теперь представляется мне ясно и отчетливо, доставляло и доставляет неизъяснимое наслаждение!.. и все это понятно вполне только одним охотникам! Я и в ребячестве был уже в душе охотник, и потому судить, что я чувствовал, когда воротился в дом! Я казался, я должен был казаться каким-то полоумным, помешанным; глаза у меня были дикие, я ничего не видел, ничего не слышал, что со мной говорили. Я держался за руку отца, пристально смотрел ему в глаза и с ним только мог говорить, и только о том, что мы сейчас видели.
Мать сердилась и грозила, что не будет пускать меня, если я не образумлюсь и не выброшу сейчас из головы уток и куликов. Боже мой, да разве было это сделать!.. Вдруг грянул выстрел под самыми окнами, я бросился к окошку и увидел дымок, расходящийся в воздухе, стоящего с ружьем Филиппа (старый сокольник) и пуделя Тритона, которого все звали «Трентон», который, держа во рту за крылышко какую-то птицу, выходил из воды на берег. Скоро Филипп пришел с своей добычей: это был кряковный селезень, как мне сказали, до того красивый пером, что я долго любовался им, рассматривая его бархатную зеленую голову и шею, багряный зоб и темно-зеленые косички в хвосте.
Мало-помалу привык я к наступившей весне и к ее разнообразным явлениям, всегда новым, потрясающим и восхитительным; говорю привык, в том смысле, что уже не приходил от них в исступление. Погода становилась теплая, мать без затруднения пускала меня на крылечко и позволяла бегать по высохшим местам; даже сестрицу отпускала со мной. Всякий день кто-нибудь из охотников убивал то утку, то кулика, а Мазан застрелил даже дикого гуся и принес к отцу с большим торжеством, рассказывая подробно, как он подкрался камышами, в воде, по горло, к двум гусям, плававшим на материке пруда, как прицелился в одного из них, и заключил рассказ словами: «Как ударил, так и не ворохнулся!» Всякий день также стал приносить старый грамотей Мысеич разную крупную рыбу: щук, язей, голавлей, линей и окуней. Я любил тогда рыбу больше, чем птиц, потому что знал и любил рыбную ловлю, то есть уженье; каждого большого линя, язя или голавля воображал я на удочке, представляя себе, как бы он стал биться и метаться и как было бы весело вытащить его на берег.
Несмотря, однако же, на все предосторожности, я как-то простудился, получил насморк и кашель и, к великому моему горю, должен был оставаться заключенным в комнатах, которые казались мне самою скучною тюрьмою, о какой я только читывал в своих книжках; а как я очень волновался рассказам Евсеича, то ему запретили доносить мне о разных новостях, которые весна беспрестанно приносила с собой; к тому же мать почти не отходила от меня.
Она сама была не совсем здорова. В первый день напала на меня тоска, увеличившая мое лихорадочное состояние, но потом я стал спокойнее и целые дни играл, а иногда читал книжку с сестрицей, беспрестанно подбегая, хоть на минуту, к окнам, из которых виден был весь разлив полой воды, затопившей огород и половину сада. было даже разглядеть и птицу, но мне не позволяли долго стоять у окошка. Скорому выздоровлению моему мешала бессонница, которая, бог знает отчего, на меня напала. Это расстроивало сон моей матери, которая хорошо спала только с вечера. По совету тетушки, для нашего усыпления позвали один раз ключницу Пелагею, которая была великая мастерица сказывать сказки и которую даже покойный дедушка любил слушать.
Мать и прежде знала об этом, но она не любила ни сказок, ни сказочниц и теперь неохотно согласилась. Пришла Пелагея, не молодая, но еще белая, румяная и дородная женщина, помолилась богу, подошла к ручке, вздохнула несколько раз, по своей привычке всякий раз приговаривая: «господи помилуй нас, грешных», села у печки, подгорюнилась одною рукой и начала говорить, немного нараспев: «В некиим царстве, в некиим государстве…» Это вышла сказка под названием «Аленький цветочек».[43]43
Эту сказку, которую слыхал я в продолжение нескольких годов не один десяток раз, потому что она мне очень нравилась, впоследствии выучил я наизусть и сам сказывал ее, со всеми прибаутками, ужимками, оханьем и вздыханьем Пелагеи. Я так хорошо ее передразнивал, что все домашние хохотали, слушая меня. Разумеется, потом я забыл свой рассказ; но теперь, восстановляя давно прошедшее в моей памяти, я неожиданно наткнулся на груду обломков этой сказки; много слов и выражений ожило для меня, и я попытался вспомнить ее. Странное сочетание восточного вымысла, восточной постройки и многих, очевидно переводных, выражений с приемами, образами и народною нашею речью, следы прикосновенья разных сказочников и сказочниц, – показались мне стоящими вниманья. Примеч. молодого Багрова.
Чтобы не прерывать рассказа о детстве, эта сказка помещается в приложении. С.А. (Примеч. автора.)
[Закрыть]
Нужно ли говорить, что я не заснул до окончания сказки, что, напротив, я не спал долее обыкновенного?
Сказка до того возбудила мое любопытство и воображение, до того увлекла меня, что могла бы вылечить от сонливости, а не от бессонницы. Мать заснула сейчас; но, проснувшись через несколько часов и узнав, что я еще не засыпал, она выслала Пелагею, которая разговаривала со мной об «Аленьком цветочке», и сказыванье сказок на ночь прекратилось очень надолго. Это запрещенье могло бы сильно огорчить меня, если б мать не позволила Пелагее сказывать иногда мне сказки в продолжение дня.
На другой же день выслушал я в другой раз повесть об «Аленьком цветочке». С этих пор, до самого моего выздоровленья, то есть до середины страстной недели, Пелагея ежедневно рассказывала мне какую-нибудь из своих многочисленных сказок. Более других помню я «Царь-девицу», «Иванушку-дурачка», «Жар-птицу» и «Змея-Горыныча». Сказки так меня занимали, что я менее тосковал об вольном воздухе, не так рвался к оживающей природе, к разлившейся воде, к разнообразному царству прилетевшей птицы. В страстную субботу мы уже гуляли с сестрицей по высохшему двору. В этот день мой отец, тетушка Татьяна Степановна и тетушка Александра Степановна, которая на то время у нас гостила, уехали ночевать в Неклюдово, чтобы встретить там в храме божием светлое Христово воскресенье. Проехать было очень трудно, потому что полая вода хотя и пошла на убыль, но все еще высоко стояла; они пробрались по плотине в крестьянских телегах и с полверсты ехали полоями; вода хватала выше колесных ступиц, и мне сказывали провожавшие их верховые, что тетушка Татьяна Степановна боялась и громко кричала, а тетушка Александра Степановна смеялась. Я слышал, как Параша тихо сказала Евсеичу: «Эта чего испугается!» – и дивился тетушкиной храбрости. С четверга на страстной начали красить яйца: в красном и синем сандале,[44]44
Сандал – краска, извлекаемая из древесины различных деревьев при помощи спирта или эфира.
[Закрыть]
в серпухе[45]45
Серпуха – желтая растительная краска для тканей.
[Закрыть]
и луковых перьях; яйца выходили красные, синие, желтые и бледно-розового, рыжеватого цвета. Мы с сестрицей с большим удовольствием присутствовали при этом крашенье. Но мать умела мастерски красить яйца в мраморный цвет разными лоскутками и шемаханским шелком.
Сверх того, она с необыкновенным искусством простым перочинным ножичком выскабливала на красных яйцах чудесные узоры, цветы и слова: «Христос воскрес». Она всем приготовила по такому яичку, и только я один видел, как она над этим трудилась. Мое яичко было лучше всех, и на нем было написано: «Христос воскрес, милый друг Сереженька!» Матери было очень грустно, что она не услышит заутрени светлого Христова воскресенья, и она удивлялась, что бабушка так равнодушно переносила это лишенье; но бабушке, которая бывала очень богомольна, как-то ни до чего уже не было дела.
Я заснул в обыкновенное время, но вдруг отчего-то ночью проснулся: комната была ярко освещена, кивот с образами растворен, перед каждым образом, в золоченой ризе, теплилась восковая свеча, а мать, стоя на коленях, вполголоса читала молитвенник, плакала и молилась. Я сам почувствовал непреодолимое желанье помолиться вместе с маменькой и попросил ее об этом. Мать удивилась моему голосу и даже смутилась, но позволила мне встать. Я проворно вскочил с постели, стал на коленки и начал молиться с неизвестным мне до тех пор особого рода одушевленьем; но мать уже не становилась на колени и скоро сказала: «Будет, ложись спать». Я прочел на лице ее, услышал в голосе, что помешал ей молиться. Я из всех сил старался поскорее заснуть, но не скоро утихло детское мое волненье и непостижимое для меня чувство умиленья. Наконец мать, помолясь, погасила свечки и легла на свою постель. Яркий свет потух, теплилась только тусклая лампада; не знаю, кто из нас заснул прежде. К большой моей досаде, я проснулся довольно поздно: мать была совсем одета; она обняла меня и, похристосовавшись заранее приготовленным яичком, ушла к бабушке. Вошел Евсеич, также похристосовался со мной, дал мне желтое яичко и сказал: «Эх, соколик, проспал! Ведь я говорил тебе, что надо посмотреть, как солнышко на восходе играет и радуется Христову воскресенью». Мне самому было очень досадно; я поспешил одеться, заглянул к сестрице и братцу, перецеловал их и побежал в тетушкину комнату, из которой видно было солнце, и, хотя оно уже стояло высоко, принялся смотреть на него сквозь мои кулаки. Мне показалось, что солнышко как будто прыгает, и я громко закричал: «Солнышко играет! Евсеич правду сказал». Мать вышла ко мне из бабушкиной горницы, улыбнулась моему восторгу и повела меня христосоваться к бабушке. Она сидела в шелковом платке и шушуне на дедушкиных креслах; мне показалось, что она еще более опустилась и постарела в своем праздничном платье. Бабушка не хотела разгавливаться до полученья петой пасхи и кулича, но мать сказала, что будет пить чай со сливками, и увела меня с собою.
Отец с тетушками воротился еще до полден, когда нас с сестрицей только что выпустили погулять. Назад проехали они лучше, потому что воды в ночь много убыло; они привезли с собой петые пасхи, куличи, крутые яйца и четверговую соль. В зале был уже накрыт стол; мы все собрались туда и разговелись. Правду сказать, настоящим-то образом разгавливались бабушка, тетушки и отец: мать постничала одну страстную неделю (да она уже и пила чай со сливками), а мы с сестрицей – только последние три дня; но зато нам было голоднее всех, потому что нам не давали обыкновенной постной пищи, а питались мы ухою из окуней, медом и чаем с хлебом. Для прислуги была особая пасха и кулич. Вся дворня собралась в лакейскую и залу; мы перехристосовались со всеми; каждый получил по кусочку кулича, пасхи и по два красных яйца, каждый крестился и потом начинал кушать. Я заметил, что наш кулич был гораздо белее того, каким разгавливались дворовые люди, и громко спросил: «Отчего Евсеич и другие кушают не такой же белый кулич, как мы?» Александра Степановна с живостью и досадой отвечала мне: «Вот еще выдумал! едят и похуже». Я хотел было сделать другой вопрос, но мать сказала мне: «Это не твое дело». Через час после разгавливанья пасхою и куличом приказали подавать обед, а мне с сестрицей позволили еще побегать по двору, потому что день был очень теплый, даже жаркий. Дворовые мальчишки и девочки, несколько принаряженные, иные хоть тем, что были в белых рубашках, почище умыты и с приглаженными волосами, – все весело бегали и начали уже катать яйца, как вдруг общее внимание привлечено было двумя какими-то пешеходами, которые сойдя с Кудринской горы, шли вброд по воде, прямо через затопленную урему. В одну минуту сбежалась вся дворня, и вскоре узнали в этих пешеходах старого мельника Болтуненка и дворового молодого человека, Василья Петрова, возвращающихся от обедни из того же села Неклюдова. По безрассудному намерению пробраться полоями к летней кухне, которая соединялась высокими мостками с высоким берегом нашего двора, все угадали, что они были пьяны. Очевидно, что они хотели избежать длинного обхода на мельничную плотину. Конечно, вода уже так сбыла, что в обыкновенных местах доставала не выше колена, но зато во всех ямах, канавках и старицах, которые в летнее время высыхали и которые окружали кухню, глубина была еще значительна. Сейчас начались опасения, что эти люди могут утонуть, попав в глубокое место, что могло бы случиться и с трезвыми людьми; дали знать отцу. Он пришел, увидел опасность и приказал как скорее заложить лошадь в роспуски и привезть лодку с мельницы, на которой было бы не трудно перевезти на берег этих безумцев. Болтуненок и Васька Рыжий (как его обыкновенно звали), распевая громко песни, то сходясь вместе, то расходясь врозь, потому что один хотел идти налево, а другой – направо, подвигались вперед: голоса их становились явственно слышны. Вся толпа дворовых, к которым беспрестанно присоединялись крестьянские парни и девки, принимала самое живое участие: шумела, смеялась и спорила между собой. Одни говорили, что беды никакой не будет, что только выкупаются, что холодная вода выгонит хмель, что везде мелко, что только около кухни в старице будет по горло, но что они мастера плавать; а другие утверждали, что, стоя на берегу, хорошо растабарывать, что глубоких мест много, а в старице и с руками уйдешь; что одежа на них намокла, что этак и трезвый не выплывет, а пьяные пойдут как ключ ко дну. Забывая, что хотя слышны были голоса, а слов разобрать невозможно, все принялись кричать и давать советы, махая изо всей мочи руками: «Левее, правее, сюда, туда, не туда» и проч.
Сергей Аксаков
Детские годы Багрова-внука
Багрово после Чурасова
Багрово было очень печально зимою, а после Чурасова должно было показаться матери моей еще печальнее. Расположенное в лощине между горами, с трех сторон окружённое тощей, голой урёмой, а с четвертой – голою горою, заваленное сугробами снега, из которых торчали соломенные крыши крестьянских изб, – Багрово произвело ужасно тяжёлое впечатление на мою мать. Но отец и даже я с радостью его увидели. Отец провёл в нём свое детство, я начинал проводить. В самом деле, в сравнении с богатым Чурасовым, похожим на город, это были какие-то зимние юрты кочующего народа. В Чурасове крестьянские избы, крытые дранью, с большими окнами, стояли как-то высоко и весело; вокруг них и на улице снег казался мелок: так всё было уезжено и укатано; господский двор вычищен, выметен, и дорога у подъезда усыпана песком; около двух каменных церквей также всё было прибрано. В Багрове же крестьянские дворы так занесло, что к каждому надо было выкопать проезд; господский двор, по своей обширности, ещё более смотрел какой-то пустыней; сугробы казались ещё выше, и по верхушкам их, как по горам, проложены были уединённые тропинки в кухню и людские избы. Все было тихо, глухо, пусто. Строения, утонув в снегу, представлялись низенькими, не похожими на прежних себя. Я сам не могу надивиться, как всё это не казалось мне мрачным и грустным… Сурка с товарищами встретил нас на дворе весёлым, приветным лаем; две девчонки выскочили посмотреть, на кого лают собаки, и опрометью бросились назад в девичью; тётушка выбежала на крыльцо и очень нам обрадовалась, а бабушка – ещё больше: из мутных, бесцветных и как будто потухших глаз её катились крупные слезы. Она благодарила отца и особенно мать, целовала у ней руки и сказала, что «не ждала нас, зная по письмам, как Прасковья Ивановна полюбила Софью Николавну и как будет уговаривать остаться, и зная, что Прасковье Ивановне нельзя не уважить». Тут я почувствовал всю цену твёрдости добродушного моего отца, с которою не могла сладить богатая тётка, отдававшая ему всё свое миллионное имение и привыкшая, чтоб каждое её желание исполнялось. К большому огорчению матери, мы нашли целую половину дома холодною. Бог знает из какой экономии, бабушка, не ожидавшая нашего возвращения ранее последнего пути, не приказала топить именно наши комнаты. Делать было нечего: мы все поместились в тётушкиной комнате, а тётушка перешла к бабушке. Через три дня порядок восстановился, и мы поселились на прежних наших местах.
Обогащённый новыми книгами и новыми впечатлениями, которые сделались явственнее в тишине уединения и ненарушимой свободы, только после чурасовской жизни вполне оценённой мною, я беспрестанно разговаривал и о том и о другом с своей матерью и с удовольствием замечал, что я стал старше и умнее, потому что мать и другие говорили, рассуждали со мной уже о том, о чём прежде и говорить не хотели. Жизнь наша потекла правильно и однообразно. Морозы стояли ещё сильные, и меня долго не пускали гулять, даже не пускали сбегать к Пантелею Григорьевичу и Сергеевне; но отец мой немедленно повидался с своим слепым поверенным, и я с любопытством слушал их разговоры. Отец рассказывал подробно о своей поездке в Лукоянов, о сделках с уездным судом, о подаче просьбы и обещаниях судьи решить дело непременно в нашу пользу; но Пантелей Григорьич усмехался и, положа обе руки на свою высокую трость, говорил, что верить судье не следует, что он будет мирволить тутошнему помещику и что без Правительствующего Сената не обойдётся; что, когда придёт время, он сочинит просьбу, и тогда понадобится ехать кому-нибудь в Москву и хлопотать там у секретаря и обер-секретаря, которых он знал ещё протоколистами. «Но будьте благонадёжны, государь мой Алексей Степаныч, – сказал в заключение Пантелей Григорьевич. – Дело наше законное, проиграть его нельзя, а могут только затянуть решение». Отец не мог вдруг поверить, что лукояновский судья его обманет, и сам, улыбаясь, говорил: «Хорошо, Пантелей Григорьевич, посмотрим, как решится дело в уездном суде». Предсказания слепого поверенного оправдались впоследствии с буквальною точностью.
Погода становилась мягче. Пришла Масленица. Мы с сестрицей катались в санях и в первый раз в жизни видели, как крестьянские и дворовые мальчики и девочки смело катались с высокой горы от гумна на подмороженных коньках и ледянках. Я чувствовал, что у меня не хватило бы храбрости на такую потеху; но мне весело было смотреть на шумное веселье катающихся; многие опрокидывались вверх ногами, другие налетали на них и сами кувыркались: громкий хохот оглашал окрестные снежные поля и горы, слегка пригреваемые солнечными лучами. У нас с сестрицей была своя, Фёдором и Евсеичем сделанная горка перед окнами спальной; с неё я не боялся кататься вместе с моей подругой, но вдвоём не так было весело, как в шумном множестве детей, собравшихся с целой деревни, куда нас не пускали.
Эта Масленица памятна для меня тем, что к нам приезжали в гости соседи, никогда у нас не бывавшие: Палагея Ардалионовна Рожнова с сыном Митенькой; она сама была претолстая и не очень старая женщина, сын же ее – урод по своей толщине, а потому особенно было смешно, что мать называла его Митенькой. Впрочем, гости эти возбудили моё и общее любопытство не одной своей толщиной, а причиною своего посещенья. Палагея Ардалионовна хотела женить своего сына, и они приезжали смотреть невесту, то есть тётушку мою Татьяну Степановну. Для такого важного события вызвали заранее другую тётушку, Александру Степановну. Мать моя принимала в этом деле живое участие и очень желала, чтобы Татьяна Степановна вышла замуж. Прежде горячее всех желала этого бабушка; но в настоящую минуту она так опустилась, что уже не было у неё горячих желаний. Вот как происходило это посещение: в назначенный день, часов в десять утра, всё в доме было готово для приема гостей: комнаты выметены, вымыты и особенно прибраны; деревенские лакеи, ходившие кое в чем, приодеты и приглажены, а также и вся девичья; тётушка разряжена в лучшее свое платье; даже бабушку одели в шёлковый шушун и юбку и повязали шёлковым платком вместо белой и грязной какой-то тряпицы, которою она повязывалась сверх волосника и которую едва ли переменяла со смерти дедушки. Одним словом, дом принял по возможности нарядный вид, как будто в большой праздник. Только мать и мы остались в обыкновенном своём платье. Наконец раздался крик: «Едут, едут!» Бабушку поспешно перевели под руки в гостиную, потому что она уже плохо ходила, отец, мать и тётка также отправились туда, а мы с сестрицей и даже с братцем, разумеется, с дядькой, нянькой, кормилицей и со всею девичьей, заняли окна в тётушкиной и бабушкиной горницах, чтоб видеть, как подъедут гости и как станут вылезать из повозок. Тут в самом деле было чего посмотреть! Сначала подъехала кожаная кибитка, из которой не без труда вытащили двое дюжих рожновских лакеев свою толстую барыню и взвели на крыльцо, где она и остановилась; потом подъехали необыкновенной величины розвальни, в которых глубоко сидело что-то похожее на небольшую калмыцкую кибитку или копну сена. Тут уже двух лакеев было недостаточно. К ним присоединился наш Фёдор, тётушкин приданый Николай, а также Мазан и Танайчёнок. Соединёнными силами выгрузили они жениха и втащили на крыльцо; когда же гости вошли в лакейскую раздеваться, то вся девичья бросилась опрометью в коридор и буфет, чтоб видеть, как жених с матерью станут проходить через залу в гостиную. Параша отперла дверь из бабушкиной горницы в лакейскую, обыкновенно запертую на крючок, растворила ее немного, и мы видели, как маменька и сынок освобождались от зимнего платья и теплых платков. Надо сказать правду, что это была диковинная пара! Я не мог вытерпеть и громко сказал Евсеичу: «Ах, это Мавлютка!» Но Евсеич зажал мне рот, едва удерживаясь от смеха. В дверях залы встретил гостей мой отец; после многих взаимных поклонов, рекомендаций и обниманий он повёл их в гостиную. Все окружающие нас удивлялись дородству жениха, а Евсеич, сказав: «Эк буря! посытее будет Мавлютки», – повёл нас в наши комнаты.
Слова: жених, невеста, сватанье и свадьба – были мне давно известны и давно объяснены матерью настолько, насколько я мог и должен был понимать их, так сказать, внешний смысл. Прилагая тогда мои понятия к настоящему случаю, я говорил Параше и Евсеичу: «Как же тётеньке выйти замуж за Рожнова? Жена должна помогать мужу; она такая сухонькая, а он такой толстый; она его не поднимет, если он упадёт». Параша, смеясь, отвечала мне вопросом: «Да зачем же ему падать?» Но у меня было готово неопровержимое доказательство: я возразил, что «сам видел, как один раз отец упал, а маменька его подняла и ему помогла встать». Впоследствии, когда мои слова сделались известны всем тётушкам, они заставляли меня повторять их (всегда без матери) и так хохотали, что приводили меня в совершенное изумление.
Когда нас с сестрицей позвали обедать, все сидели уже за столом. Слава богу, мы только поклонились гостям, а то я боялся, что они будут нас обнимать и как-нибудь задушат. Целый обед я не спускал глаз с жениха: он так ел, что страшно было смотреть. Я заметил, что у всех невольно обращались глаза на его тарелку. Маменька его тоже кушала исправно, но успевала говорить и хвалить своего сынка. По её словам, он был самый смирный и добрый человек, который и мухи не обидит; в то же время прекрасный хозяин, сам ездит в поле, всё разумеет и за всем смотрит, и что одна у него есть утеха – борзые собачки. Она жаловалась только на его слабое здоровье и говорила, что так бережёт его, что спать кладёт у себя в опочивальне; она прибавила, с какими-то гримасами на лице, что «Митенька будет совсем здоров, когда женится, и что если бог даст ему судьбу, то не бессчастна будет его половина». Произнося последние слова, она бросала выразительные взгляды на тётушку Татьяну Степановну, которая краснела и потупляла глаза и лицо в тарелку. После обеда, за которым жених, видно, чересчур покушал, он тотчас начал дремать. Мать извиняла его привычкой отдыхать после обеда; но, видя, что он, того и гляди, повалится и захрапит, велела заложить лошадей и, рассыпаясь в разных извинениях, намеках и любезностях, увезла своего слабого здоровьем Митеньку. Когда уехали гости, много было шуток и смеху, и тётушка объявила, что ни за что на свете не пойдет за такого урода и увальня, чему я был рад. Жениху дали знать стороною о нерасположении невесты – и дальнейшего формального сватовства не было.
Первая весна в деревне
В середине Великого поста, именно на середокрестной неделе, наступила сильная оттепель. Снег быстро начал таять, и везде показалась вода. Приближение весны в деревне производило на меня необыкновенное, раздражающее впечатление. Я чувствовал никогда не испытанное мною, особого рода волнение. Много содействовали тому разговоры с отцом и Евсеичем, которые радовались весне, как охотники, как люди, выросшие в деревне и страстно любившие природу, хотя сами того хорошенько не понимали, не определяли себе и сказанных сейчас мною слов никогда не употребляли. Находя во мне живое сочувствие, они с увлеченьем предавались удовольствию рассказывать мне: как сначала обтают горы, как побегут с них ручьи, как спустят пруд, разольется полая вода, пойдет вверх по полоям рыба, как начнут ловить ее вятелями и мордами; как прилетит летняя птица, запоют жаворонки, проснутся сурки и начнут свистать, сидя на задних лапках по своим сурчинам; как зазеленеют луга, оденется лес, кусты и зальются, защелкают в них соловьи… Простые, но горячие слова западали мне глубоко в душу, потрясали какие-то неведомые струны и пробуждали какие-то неизвестные томительные и сладкие чувства. Только нам троим, отцу, мне и Евсеичу, было не грустно и не скучно смотреть на почерневшие крыши и стены строений и голые сучья дерев, на мокреть и слякоть, на грязные сугробы снега, на лужи мутной воды, на серое небо, на туман сырого воздуха, на снег и дождь, то вместе, то попеременно падавшие из потемневших низких облаков. Заключённый в доме, потому что в мокрую погоду меня и на крыльцо не выпускали, я тем не менее следил за каждым шагом весны. В каждой комнате, чуть ли не в каждом окне, были у меня замечены особенные предметы или места, по которым я производил мои наблюдения: из новой горницы, то есть из нашей спальни, с одной стороны виднелась Челяевская гора, оголявшая постепенно свой крутой и круглый взлобок, с другой – часть реки давно растаявшего Бугуруслана с противоположным берегом; из гостиной чернелись проталины на Кудринской горе, особенно около круглого родникового озера, в котором мочили конопли; из залы стекленелась лужа воды, подтоплявшая грачовую рощу; из бабушкиной и тётушкиной горницы видно было гумно на высокой горе и множество сурчин по ней, которые с каждым днём освобождались от снега. Шире, длиннее становились грязные проталины, полнее наливалось озеро в роще, и, проходя сквозь забор, уже показывалась вода между капустных гряд в нашем огороде. Все замечалось мною точно и внимательно, и каждый шаг весны торжествовался, как победа! С утра до вечера бегал я из комнаты в комнату, становясь на свои наблюдательные сторожевые места. Чтенье, письмо, игры с сестрой, даже разговоры с матерью – всё вылетело у меня из головы. О том, чего не мог видеть своими глазами, получал я беспрестанные известия от отца, Евсеича, из девичьей и лакейской. «Пруд посинел и надулся, ездить по нём опасно, мужик с возом провалился, подпруда подошла под водяные колеса, молоть уж нельзя, пора спускать воду; Антошкин овраг ночью прошёл, да и Мордовский напружился и почернел, скоро никуда нельзя будет проехать; дорожки начали проваливаться, в кухню не пройдёшь. Мазан провалился с миской щей и щи пролил, мостки снесло, вода залила людскую баню», – вот что слышал я беспрестанно, и неравнодушно принимались все такие известия. Грачи давно расхаживали по двору и начали вить гнёзда в грачовой роще; скворцы и жаворонки тоже прилетели. И вот стала появляться настоящая птица, дичь— по выражению охотников. Отец с восхищением рассказывал мне, что видел лебедей, так высоко летевших, что он едва мог разглядеть их, и что гуси потянулись большими станицами. Евсеич видел нырков и кряковных уток, опустившихся на пруд, видел диких голубей по гумнам, дроздов и пигалиц около родников… Сколько волнений, сколько шумной радости! Вода сильно прибыла. Немедленно спустили пруд – и без меня. Погода была слишком дурная, и я не смел даже проситься. Рассказы отца отчасти удовлетворили моему любопытству. С каждым днём известия становились чаще, важнее, возмутительнее! Наконец, Евсеич с азартом объявил, что «всякая птица валом валит, без перемежки!». Переполнилась мера моего терпенья. Невозможно стало для меня всё это слышать и не видеть, и с помощью отца, слёз и горячих убеждений выпросил я позволенье у матери, одевшись тепло, потому что дул сырой и пронзительный ветер, посидеть на крылечке, выходившем в сад, прямо над Бугурусланом. Внутренняя дверь ещё не была откупорена. Евсеич обнёс меня кругом дома на руках, потому что везде была вода и грязь. В самом деле, то происходило в воздухе, на земле и на воде, чего представить себе нельзя, не видавши, и чего увидеть теперь уже невозможно в тех местах, о которых я говорю, потому что нет такого множества прилётной дичи. Река выступила из берегов, подняла урёму на обеих сторонах и, захватив половину нашего сада, слилась с озером грачовой рощи. Все берега полоев были усыпаны всякого рода дичью; множество уток плавало по воде между верхушками затопленных кустов, а между тем беспрестанно проносились большие и малые стаи разной прилётной птицы: одни летели высоко, не останавливаясь, а другие низко, часто опускаясь на землю; одни стаи садились, другие поднимались, третьи перелётывали с места на место: крик, писк, свист наполнял воздух. Не зная, какая это летит или ходит птица, какое её достоинство, какая из них пищит или свистит, я был поражён, обезумлен таким зрелищем. Отец и Евсеич, которые стояли возле меня, сами находились в большом волненье. Они указывали друг другу на птицу, называли её по имени, отгадывая часто по голосу, потому что только ближнюю можно было различить и узнать по перу. «Шилохвостя, шилохвостя-то сколько! – говорил торопливо Евсеич. – Эки стаи! А кряковных-то! батюшки, видимо-невидимо!» – «А слышишь ли, – подхватывал мой отец, – ведь это степняги, кроншнепы заливаются! Только больно высоко. А вот сивки играют над озимями, точно… туча! Веретенников-то сколько! а турухтанов-то – я уже и не видывал таких стай!» Я слушал, смотрел и тогда ничего не понимал, что вокруг меня происходило: только сердце то замирало, то стучало, как молотком; но зато после всё представлялось, даже теперь представляется мне ясно и отчётливо, доставляло и доставляет неизъяснимое наслаждение!.. и всё это понятно вполне только одним охотникам! Я и в ребячестве был уже в душе охотник, и потому можно судить, что я чувствовал, когда воротился в дом! Я казался, я должен был казаться каким-то полоумным, помешанным; глаза у меня были дикие, я ничего не видел, ничего не слышал, что со мной говорили. Я держался за руку отца, пристально смотрел ему в глаза и с ним только мог говорить, и только о том, что мы сейчас видели. Мать сердилась и грозила, что не будет пускать меня, если я не образумлюсь и не выброшу сейчас из головы уток и куликов. Боже мой, да разве можно было это сделать!.. Вдруг грянул выстрел под самыми окнами, я бросился к окошку и увидел дымок, расходящийся в воздухе, стоящего с ружьём Филиппа (старый сокольник) и пуделя Тритона, которого все звали «Трентон», который, держа во рту за крылышко какую-то птицу, выходил из воды на берег. Скоро Филипп пришёл с своей добычей: это был кряковый селезень, как мне сказали, до того красивый пером, что я долго любовался им, рассматривая его бархатную зелёную голову и шею, багряный зоб и темно-зеленые косички в хвосте.
Мало-помалу привык я к наступившей весне и к ее разнообразным явлениям, всегда новым, потрясающим и восхитительным; говорю привык в том смысле, что уже не приходил от них в исступление. Погода становилась тёплая, мать без затрудненья пускала меня на крылечко и позволяла бегать по высохшим местам; даже сестрицу отпускала со мной. Всякий день кто-нибудь из охотников убивал то утку, то кулика, а Мазан застрелил даже дикого гуся и принёс к отцу с большим торжеством, рассказывая подробно, как он подкрался камышами, в воде по горло, к двум гусям, плававшим на материке пруда, как прицелился в одного из них, и заключил рассказ словами: «Как ударил, так и не ворохнулся!» Всякий день также стал приносить старый грамотей Мысеич разную крупную рыбу: щук, язей, головлей, линей и окуней. Я любил тогда рыбу больше, чем птиц, потому что знал и любил рыбную ловлю, то есть уженье, каждого большого линя, язя или головля воображал я на удочке, представляя себе, как бы он стал биться и метаться и как было бы весело вытащить его на берег.
Несмотря, однако же, на все предосторожности, я как-то простудился, получил насморк и кашель и, к великому моему горю, должен был оставаться заключённым в комнатах, которые казались мне самою скучною тюрьмою, о какой я только читывал в своих книжках; а как я очень волновался рассказами Евсеича, то ему запретили доносить мне о разных новостях, которые весна беспрестанно приносила с собой; к тому же мать почти не отходила от меня. Она сама была не совсем здорова. В первый день напала на меня тоска, увеличившая моё лихорадочное состояние, но потом я стал спокойнее и целые дни играл, а иногда читал книжку с сестрицей, беспрестанно подбегая, хоть на минуту, к окнам, из которых виден был весь разлив полой воды, затопившей огород и половину сада. Можно было даже разглядеть и птицу, но мне не позволяли долго стоять у окошка. Скорому выздоровлению моему мешала бессонница, которая, бог знает отчего, на меня напала. Это расстраивало сон моей матери, которая хорошо спала только с вечера. По совету тётушки, для нашего усыпления позвали один раз ключницу Палагею, которая была великая мастерица сказывать сказки и которую даже покойный дедушка любил слушать. Мать и прежде знала об этом, но она не любила ни сказок, ни сказочниц и теперь неохотно согласилась. Пришла Палагея, не молодая, но ещё белая, румяная и дородная женщина, помолилась богу, подошла к ручке, вздохнула несколько раз, по своей привычке всякий раз приговаривая: «Господи, помилуй нас, грешных», – села у печки, подгорюнилась одною рукой и начала говорить, немного нараспев: «В некиим царстве, в некиим государстве…» Это вышла сказка под названием «Аленький цветочек»[12]. Нужно ли говорить, что я не заснул до окончания сказки, что, напротив, я не спал долее обыкновенного? Сказка до того возбудила мое любопытство и воображение, до того увлекла меня, что могла бы вылечить от сонливости, а не от бессонницы. Мать заснула сейчас; но, проснувшись через несколько часов и узнав, что я еще не засыпал, она выслала Палагею, которая разговаривала со мной об «Аленьком цветочке», и сказыванье сказок на ночь прекратилось очень надолго. Это запрещенье могло бы сильно огорчить меня, если б мать не позволила Палагее сказывать иногда мне сказки в продолжение дня. На другой же день выслушал я в другой раз повесть об «Аленьком цветочке». С этих пор, до самого моего выздоровленья, то есть до середины Страстной недели, Палагея ежедневно рассказывала мне какую-нибудь из своих многочисленных сказок. Более других помню я «Царь-девицу», «Иванушку-дурачка», «Жар-птицу» и «Змея Горыныча». Сказки так меня занимали, что я менее тосковал об вольном воздухе, не так рвался к оживающей природе, к разлившейся воде, к разнообразному царству прилетевшей птицы. В Страстную субботу мы уже гуляли с сестрицей по высохшему двору. В этот день мой отец, тётушка Татьяна Степановна и тётушка Александра Степановна, которая на то время у нас гостила, уехали ночевать в Неклюдово, чтобы встретить там в храме Божием Светлое Христово воскресенье. Проехать было очень трудно, потому что полая вода хотя и пошла на убыль, но всё ещё высоко стояла; они пробрались по плотине в крестьянских телегах и с полверсты ехали полоями; вода хватала выше колёсных ступиц, и мне сказывали провожавшие их верховые, что тётушка Татьяна Степановна боялась и громко кричала, а тётушка Александра Степановна смеялась. Я слышал, как Параша тихо сказала Евсеичу: «Эта чего испугается!» – и дивился тётушкиной храбрости. С четверга на Страстной начали красить яйца: в красном и синем сандале, в се́рпухе и луковых перьях; яйца выходили красные, синие, желтые и бледно-розового рыжеватого цвета. Мы с сестрицей с большим удовольствием присутствовали при этом крашенье. Но мать умела мастерски красить яйца в мраморный цвет разными лоскутками и шемаханским шёлком. Сверх того, она с необыкновенным искусством простым перочинным ножичком выскабливала на красных яйцах чудесные узоры, цветы и слова: «Христос воскрес». Она всем приготовила по такому яичку, и только я один видел, как она над этим трудилась. Моё яичко было лучше всех, и на нём было написано: «Христос воскрес, милый друг Серёженька!» Матери было очень грустно, что она не услышит заутрени Светлого Христова воскресенья, и она удивлялась, что бабушка так равнодушно переносила это лишенье; но бабушке, которая бывала очень богомольна, как-то ни до чего уже не было дела.
Я заснул в обыкновенное время, но вдруг отчего-то ночью проснулся: комната была ярко освещена, кивот с образами растворён, перед каждым образом, в золочёной ризе, теплилась восковая свеча, а мать, стоя на коленях, вполголоса читала молитвенник, плакала и молилась. Я сам почувствовал непреодолимое желанье помолиться вместе с маменькой и попросил её об этом. Мать удивилась моему голосу и даже смутилась, но позволила мне встать. Я проворно вскочил с постели, стал на коленки и начал молиться с неизвестным мне до тех пор особого роду одушевленьем; но мать уже не становилась на колени и скоро сказала: «Будет, ложись спать». Я прочел на лице её, услышал в голосе, что помешал ей молиться. Я из всех сил старался поскорее заснуть, но не скоро утихло детское моё волненье и непостижимое для меня чувство умиленья. Наконец, мать, помолясь, погасила свечки и легла на свою постель. Яркий свет потух, теплилась только тусклая лампада; не знаю, кто из нас заснул прежде. К большой моей досаде, я проснулся довольно поздно: мать была совсем одета; она обняла меня и, похристосовавшись заранее приготовленным яичком, ушла к бабушке. Вошёл Евсеич, также похристосовался со мной, дал мне жёлтое яичко и сказал: «Эх, соколик, проспал! Ведь я говорил тебе, что надо посмотреть, как солнышко на восходе играет и радуется Христову воскресенью». Мне самому было очень досадно; я поспешил одеться, заглянул к сестрице и братцу, перецеловал их и побежал в тётушкину комнату, из которой видно было солнце, и, хотя оно уже стояло высоко, принялся смотреть на него сквозь мои кулаки. Мне показалось, что солнышко как будто прыгает, и я громко закричал: «Солнышко играет! Евсеич правду сказал». Мать вышла ко мне из бабушкиной горницы, улыбнулась моему восторгу и повела меня христосоваться к бабушке. Она сидела, в шёлковом платке и шушуне, на дедушкиных креслах; мне показалось, что она ещё более опустилась и постарела в своём праздничном платье. Бабушка не хотела разгавливаться до полученья петой пасхи и кулича, но мать сказала, что будет пить чай со сливками, и увела меня с собою.
Отец с тётушками воротился ещё до полдён, когда нас с сестрицей только что выпустили погулять. Назад проехали они лучше, потому что воды в ночь много убыло; они привезли с собой петые пасхи, куличи, крутые яйца и четверговую соль. В зале был уже накрыт стол; мы все собрались туда и разговелись. Правду сказать, настоящим-то образом разгавливались бабушка, тётушки и отец: мать постничала одну Страстную неделю (да она уже и пила чай со сливками), а мы с сестрицей – только последние три дня; но зато нам было голоднее всех, потому что нам не давали обыкновенной постной пищи, а питались мы ухою из окуней, мёдом и чаем с хлебом. Для прислуги была особая пасха и кулич. Вся дворня собралась в лакейскую и залу; мы перехристосовались со всеми; каждый получил по кусочку кулича, пасхи и по два красных яйца, каждый крестился и потом начинал кушать. Я заметил, что наш кулич был гораздо белее того, каким разгавливались дворовые люди, и громко спросил: «Отчего Евсеич и другие кушают не такой же белый кулич, как мы?» Александра Степановна с живостью и досадой отвечала мне: «Вот ещё выдумал! едят и похуже». Я хотел было сделать другой вопрос, но мать сказала мне: «Это не твое дело». Через час после разгавливанья пасхою и куличом приказали подавать обед, а мне с сестрицей позволили еще побегать по двору, потому что день был очень тёплый, даже жаркий. Дворовые мальчики и девочки, несколько принаряженные, иные хоть тем, что были в белых рубашках, почище умыты и с приглаженными волосами, – все весело бегали и начали уже катать яйца, как вдруг общее внимание привлечено было двумя какими-то пешеходами, которые, сойдя с Кудринской горы, шли вброд по воде, прямо через затопленную урёму. В одну минуту сбежалась вся дворня, и вскоре узнали в этих пешеходах старого мельника Болтуненка и дворового молодого человека, Василья Петрова, возвращающихся от обедни из того же села Неклюдова. По безрассудному намерению пробраться полоями к летней кухне, которая соединялась высокими мостками с высоким берегом нашего двора, все угадали, что они были пьяны. Очевидно, что они хотели избежать длинного обхода на мельничную плотину. Конечно, вода уже так сбыла, что в обыкновенных местах доставала не выше колена, но зато во всех ямах, канавках и стари́цах, которые в летнее время высыхали и которые окружали кухню, глубина была ещё значительна. Сейчас начались опасения, что эти люди могут утонуть, попав в глубокое место, что могло бы случиться и с трезвыми людьми; дали знать отцу. Он пришёл, увидел опасность и приказал как можно скорее заложить лошадь в роспуски и привезть лодку с мельницы, на которой было бы нетрудно перевезти на берег этих безумцев. Болтуненок и Васька-рыжий (как его обыкновенно звали), распевая громко песни, то сходясь вместе, то расходясь врозь, потому что один хотел идти налево, а другой – направо, подвигались вперёд: голоса их становились явственно слышны. Вся толпа дворовых, к которым беспрестанно присоединялись крестьянские парни и девки, принимала самое живое участие: шумела, смеялась и спорила между собой. Одни говорили, что беды никакой не будет, что только выкупаются, что холодная вода выгонит хмель, что везде мелко, что только около кухни в стари́це будет по горло, но что они мастера плавать; а другие утверждали, что, стоя на берегу, хорошо растабарывать, что глубоких мест много, а в стари́це и с руками уйдёшь; что одёжа на них намокла, что этак и трезвый не выплывет, а пьяные пойдут как ключ ко дну. Забывая, что хотя слышны были голоса, а слов разобрать невозможно, все принялись кричать и давать советы, махая изо всей мочи руками: «Левее, правее, сюда, туда, не туда» и проч. Между тем пешеходы, попав несколько раз в воду по пояс, а иногда и глубже, в самом деле как будто отрезвились, перестали петь и кричать и молча шли прямо вперёд. Вдруг почему-то они переменили направленье и стали подаваться влево, где текла скрытая под водою так называемая новенькая глубокая тогда канавка, которую можно только было различить по быстроте течения. Вся толпа подняла громкий крик, которого нельзя было не слышать, но на который не обратили никакого вниманья, а может быть, и сочли одобрительным знаком, несчастные пешеходы. Подойдя близко к канаве, они остановились, что-то говорили, махали руками, и видно было, что Василий указывал в другую сторону. Наступила мёртвая тишина: точно все старались вслушаться, что они говорят… Слава богу, они пошли вниз по канавке, но по самому её краю. В эту минуту прискакал с лодкой молодой мельник, сын старого Болтуненка. Лодку подвезли к берегу, спустили на воду; молодой мельник замахал веслом, перебил материк Бугуруслана, вплыл в стари́цу, как вдруг старый Болтуненок исчез под водою… Страшный вопль раздался вокруг меня и вдруг затих. Все догадались, что старый Болтуненок оступился и попал в канаву; все ожидали, что он вынырнет, всплывёт наверх, канавка была узенькая и сейчас можно было попасть на берег… но никто не показывался на воде. Ужас овладел всеми. Многие начали креститься, а другие тихо шептали: «Пропал, утонул»; женщины принялись плакать навзрыд. Нас увели в дом. Я так был испуган, поражён всем виденным мною, что ничего не мог рассказать матери и тётушкам, которые принялись меня расспрашивать: «Что такое случилось?» Евсеич же с Парашей только впустили нас в комнату, а сами опять убежали. В целом доме не было ни одной души из прислуги. Впрочем, мать, бабушка и тётушки знали, что пьяные люди идут вброд по полоям, а как я, наконец, сказал слышанные мною слова, что старый Болтунёнок «пропал, утонул», то несчастное событие вполне и для них объяснилось. Тётушки сами пошли узнать подробности этого несчастия и прислать к нам кого-нибудь. Вскоре прибежала глухая бабушкина Груша и сестрицына нянька Параша. Они сказали нам, что старого мельника не могут найти, что много народа с шестами и баграми переехало и перебралось кое-как через стари́цу и что теперь хоть и найдут утопленника, да уж он давно захлебнулся. «Больно жалко смотреть, – прибавила Параша, – на ребят и на хворую жену старого мельника, а уж ему так на роду написано».
12. Эту сказку, которую слыхал я в продолжение нескольких годов не один десяток раз, потому что она мне очень нравилась, впоследствии выучил я наизусть и сам сказывал её, со всеми прибаутками, ужимками, оханьем и вздыханьем Палагеи. Я так хорошо её передразнивал, что все домашние хохотали, слушая меня. Разумеется, потом я забыл свой рассказ; но теперь, восстановляя давно прошедшее в моей памяти, я неожиданно наткнулся на груду обломков этой сказки; много слов и выражений ожило для меня, и я попытался вспомнить её. Странное сочетание восточного вымысла, восточной постройки и многих, очевидно, переводных выражений, с приёмами, образами и народною нашею речью, следы прикосновенья разных сказочников и сказочниц – показались мне стоящими вниманья. – Примеч. молодого Багрова.